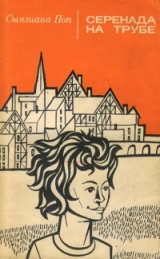
Текст книги "Серенада на трубе"
Автор книги: Сынзиана Поп
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Сынзиана Поп
СЕРЕНАДА НА ТРУБЕ
Роман
Перевод с румынского Татьяны Ивановой
Послесловие Е. Азерниковой
Sânziana Pop Serenadă la trompetă
BUCUREŞTI, 1969
День первый | ТЫ ЕГО ЛЮБИЛА, ОН ТЕБЯ ЛЮБИЛ

1
Меня поймали – я курила в клозете. Поймали, когда я думала, что совсем одна. Одна на всем свете и счастлива, и размышлять могу о чем угодно. Сквозь сводчатое окно радужно фильтровался свет. Даже здесь были витражи, и во всех службах тоже. Дым вспыхивал в солнечных лучах красным и лиловым, странные узоры смешивались как попало, превращаясь в насыщенный синий цвет.
Меня не мутило от сигареты, я уже курила раньше.
Да я и не затягивалась глубоко, дым я держала во рту: у него был приятный запах. Сигареты найти было нетрудно, Они лежали во всех серебряных коробках и, подозреваю, не были пересчитаны – единственная в доме вещь без описи.
Он постучал в дверь, и мне некуда было деться. Я‑то считала, что старик сидит на наблюдательной вышке, но он, может, что–то унюхал – не дым, дым до вышек не доходил. Просто я утром вертелась в столовой, и он заметил, он все всегда замечал.
Я вышла и остановилась. Он ждал меня у двери. Каменный коридор был узкий – двум людям не разойтись. И не пройти, если кто–нибудь стоит, а он и не думал двинуться с места.
– Дыхни, – сказал он, но дым уже валил из открытой двери, настигая меня, дым и солнечные лучи.
Мне вдруг захотелось смеяться, и тут уж я дала себе волю, смеяться приходилось редко, но этого у меня еще не отняли. Думаю, я смеялась так редко потому, что знала все наперед. И вот я засмеялась. Я хохотала, а дым все догонял меня, цеплялся за уши и за нос, за руки и шею, перевязывал меня прозрачными бинтами.
– Поедешь к своей матери в горы, – сказал он, – вечером решим, когда.
Он повернулся и заскользил под каменными сводами, переливаясь из движения в движение. Большая домашняя улитка. И слова в нем булькали, словно шарики клея.
Я спустилась во двор по черной лестнице. В глубине сада были качели. Мне хотелось покачаться на них всласть. В горах чересчур высокие деревья, и растут они слишком часто. Между елками качаться нельзя. А представляю себе, как хорош был бы лес, где множество девочек взлетают взад–вперед на качелях!
Я сижу на качелях лицом к двору. Двор каменный, и стены тоже. И дом каменный. И соседние дома и дворы тоже. И все вокруг сколько хватает глаз. Камень. Но чтобы это увидеть, нужен огромный рывок, нужно, хорошенько держась за веревки, как следует напрячь ноги и руки и с силой оттолкнуться. Много чего нужно, чтобы взлететь туда, где никто и ничто не может помешать тебе делать, что хочется, а главное, нужна смелость и дерзость – увидеть сразу весь город и эту странную свободу, разлитую за старыми стенами вокруг.
Я сижу на качелях лицом к двору. Когда раскачиваюсь, ноги вначале видны лишь немножко, но я скольжу к верхушкам деревьев, и юбка взвивается выше колен. Потом показываются ворота. Свет, процеженный сквозь доски, похож на паука. Лечу вниз, закрываю глаза, и ветер послушно одергивает мне юбку. Только со второго захода начинаю набирать высоту. Двор скользит под откос, я взлетаю к каменным стенам раньше ветра, открываю глаза и вижу жестяных петухов в вышине. И снова двор, голова моя почти достает до земли. И снова петухи. Они зеленые и рвутся со мною вверх. Черепицы отделяются, летят за мной целым роем. И снова земля. Падаю. Петухи текут у меня между рук. И черепицы. Пикирую в листву. Небо. Стены города, башни, усеянные птицами. Земля. Воздух лижет мне щеки. Земля, небо, земля. Камнем вниз. Снова вверх. Снова, снова. Не достать мне до солнца, его лепешка далеко. До солнца мне не достать. Я раскачиваюсь. Снова и снова. Сгибаю и разгибаю колени, длинными веслами ног загребаю воздух, я сгибаю колени и разгибаю их, у меня есть крылья, и я рассекаю воздух, поднимаюсь. Солнце, солнце. Не достаю я до солнца, потом достаю. Хап! Хватаю его и тяну. Эмалевым звоном звякают черепицы. Я привязала его и срываю. И оно падает. И течет по колючим диким грушам. Его желтые лохмотья летают над садом – маленькие световые флажки.
Я над городом. Я победила. Выше, я поднимаюсь все выше, и хотелось бы, чтобы кто–нибудь сыграл мне сейчас на трубе.
2
– Барушня, барушень!
Красная как рак Эржи цеплялась за дерево и кричала:
– Барушня!
– Останови меня, Эржи, хватайся за веревки! Она остановила качели, и я уперлась одной ногой в землю. Кружилась голова, и почему–то хотелось идти вперед. И еще – будто где–то у меня внутри между ребрами позвякивали маленькие качели.
– Ты что?
Она плакала.
– Барушня, что вы наделали?! У вас нужно табак? Барин сказал – приготовить чемоданы. Зачем, куда вы поедете?
– Уезжаю, Эржи, поеду к маме-Мутер. Какого черта ты плачешь? Пошли на кухню.
Я спрыгнула с качелей и направилась к дому. Сад был маленький, горстка зелени да еще четыре груши, выросшие в каменных гнездах. И двор был мощенный булыжником, весенние потоки катились по нему, брызгая пеной.
Кухня находилась в первом этаже. Огромное помещение с большой печью «Мюллер и Стамм», на полу – линолеум, а на стенах изречения: «Где хозяйка хороша, муж домой бежит спеша» – или: «Рано утречком вставай, лицо, руки умывай». Эржи жила при кухни там стояли ее кровать и шкаф. Особенно приятно было утром – на дверце шкафа висели самые разные ленты для волос. Можно смотреть на них или думать, о чем твоей душе угодно. На постели лежал большой пуховик, набитый куриным пером, можно было завернуться в него, и сразу тебе приходили в голову самые разные мысли. Там я впервые подумала о Мананином полицейском. Я его прекрасно себе представила – с усами, в фуражке, но только непременно стоя. Никакими силами не могла я вообразить его в лежачем положении, у него был огромный живот, а я почему–то решила, что он должен спать непременно лицом вниз. Но как может пузатый человек спать лицом вниз?! Думала я и о других интересных вещах. Рядом возилась Эржи, и за ней по пятам шли шумы – я любила слушать, как она чистит картошку, как льет молоко из подойника в кувшины, как вынимает бутыли из кладовки и они чокаются – дзинь, дзинь! – бутыли с бульоном и маслом, с компотом из ревеня и вареньем, потому что в этом доме ели в огромных количествах. В кладовках был запас на шесть лет вперед. Повидло засыхало в банках, шербет стекленел навечно и сиропы из шиповника тоже, куски сала давно пахли плесенью, но это никого не тревожило. Не тревожили ни мыши в сараях, ни мухи, ни плесень, ни красные пауки на макаронах, ни прусаки – можно было видеть, как они кишели на кухне в лунные летние ночи, как обжирались и падали. В доме были продукты. На продуктах зиждилось семейное благополучие.
Но так я думала позднее, а в этом рассказе, написанном от первого лица, мне нельзя быть ни слишком умной, ни слишком глупой – я должна быть такой, какой бывает пятнадцатилетняя девушка.
Я уселась на пуховик и посмотрела на Эржи. Она стояла у печки, дрожа и заливаясь слезами.
– Эржи, – попросила я, – подними–ка юбку.
Она подняла красную юбку, а внизу была еще одна красная юбка.
– И вторую подними, Эржи.
Она подняла и вторую.
– А еще сколько красных до первой белой?
– Ишо две, – сказала она и утерла нос.
– И их подними!
Она подняла еще две юбки, потом еще четыре – и все. Она стояла прямо; толстые красные ноги были всунуты в тапки, les pantoufles[1]1
Тапочки (франц.).
[Закрыть], вспомнилось мне, и я спросила Эржи:
– Dis moi[2]2
Скажи мне (франц.).
[Закрыть], Эржи, откуда у тебя ces pantoufles?
– Не смейтесь надо мной, барушня, сказала она, – мне жалко, што. Зачем, куда вы едете?
– Нет, Эржи, ты все–таки скажи, откуда у тебя ces merveilleux pantoufles?[3]3
Эти прекрасные тапочки (франц.).
[Закрыть]
– Kérem szépen[4]4
Прошу (венг).
[Закрыть], не смейтесь надо мной, én nem kisasszony[5]5
Я не барышня (венг.).
[Закрыть] Мезанфан[6]6
От французского mes enfants – дети мои.
[Закрыть]. Мне очень жаль.
И она снова заплакала.
– Ну ладно, Эржи, ладно, опусти юбки. И перестань причитать. Слышишь?
Склонив голову, она вся содрогалась от рыданий, мне видна была прямая ниточка пробора посреди головы, кончик красного носа и несколько рядов стеклянных бус, подпрыгивающих на груди. Она уже поседела, но все еще оставалась в городе. Она приехала сюда, чтобы научиться хорошим манерам, – венгерским девушкам перед замужеством полагалось на три года приехать в город и поступить в услужение, чтобы они дома, в деревне, могли быть настоящими хозяйками. Но времена изменились, она мне так и сказала: «изменили времена», – и ее учение было теперь ни к чему. «Бодор женился тием временем, что поделаешь? Придется останется здесь». И она осталась.
– Ты почему не уезжаешь? – спросила я. – Почему бы тебе не работать дома, раз уж ты все равно работаешь?
– Привыкла я здесь. Братья все переженились и сестры, родители есть теперь старые. Что делаться?
Она еще ходила на прогулки по четвергам и воскресеньям, кого–то ждала, ходила каждую неделю. Надевала другие, янтарные бусы, разноцветные ленты и отправлялась. Может, она тоже ждала своего полицейского. В сорок–то лет кого же еще найдешь? Только вдового полицейского – больше никого.
– Эржи, как Манана нашла своего полицейского? И почему он ее бросил?
– Не знай, барушня. Манана не говорит. Манана свистит. Бедняжка.
– Да знаешь ты, только сказать не хочешь.
– Не знай.
– Ладно, дай мне хлеба с маслом. Пожалуйста.
– И с помидором?
– Да. Только не режь. Так дай. И без соли.
Я любила помидоры. В особенности я любила с ними бутерброды. Всю зиму я мечтала о бутерброде с помидором и, когда наступало лето, наедалась так, что хватало до новой зимы.
Эржи подала мне тарелку и села на постель. Свои большие руки она прятала в подоле юбки, руки, которые раз в неделю она травила щелоком. Но пахли они не щелоком, а зеленью для супа.
– Эржи, знаешь, твои руки пахнут пастернаком.
– Знай.
– И огурцами.
– Знай.
Она снова заплакала и кинулась мне на шею.
– Куда вы едете, барушень?! У вас мама не есть нормальная.
– Да нет, нормальная. В неделю четыре дня. А больше и не надо, больше не о чем и говорить. Ну о чем говорить, Эржи, ты скажи?
Не нравятся мне люди, которые слишком много говорят. Слова – это корабли, которые ты грузишь и спускаешь на воду. Кто много говорит, у того внутри пусто – покинутый порт, собаки живой в нем не сыщешь. Потому мне и нравится Эржи. У нее нет никакой инициативы, она лишь отвечает на вопросы. Все мои корабли стоят в порту, а сколько еще причаливает, ой–ой!
– В горах хорошо, Эржи. Там спокойно, катайся себе весь день на лыжах.
– А школа?
– Обойдется и без школы. Катаешься себе на лыжах и привозишь для базы продукты. Моешь посуду. Ты–то ведь ее моешь!
– Не для вас это дело! Вы ведь барушень. Нужен иметь успех в жизни. Как барушень Клара.
– Клара – Мария-Деспине, Эржи, ты же знаешь, иначе тетушка Алис сердится.
– Не могут я так выговорить, только нужно, чтоб был свой занятий. Не быть вроде меня, на чью–нибудь милость. Должен и дальше ходить в школу.
– А ты училась в школе?
– Четыре класса. Дольше не мог. У меня был меньшие братья, теперь все. Надо был у них растить. Ходите в школ, барушень. Слушайте меня. Идите в интернат. Это можно.
– Кто платить–то будет, Эржи? Задаром нельзя.
– Да можно. Надо узнавать.
– А одежда? Кто мне ее сошьет, Эржи? Ты дашь мне взаймы две юбки?
– Все дам, что есть. И душу свою дам.
– И ленты, и les pantoufles?
– Все.
Она опять плакала и обнимала меня. Я чувствовала, как она дрожит, и мне вдруг стало ее жалко. Я взяла ее за руки и принялась успокаивать. Не переношу, когда люди плачут. Мама – Мутер поет, и я так привыкла. Манана свистит. У нас в семье никто не плачет, а что там ни говори – это моя семья: мама, я и Манана, которая мать Мутер и моя бабушка.
3
Две лестницы ведут со двора в дом. Здание построено в форме моста. Когда–то вдоль нижнего коридора тянулись прилавки с товарами. Деревянных ворот не существовало, по вечерам торговля шла при свечах. Сохранились еще закопченные стены и огромная дверь, преграждающая свет с улицы. Вход – это туннель, который ведет к маленькому садику, выросшему на камне. В коридоре нет лампочек, тьма там царит всегда, но в особенности вечером, когда сад поглощен тенью. Хотя существует электрическая сеть, дом освещается свечами. В подвале со времен «расцвета торговли» хранятся комки воска, и старик занимается еще и изготовлением свечей. Только для семьи. Тонких, анемичных свечей на каждый день и толстых белых – для подсвечников, которые зажигаются в дни приемов. Главная задача – уповать на дневной свет и на воспоминании о горном солнце. Комнаты настолько мрачные, что пламя свечей лишь увеличивает темные углы. И холодно. Гораздо холоднее, чем на улице, особенно летом. Если не выйдешь время от времени погреться, то рискуешь промерзнуть до мозга костей.
Я вошла в дом и поднялась наверх. Клара – Мария-Деспине играла на рояле. Как ни старалась я не скрипеть лестницей, она меня услышала и устроила свою обычную истерику. Я попыталась отвлечь ее внимание, но тщетно.
– Здорово у тебя выходят эти трели, – сказала я. – Мне, хоть лопни, не сыграть так.
– Espèce d'imbécile![7]7
Идиотка! (франц.)
[Закрыть] – крикнула она и упала на постель, хотя сказать «упала» – значит сильно преувеличить. Для персоны ростом с половину международного женского рекорда по прыжкам в высоту стоять на ногах или находиться в лежачем положении – вещи неразличимые. Как бы то ни было, она уже не играла на рояле, она плакала, а ведь не так–то и легко исторгать из себя рыдания, внятные уху старика, который сидит на вышке. Правда, несколько пронзительных «ах!», испускаемых через равные промежутки времени, существенно увеличивали звуковой эффект этой демонстрации, но все же недостаточно.
Я сидела на табурете у рояля и смотрела на нее. Я думала, удастся ли мне назло крутануться хоть раз на штопоре табуретки. Я умела так оттолкнуться, чтобы сразу сделать налево три оборота. Направо – только два. Правая нога у меня была гораздо сильнее, хотя сам стул тоже играл роль. Важно было, как смазан винт, хрупкий он или прочный и так далее.
– Что ты там делаешь? – произнесла она. – Слезай. Нечего тебе сидеть в своем вонючем платье на моем стуле. Уверена, что ты опять заходила на кухню.
Она встала, но это не имело никакого значения, могла бы преспокойно себе лежать.
– Хватит! – сказала я. – Ну чего ты сердишься? Ты же знаешь, что иначе по лестнице не пройти.
– Кто тебе сказал, что ты ходишь? Ты топаешь. Ты на своих ходулях, да разве ты можешь передвигаться иначе?
– Не правда ли?! – поддержала я ее и все же была вне себя от удивления.
Эта девочка говорила неслыханно даже для гениального ребенка. Потому что это была моя двоюродная сестра Клара – Мария-Деспине, а она была гениальным ребенком. Большой надеждой, которая должна стать уверенностью. И образцом. Постоянным образцом для меня и радостью семейства.
– Отойди, – произнесла она и подошла ко мне, но глаз не поднимала.
Ей и так, чтобы говорить со мной, приходилось задирать голову, а что, если бы я встала? Сколько я себя помню, во мне было не меньше метра семидесяти сантиметров. Даже не знаю, в кого я такая, потому что все у нас маленькие, в особенности Манана и мама-Мутер. Манана из–за тележки. С тех пор как она не может двигаться, она помещается в ней. Всякий человек, просидев десять лет на одном месте, уменьшается в размерах, сплющивается, как складной дорожный стаканчик. Что толку существовать, если ты все равно не можешь свободно передвигаться. Хотя Манана не скучает, потому что свистит. Не так, как на футболе. Мало есть женщин, которые умеют свистеть в два пальца, и я одна из них, но Манана делает это тихо. Мне кажется, что у нее это свист–воспоминание, она насвистывает сквозь зубы, потихоньку и при этом улыбается. И многое тут проносится в ее голове. Все думают, что она человек конченый, но дело здесь гораздо сложнее, это они все – конченые, и давно, а Манана великолепна. Вот вы увидите, но что мала она, то мала, это точно, и все из–за этой проклятой тележки. Им не под силу было купить ей нормальное кресло или хотя бы качалку. Ее возят, как мешок картошки. Вы видели когда–нибудь человека в маленькой рыночной тележке на четырех колесах? Ну так вот, это Манана! Мешок картошки, который свистит; нравится вам или нет, но это так.
Мама – Мутер маленькая, потому что уж она такая уродилась. Если призадуматься над тем, что она поет, то, пожалуй, мне следовало бы быть гениальным ребенком. От бабушки–свистуньи и голосящей мамаши другого произойти и не могло, потому что Мутер именно тем и занималась, когда я у нее жила. Ходила нагая и голосила. Она пела в лесу что–то вроде маршей, но пела их громко и очень красиво. Во всяком случае, стоило послушать.
Я встала с табуретки.
– На диван я могу сесть?
Она пожала плечами, и это могло означать что угодно, хотя я моментально решила – «да». Я всегда очень скучала в воскресенье утром, а в каникулы и подавно. Нельзя было прерывать уроки французского с мадам Мезанфан. О рояле и говорить нечего, хотя я бы занималась им с удовольствием. Но Клара – Мария-Деспине играет за все семейство. Все надежды сошлись на ней, на «обычный» вариант не осталось сил. Потому что я для них была именно таким вариантом, и ничем больше.
– Сыграй еще раз эти трели, – сказала я и уселась на диван.
Боже, когда ты научишься говорить? – произнесла она. – Это пьеса Моцарта, а не «эти трели».
Очень хорошо. Не все ли равно? Слышно–то это. Невелика важность, как назвать.
Опустив руки по швам, Клара – Мария-Деспине сосредоточилась. Она обычно сидит так минут пять. Я не поклялась бы, что она думает о музыкальной пьесе. Есть тысяча всяких вещей, о которых можно поразмышлять, как только закроешь глаза. Вот почему я люблю по вечерам, перед тем как заснуть, и утром, проснувшись, лежать в постели. В особенности по вечерам. Легче схватить за шиворот какую–нибудь мысль, подержать ее и пристально рассмотреть. Хотя я никогда не думаю о том, что было, о том, что случалось со мною раньше. Этого ведь не вернешь. Я не могу думать о себе как о мертвеце. Потому что это значило бы: потерянные дни, недели, зимние и летние месяцы, утраченные слова и жесты; мои разноцветные мертвецы торжественно проезжают на роликах. Гораздо лучше чего–то желать, загадывать наперед. Хотя бы то, что ты впереди и бежишь, волоча за собой караван на колесах. И смеешься покамест. Воруешь время и отправляешь его назад, как в детективных романах. Безумные гонки по большому городу, первая улица налево, вторая направо, и всегда, постоянно так.
Клара – Мария-Деспине заиграла на рояле. Вначале все шло нормально, а потом вдруг начались эти трели, по которым я схожу с ума. Будто кто–то быстро–быстро работал на спицах, но кто–то во мне, потому что это что–то во мне. Какие–то узоры. Кружева, которые все наплывают друг на друга, а потом изливаются веером в белую пену муслина, органди, оборок, лент и ажурного шелка. Я очень хорошо это себе представляю, хотя как–то чудно все это писать. Но так оно и есть. Я всегда различу музыку Моцарта с жабо и бантами у запястий. Даже если не знаю, как называются его вещи.
– Сыграй еще раз. Пожалуйста.
– Ты что? – И она встала из–за рояля. Часы красного дерева пробили двенадцать. Она терпеливо подождала, пока они кончат, и открыла окно. Часы на старой городской башне тоже прозвенели двенадцать раз своими колокольчиками, двумя медными и одним серебряным.
– Отстают точно на две минуты, – заявила она. – Я так и знала. Я прозанималась ровно четыре часа минус то время, что ты здесь болтала. Больше мне не разрешают, испортится постановка руки.
Она уселась против меня на кресло, и вот приходится мне вести беседу с дорогой моей кузиной К. М. Д.
– Что ты будешь делать? – И она на меня смотрит.
Теперь ей это доступно – мы находимся на одном уровне. Она не забыла подложить под себя две подушки.
– Что я поделываю? Как всегда.
– Не дури, ты знаешь, о чем я.
Мне жутко нравится, как она рассуждает, но не в часы игры на рояле. Я уже вам говорила. – Не знаю.
– Думаешь, твоя мать обрадуется?
– Зависит от дня. Если это будет в один из четырех дней, то да.
– Каких четырех?
Любых. У нее это как придется. Иногда она с понедельника по четверг нормальная, но так бывает не всегда.
– Она все голая ходит?
– Не знаю, она не пишет, но если бы я знала, что тебе это интересно…
– Мне очень интересно, – сказала она и, потирая руки, засмеялась.
– Действительно так интересно? – удивилась я.
– Ты дура, как это может быть не интересно, когда в горы ходят и мужчины. Надеюсь, ты не хочешь сказать, что ноги сорок второго размера не ступают по горам?
– Не знаю, но еще с годик, и мои дорастут до сорок второго. У меня уже сороковой.
– Кошмар! Бедная твоя головушка!
– Почему кошмар? Разве ты не знаешь пословицы? Когда нет головы – бедняжки ноги.
– Какое это имеет отношение?
– Прямое. Когда есть ноги, голова не бедняжка. У тебя какой размер?
Она выкинула ноги из–под чехла стула с такой быстротой, что я разинула рот. У нее на самом деле были очень маленькие ноги. Ей не подходила никакая мода и в особенности туфли на гвоздиках, из–за которых она становилась похожа на мультипликацию. Когда–то давно я видела детский фильм, где пчелы были субретками. Единственное, что я запомнила, – это их глаза, рост и белые туфли на высоком каблуке, в которых у их ног–палочек был забавно–жалостный вид. Хотелось и смеяться и плакать – уж не знаю, как это получалось. Да в конце концов, я не очень–то высокого мнения о людях с маленькими ногами и широкими бедрами. А у К. М. Д. с бедрами тоже обстояло неплохо. Но может, именно поэтому ее и интересовали ноги сорок второго размера. Может, существует связь между бедрами и размером ног, поскольку на свете есть миллионы связей.
– Конечно, мужчины тоже ходят в горы. Но Мутер их не боится, как и они ее. Женщина, о которой говорят «несчастная», их совершенно не интересует.
– И она им в таком виде показывается?
– Не знаю, о каком таком виде ты думаешь, но если о голом, то будь спокойна. Показывается.
Она опять смеется и умирает от удовольствия. Наверно, ей бы очень понравились всякие грязные романы. Это сразу видно. Иногда люди так произносят слова, что это их выдает. Есть такие слова… думаешь о них особенно ночью, но думаешь как–то непривычно, так что на следующий день не можешь их произнести просто, – ну, как скажешь, например: «Дай на минутку велосипедный насос». Эти слова – будто лишняя рука или лишний глаз, никакими силами от них не отделаешься, уж до того они к тебе приросли, что можно сойти с ума. А потом привыкаешь и отделываешься от них, хотя ноги сорок второго размера давно приводят в восторг К. М.Д. Я все знаю и не притворяюсь, что не помню.
– Ты видела еще Якоба – Эниуса-Диоклециана?
У девочки с тремя именами не может быть друга, не обладающего хотя бы равными отличительными свойствами. Собственные имена – это такие, которые даются живым существам или предметам, чтобы отличить их от им подобных. Не знаю, в какой мере удалось это с Якобом – Эниусом-Диоклецианом, но что касается Клары – Марии-Деспине, то ее тройное отличие от существ, ей подобных, начинается с потрясающего умения врать. Никогда в жизни не встречала я человека, который воображал бы, что может так водить меня за нос специально, чтобы разозлить. Ибо вот какой произошел разговор:
– Вы еще виделись?
– Он надоел мне. Вчера прислал четыре букета цветов.
Есть такие девочки: когда они говорят так, ты веришь, и, хотя им никто никогда ничего не посылал, ты готова поклясться, что кто–то кладет к их ногам все орхидеи нашего континента. С ума сойти, как они произносят слова, и это придает вес их вранью… Дело даже не в том, что им нужны цветы, – просто они вообразили себе, что это им к лицу. А Клара – Мария-Деспине – воплощение всего необыкновенного, что только может представить себе человек.
– Если так, то почему ты его не бросаешь?
– Всему виною сплин.
Да, да. Это вранье только наполовину. Вернее сказать – смещение. К. М. Д. действительно в сплине, но сплин этот из–за Якоба – Эниуса-Диоклециана – от ожидания, а не от скуки. Потому что виделись они один–единственный раз, да и то мельком. Было это на ее именины, пришли гости. Прежде всего родители. По двое при каждом ребенке, да еще по тетушке, поскольку они были привязаны к племянникам больше, чем следовало. Такого рода гости сидят и выжидают. Вернее, подстерегают. Молодежный вечер с сандвичами и с танцами может стать событием. О нем можно говорить потом шесть недель: как жевали, как смеялись, садились на стул, вставали и всякое другое в этом роде, что подстрекает любопытство каждого честолюбивого родителя. Ибо подобные наблюдения неизменно приводят к выводу о победе на состязании. Секрет уносили домой в торбе, среди пустых коробок из–под пирожных, семейная радость была обеспечена на два месяца: сын (дочь) явно оказывался (лась) самым удачным экземпляром на вечеринке у Икс. Но в тот раз дела обернулись по–другому. Победа оказалась за мальчиком, который пришел один, – за Якобом – Эниусом-Диоклецианом, одноклассником Клары – Марии-Деспине. А вначале такое никому бы не взбрело и в голову. Если бы зашла речь о том, на какую лошадь делать ставку, то, конечно, уж на кузена Октавиана – он вторая надежда семейства, рыжий и крупный мальчик, очень сильный в математике. Октавиан, жуя, прогуливался взад–вперед, он прекрасно владел собой, голос у него ломался, каждое слово звучало в другом диапазоне, то в басовом, то в баритональном, но основные аргументы приближались к сопрано, ну просто умрешь со смеху! Очень тонкий голос не слишком–то убедителен, даже если им говорят интересные вещи. Потому что это–то уж точно: шестнадцатилетний мальчик с ломающимся голосом всегда говорит гениальные вещи. Итак, Октавиан был лошадкой номер один, и я готова была ставить на него.
Но Якоб – Эниус-Диоклециан сел за рояль, сыграл, и тут–то все и началось. До этого еще ели, еще танцевали, но потом события ни на йоту не совпали с тем, чего я ожидала. Все молчали, это неестественное молчание людей соседствовало с молчанием вещей; девушки, размечтавшись, казались намного красивее, чем раньше, родители покинули свои караульные посты и даже не перешептывались, а смотрели в окно и бог знает о чем думали.
Только тетушка Алис, войдя в комнату, загудела, как автомобильный гудок. И все ее попытки как–то поправить дело ни к чему не привели, ибо ведь ничего такого и не произошло, что можно было бы исправить, и, думаю, она так никогда и не поняла, почему сковало нас это молчание, эта сладкая, как после слез, усталость. И никто не смог бы ей объяснить, потому что нельзя объяснить, отчего музыка сводит тебя иногда с ума, и ты умираешь, и возвращаешься к жизни, и снова умираешь, и вдруг ощущаешь себя за пределами имени, ощущаешь границы своего существа и место действия – в бесконечности, и в тебе вырастает огромная душа, где музыка, вскипая, обрушивается в бездну, разбрызгиваясь, вырывается вон и увлекает тебя за собой, рассеивая, разбрасывая по свету. А когда все уже кончено, остается смертельная усталость, как после болезни. Измотанный бурей пляж, по которому ползут крабы.
Якоб – Эниус-Диоклециан играл на рояле, и я вышла, чтобы поплакать. И потом всякий раз, как я просила Клару – Марию-Деспине играть, я делала это ради истины, ради того, чтобы убедиться, как далека она от него и как сродни был этот мальчик великому призванию – музыке. И с тех пор я гораздо лучше поняла, что на этом свете я представляю что–то очень малое и незначительное, и радовалась, потому что это освобождало меня от страха. И отдаляло смерть, которая слишком скоро и беспощадно придет за Якобом – Эниусом-Диоклецианом, она придет слишком рано – еще не обнаружит себя до конца вся его музыка.
Но тогда Якоб – Эниус-Диоклециан очень естественно встал из–за рояля, только мы не были в состоянии подняться. Мы сидели, прикованные к своим стульям, а он принялся есть, а потом сказал, что ему охота потанцевать.
– Я могу вам сыграть вальсы, – предложила Клара – Мария-Деспине.
– Вальс пускай танцует твоя бабушка, – сказал он, – а магнитофона у тебя нет?
– Ш–ш–ш! – И моя дорогая кузина приложила к губам палец, но в подобных случаях главное было поглядеть ей в глаза. – У нас магнитофон запрещен, – зашептала она, хотя все обстояло гораздо проще: в доме, где пользовались свечами, не было электрических розеток, а магнитофоны на транзисторах трудно было купить.
– Я все–таки сыграю вам.
И она сыграла. Никогда я не прощу ей то, что она разом нарушила колдовство. Несколько человек попытались танцевать, но ничего не получилось, а потом все разошлись по домам. И даже Якоб – Эниус-Диоклециан. Так что уж не знаю, какая там была идиллия и какие букеты цветов, вернее, точно знаю, что ничего такого не было, а была только потрясающая манера Клары – Марии-Деспине безбожно врать.
Сквозь открытые окна входила тишина. Летняя, полуденная тишина, когда мужчины – еще на работе, женщины – на кухнях, дети – кто на пляже, а кто в садах; расслабленные, пресыщенные играми, они валялись на траве, а над ними нависал небосвод. И только белесые камни мостовой, точно глаза карпов, отражались в окнах, и окна казались аквариумами, где плавали рыбы.
– Пошли погуляем, – позвала я К. М. Д., которая умирала от скуки.
– Как это мы будем гулять? Опоздаем к обеду.
– Ну и что ж, что опоздаем? Что случится? Тебе никогда ничего не бывает, а мне уже все равно.
– Что такое ты говоришь? – Она посмотрела на меня, точно утка. Откинув назад голову и уставившись одним глазом. – Как это?
– Послушай, ну что случится, если ты однажды немножко запоздаешь к обеду?
– На сколько?
– Ну, скажем, на час.
– Глупости ты болтаешь. Я никогда не опаздываю.
– Знаю, что не опаздываешь, но предположим, что опоздаешь. Что случится?
– Ничего не случится. Ты черт знает как опаздываешь и теперь хочешь, чтобы и я опаздывала.
– Вот и прекрасно, опаздывай. Почему бы тебе не попробовать? Разве нет на свете такого, ради чего стоит рисковать? Такого, что тебе бы безумно нравилось? Целоваться, или читать книгу по десять раз, или чего еще, такого, из–за чего, если тебе запретят это делать, – свет не мил?
– Не понимаю, что это ты городишь? Говоришь как–то с пятого на десятое. Зачем рисковать? Всему свое время. Гулять полагается с мадам и после обеда, иначе будет жуткий тарарам. Это тебе одной нравится. И довольно об этом, я не хочу понапрасну волноваться.
Она любила, чтобы за ней оставалось последнее слово, и я уж ее не трогала, она была гораздо лучше, гораздо переносимее, пока молчала. Она сидела с закрытыми глазами и словно дремала, а может быть, о чем–нибудь размышляла. Не знаю только о чем. Уж такая она была осторожная… Но не думаю, чтобы от мыслей ей была бы какая–нибудь польза…








