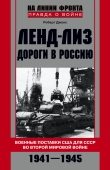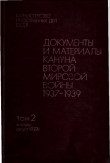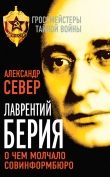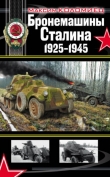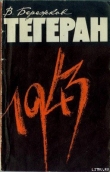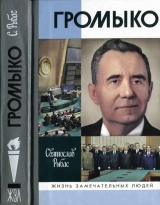
Текст книги "Громыко. Война, мир и дипломатия"
Автор книги: Святослав Рыбас
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Глава 45.
ГРОМЫКО – ГЛАВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Такова была печальная картина советской действительности во второй половине 1980-х годов. Несмотря на то, что Андрей Андреевич оставался членом Политбюро и с июня 1985 года стал председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть конституционным главой СССР, он все заметнее и заметнее отставлялся новой командой от реальных дел. Вместо предполагаемых кандидатов на пост министра иностранных дел Корниенко, Добрынина или Червоненко Горбачев назначил Эдуарда Шеварднадзе, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии, человека, не имевшего никакого отношения к дипломатии и не знавшего ни одного иностранного языка. На вполне понятные сомнения самого Шеварднадзе Горбачев заявил ему: «Нет опыта? А может, это и хорошо, что нет? Нашей внешней политике нужны свежесть взгляда, смелость, динамизм, новаторские подходы… У меня нет сомнения в правильности выбора» {439} .
Посол Добрынин вспоминал: «Уход Громыко с поста министра иностранных дел, который он занимал почти 30 лет, по существу знаменовал собой окончание целой эпохи в советской внешней политике и дипломатии. Громыко был убежден по-своему в правильности этой политики и проявлял незаурядное упорство, талант и немалые профессиональные качества в ее осуществлении. Он был инициатором многих наших внешнеполитических шагов, в том числе в области ограничения вооружений. Главным для него была защита национальных интересов, как он их понимал, и в первую очередь твердое отстаивание завоеваний после тяжелой войны с фашистской Германией… Вместе с тем Громыко не был сторонником ненужных и опасных конфронтации, особенно с США. Он настойчиво боролся против угрозы новой войны, особенно ядерной, за заключение соглашения по ограничению вооружений. Это, впрочем, не мешало ему быть видным советским “рыцарем” “холодной войны”, особенно когда он считал, что нашим интересам угрожает империализм. Он был идейным коммунистом и верил в конечную победу идеалов коммунизма» {440} .
Громыко воспринял назначение Шеварднадзе болезненно, как свидетельство непонимания Горбачевым внешнеполитической ситуации, но продолжал поддерживать его.
Андрей Андреевич считал, что надо продолжить переговоры по разоружению, причем так, чтобы «американцы вели с нами дела честно без обычных своих увязок нерешенных проблем с нашими внутренними делами». Он говорил сыну, что «отучил их от этого». И уточнял: «Такая политика, не подкрепленная учетом взаимных интересов, компромиссами, уважением наших социалистических ценностей, обречена» {441} .
О Рейгане Громыко отзывался, как о «приятном в личном плане человеке» и считал, что встреча Горбачева с президентом может улучшить межгосударственные отношения. Правда, не обольщался, как можно подумать. За «приятным человеком» стояла грозная сила, Громыко это знал.
Показательно, что накануне встречи с Андреем Андреевичем в сентябре 1984 года Рейган чувствовал себя неуютно, а после – испытывал заметное облегчение и даже пошутил, что вести дискуссию с Громыко намного труднее, чем с кандидатом на президентский пост от демократической партии Мондейлом.
В этот период «раннего Горбачева» Громыко многое советовал молодому лидеру, один из его советов можно было бы высечь на скрижалях: «Мое твердое правило – не считать словесные обещания гарантией нашей безопасности» {442} .
Однако Михаил Сергеевич не очень нуждался в его подсказках и по вполне понятным причинам, диктуемым проблемами в экономике и морально-политическими ожиданиями общества, рванул с места в карьер. Уже в апреле 1985 года он предложил мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе и сокращение на 25 процентов стратегических ядерных сил, при условии, что США откажутся от СОИ. Программа «звездных войн», еще даже не разработанная, становилась реальным оружием Вашингтона, возвращавшим Москву в тревожные времена, когда США монопольно обладали атомной бомбой.
Добавим, что в рамках проекта СОИ 10 июня 1984 года экспериментальная ракета-перехватчик на 150-километровой высоте уничтожила боеголовку межконтинентальной ракеты. Этот, казалось бы, огромный успех американского ВПК был обеспечен размещенным на ракете-цели радиомаяком, который гарантировал попадание, то есть испытания были фальсифицированы ради получения в конгрессе США соответствующего финансирования программы и для дезинформации СССР, чтобы заставить его пойти на колоссальные расходы. Однако советской военной разведке удалось зафиксировать все особенности испытаний {443} .
Тем не менее СОИ как перспективная угроза, учитывая технологическое превосходство США, воспринималась очень тревожно.
6 августа того же года, в 40-ю годовщину атомной бомбардировки Японии, Горбачев объявил об одностороннем моратории на испытания ядерных ракет и призвал к демилитаризации космоса. Через два месяца он был с официальным визитом во Франции, высказал там предложение о сокращении советских и американских стратегических ядерных сил на 50 процентов при условии отказа США от СОИ, повторил о моратории на РСД в Европе и предложил включить Англию и Францию в решение проблемы равновесия по ракетному оружию в Европе.
Казалось бы, какой молодец, как быстро расправился с брежневско-устиновским милитаризмом! И что же он получил в ответ? Американцы сразу отвергли эти предложения, не прошедшие предварительной дипломатической обкатки на переговорах.
Громыко был разочарован. Он предвидел, что «громадные сокращения ядерных сил, которые мы предложили, приняты не будут». Сыну он говорил: «Я очень удивлюсь, если Рейган откажется от идеи военного превосходства над Советским Союзом. Я Горбачеву говорил, чтобы он не ждал легких побед. Между прочим, Брежнева, да и меня как министра, нельзя упрекнуть в непонимании того, что проблемы разоружения требуют кропотливой работы, их с наскока не решишь. Эти проблемы поддаются людям упорным и усидчивым, а не кавалеристам» {444} .
Но нет, Михаил Сергеевич не собирался оглядываться на патриарха. Как молодой казачок, вырвавшись из-под контроля отца, он выхватил шашку и поскакал на противника. И с тем же результатом.
Примером романтических представлений о возможностях дипломатии служит следующий эпизод, поведанный Шеварднадзе: «Уже во вторую нашу встречу – она состоялась в Нью-Йорке в сентябре 1985 года – я сказал Шульцу:
– Многое в мире зависит от состояния советско-американских отношений. А они во многом зависят от моих с вами человеческих отношений. Я намерен вести дело так, чтобы быть вам честным и надежным партнером, а при встречном желании – и другом.
Шульц порывисто встал из-за стола и протянул мне ладонь:
– Вот вам моя рука. Дайте вашу!
С тех пор я всегда ощущал его рукопожатие» {445} .
Как по-человечески не понять нового советского министра, сменившего «железобетонного» (высказывание Горбачева) Громыко, которого неспроста прозвали «Мистер Нет»? Улыбчивый и дружелюбный Шеварднадзе был его противоположностью и светился готовностью ни в коем случае не огорчать партнера.
Если не знать, что в это время саудовская нефть уже затапливала все энергетические рынки, обеспечивая советской экономике огромные валютные потери, то жест можно было бы отнести просто на счет кавказского темперамента.
В январе 1986 года был выдвинут план полного уничтожения ядерного оружия к 2000 году. Анатолий Андреевич удивленно спрашивал отца: «Зачем извлекать из внешнеполитического чулана старую хрущевскую разоруженческую калошу, столько сил и времени тратить на заранее обреченный план?» Андрей Андреевич тоже считал, что США и их союзники от ядерного оружия не откажутся, что нужно в первую очередь бороться против его распространения.
Бывший начальник Аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов вспоминал: «Мы в разведке были неприятно поражены появлением 15 января 1986 года заявления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева… Поражены не только тем, что нас никто не привлекал к работе над этим документом, но и самим его содержанием, волюнтаристским характером, оторванностью от реальной мировой действительности, политической, пропагандистской направленностью. Даже самый элементарный просчет возможной реакции в мире на это выступление мог бы убедить авторов в том, что оно не встретит никакой поддержки со стороны ядерных держав» {446} .
Дальше последовали новые инициативы Горбачева, которые Анатолий Громыко охарактеризовал скептически: достичь быстрого успеха, чего бы это ни стоило. На встрече в декабре 1986 года в столице Исландии Рейкьявике Горбачев предложил Рейгану 50-процентное сокращение стратегических ядерных сил, ликвидацию всех советских и американских РСД в Европе, приняв рейгановский «нулевой вариант». И снова все отвергнуто под предлогом, что данные предложения увязываются с отказом США от испытаний и размещения ПРО в космосе, то есть экспромт не получился.
Тем временем в МИД проходила, как выразился сам Громыко, «настоящая экзекуция профессиональным кадрам», то есть Шеварднадзе проводил чистку центрального аппарата и посольств: с лета 1985-го к марту 1991 года на своих постах осталось только два посла {447} .
Министр вел ту же линию, что и Горбачев в отношении союзных руководителей. С 1986 по 1988 год на уровне областных и республиканских партийных организаций было заменено две трети секретарей, из 115 членов Совета министров СССР, назначенных до 1985 года, через три года осталось 22. Но не будет преувеличением сказать, что тем самым, хотя и с явными пережимами, продолжалась практика, начатая Андроповым. Горбачевской группе казалось, что главную помеху преобразованиям в политической и экономической областях создают «застойные руководители». Поэтому такой подход к кадрам объяснятся уверенностью реформаторов, что новые руководители быстро обеспечат успех по всем направлениям. Чистка коснулась и армии: к концу1988 года были заменены все заместители министра обороны (кроме двоих), все первые заместители начальника Генерального штаба, командующий и начальник Штаба Вооруженных сил Варшавского договора, все командующие группами войск и флотов, командующие военными округами Советского Союза. Был заменен и министр обороны.
Однажды в январе 1987 года на совещании в МИД было предложено, чтобы партийно-правительственную делегацию в одну из африканских стран возглавил Громыко. Чрезвычайный и полномочный посол В.В. Цыбуков так вспоминал об этом эпизоде. Реакция Шеварднадзе была поразительной: «Чтобы я здесь этого имени больше не слышал!» {448}
Видимо, у Шеварднадзе были основания столь недипломатично выразить свое отношение к предшественнику, которого он в официальной обстановке называл «крейсером мировой внешней политики», а себя всего лишь «лодкой с мотором». Так, в январе 1986 года Шеварднадзе после своего официального визита в Японию по заведенной практике сделал сообщение на заседании Политбюро, затем в печати появилась соответствующая информация, в которой отсутствовала вторая часть дежурной фразы: «Политбюро заслушало сообщение о поездке и одобрило результаты визита». То есть одобрения не было.
Дело в том, что, рассказывая о поездке, министр коснулся вопроса о Курильских островах, на которые претендовала Япония, и заявил, что советская сторона в этом вопросе много напутала и что предстоит искать выход из этого положения. Услышав это, Громыко выдал Шеварднадзе резкую отповедь, сказав, что здесь никакой путаницы нет, просто нужно хорошо знать историю.
«Свое глубоко аргументированное выступление А.А. Громыко закончил вещими словами: “Лишней земли у нас нет!” С тех пор многие повторяют эти слова, не зная, кто и при каких обстоятельствах произнес их первым» {449} .
Надо ли объяснять, что испытывал сторонник оригинальных решений Шеварднадзе при упоминании имени патриарха, который терпеть не мог верхоглядства? А что испытывал Горбачев?
Поразительно, что сдержанный Андрей Андреевич однажды признался сыну: «Нет, Толя, я с ним давно разошелся, это какой-то звонок, а не мужчина, к тому же, по моим наблюдениям, злопамятный… К сожалению, тот Горбачев, которого я выдвигал в генсеки, и нынешний – совершенно разные люди… Не по Сеньке оказалась шапка государева, не по Сеньке!» {450}
Громыко, видимо, и сам чувствовал, что не понимает горбачевскую группу. Так, на Политбюро решали отменить присвоение имени Брежнева «с разных объектов», все согласились, и только один Андрей Андреевич предупредил: «С названия улиц, площадей имя Брежнева, считаю, нельзя снимать. Это рикошетом отразится на нынешних руководителях. Вообще не надо этим заниматься» {451} .
Это «вообще» надо было понимать как упрек тем, кто еще вчера возвеличивал Леонида Ильича. Конечно, Громыко не послушали.
Также при обсуждении финансового положения в стране он выступил против повышения цен на хлеб (4 копейки на килограмм), считая, что это заденет пенсионеров. Здесь к нему прислушались, хотя положение было тяжелое: рост внешней задолженности с 7 миллиардов долларов до 11 миллиардов, на 12 миллиардов рублей нет товарного покрытия из-за сокращения продажи водки и падения цен на нефть, трудности с выплатой зарплаты. Тем не менее Горбачев не решался выравнивать баланс.
Кроме взаимоотношения с населением, ожидавшим от нового лидера видимых результатов перестройки, ему надо было думать об американской угрозе. Он говорил, что надо сорвать навязываемый США новый этап гонки вооружений, «иначе – модернизация стратегического оружия», «изматывание нашей экономики», поэтому «не нужно цепляться за частности, за деталями не видеть главного». А Громыко, наоборот, – что необходим длительный поэтапный процесс переговоров, что наскоком все равно ничего не добьешься.
«Может быть, поэтому на переговорах с американцами все чаще серьезные отклонения допускал Шеварднадзе. Неоднократно он принимал требования США, противоречившие имевшимся у министра полномочиям, с оговорками («лично готов согласиться», «требует дополнительного подтверждения» и пр.) или без оговорок, «забывая» отразить этот факт в отчете» {452} .
Но никто и не призвал Шеварднадзе к ответу. Значит, был у него заступник наверху.
Горбачев открывал идеологические шлюзы, пытался наладить союз с интеллигенцией, допустил волну критики советского прошлого, доходившей до отрицания всего коммунистического проекта, – и всё в надежде, что раскрепощенное общество будет ему союзником в созидании обновленного социализма. А Громыко в ответ предупреждал, что такая политика несет в себе явную опасность.
Вот одно из замечаний нашего героя на заседании Политбюро 27 октября 1986 года по поводу предложения реабилитировать экономистов Чаянова, Кондратьева, Челинцева и Макарова; «Разве можно это делать? Это были махровые защитники кулачества, против которых выступал Ленин. Хотя они и утверждали, что их идеи использовались при разработке нашего коллективного плана. Мне самому, когда я преподавал политэкономию, приходилось разоблачать этих горе-теоретиков, выступавших главным образом под флагом защиты кулачества и свободного хуторского хозяйства. А теперь нам предлагают, видите ли, реабилитировать этих буржуазных лжеученых. Естественно, на это идти нельзя. И вообще в решении таких вопросов мы должны быть предельно осторожны и сдержанны. Надо уметь правильно оценивать прошлое» {453} .
Думается, Андрей Андреевич не мог не знать работ этих крупных ученых, по меньшей мере один из которых – Николай Кондратьев – мирового уровня. Почему же он выступил, как дремучий райкомовский лектор, а не как доктор экономических наук и знающий историю и экономику политик?
Ответ на этот вопрос можно найти в записках его сына. Наш герой вовсе не выступал против возрождения фермерства, на чем настаивал Горбачев, но предупреждал, что сегодня деревня к этому не готова, у фермеров нет ни малогабаритной сельскохозяйственной техники, ни удобрений. «Без техники, а на лошадях сейчас урожая не вырастишь, мы далеко не уйдем. В аграрной политике нужна постепенность, кропотливость и любовь к земле и людям, на ней работающим. В 30-х годах крестьянство, как его ни притесняли, вытащило на своих плечах промышленность. Но тогда коллективизация форсировалась и привела к большим трагедиям. Я на них вдоволь насмотрелся в Белоруссии. Радикальные меры в обратном направлении ничем лучше не будут. Если уж система коллективных хозяйств создана, укоренилась и функционирует десятки лет, ее разрушать нельзя, это погубит снабжение населения продовольствием. Если мы начнем форсировать создание фермерства при начисто отсутствующей базе для его развития, то оно появится, найдется много энтузиастов, затем быстро зачахнет, и на фоне упадка коллективных хозяйств придется завозить много продовольствия из-за рубежа, а ты прекрасно понимаешь, что это может значить в стратегическом плане. Сейчас для развития сельского хозяйства нужны не новые “великие переломы”, а новые элеваторы, склады и овощехранилища» {454} .
Да и Горбачев оговаривал, что нельзя разрушать созданную в колхозах производственную структуру.
Дело было не в Кондратьеве и Чаянове и не в кулацких хозяйствах, а в том, что было трудно и даже невозможно быстро объединить мелкие хозяйства и крупные, деградация агропромышленного производства ничего, кроме вреда, уже не могла принести. Пожалуй, назад хода не было. А если и был, то следовало учесть скрытую сельскую безработицу, практическое отсутствие малой энергетики, на которой зиждились крестьянские хозяйства во времена Кондратьева и Чаянова, и самое главное – существующую социальную функцию государства.
Да, надо было правильно оценивать прошлое. К тому же еще при Брежневе Андрей Андреевич выступил за возврат колхозникам урезанных при Хрущеве приусадебных участков, что и было сделано.
Но вот вопрос: насколько эффективны были громыкинские деликатные возражения Горбачеву?
В общем, прошлое все сильнее окутывало нашего героя. Он начал писать мемуары, во сне к нему приходили Сталин, Рузвельт, Черчилль, Хрущев, Мао Цзэдун, Ялта, Потсдам, Думбартон-Окс, заседания Совета Безопасности ООН. Появилась потребность чаще встречаться с сыном, рассказывать ему о том, на что раньше не было времени.
Как свидетельствует В.А. Крючков, в январе 1988 года у него состоялся «необычайно откровенный» разговор с Громыко: «Вспомнили Андропова, Устинова. Андрей Андреевич заметил, что в их лице он потерял друзей-единомышленников. Особенно высоко отозвался о Юрии Владимировиче.
По ходу разговора Громыко обронил фразу, что ему, видимо, придется уходить на пенсию, но на душе неспокойно. “Боюсь за судьбу государства. В 1985 году после смерти Черненко товарищи предлагали мне сосредоточиться на работе в партии и дать согласие занять пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Я отказался, полагая, что чисто партийная должность не для меня. Может быть, это было моей ошибкой”, – заключил он» {455} .
В этом признании содержится ответ на вопрос, почему он выдвигал Горбачева после смерти Черненко. Он считал, что так будет лучше для страны.
На одном заседании Политбюро рассматривался вопрос о создании Детского фонда для поддержки детей-сирот и детей-инвалидов. Выслушав сообщение инициатора создания фонда писателя Альберта Лиханова, Громыко первым поддержал идею. По прошествии года или двух лет, как вспоминал А. Лиханов, ему позвонил Андрей Андреевич и сказал, что у него в Англии вышла книга воспоминаний и что он хотел бы перечислить весь гонорар на счет Детского фонда. Так он и сделал. Сумма по тем временам была очень значительна – 25 тысяч долларов {456} .
Как глава государства Громыко один раз в месяц проводил заседания Комиссии по помилованию преступников, осужденных на смертную казнь. Участник этих заседаний, первый заместитель председателя КГБ СССР Ф.Д. Бобков вспоминал, как это было трудно в моральном отношении: несмотря на тяжесть преступлений осужденных, все же хотелось найти какую-то зацепку, чтобы сохранить жизнь хотя бы одному «Очень скоро я понял, что Громыко думает так же, он всегда с явным облегчением поддерживал каждое предложение о помиловании» {457} .
Глава 46.
ГОРБАЧЕВ: «МЫ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Общечеловеческие ценности и государственные интересы
После окончания Второй мировой войны руководство США многократно принимало планы военных действий против СССР с применением ядерного оружия. Однако присутствие в Европе советских войск создавало баланс сил: в случае удара по СССР эти войска захватывали бы западноевропейские страны. После того как в 1949 году было создано советское атомное оружие, ситуация стала качественно изменяться.
Обе стороны начали гонку вооружений, которая для СССР была более обременительна, так как его экономика значительно уступала американской. США окружили СССР своими военными базами и угрожали его безопасности. Обе страны несколько раз подходили к роковому рубежу (в Корее, на Кубе, в Западном Берлине), но не переступали его из-за угрозы неизбежного возмездия. В непрерывных локальных войнах США несколько раз терпели поражения. СССР и его союзники в 70-е годы стали вытеснять страны Запада из ресурсных баз в Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, проникли в Латинскую Америку. Они использовали стремление к самостоятельности национальных элит в этих регионах, оказывая им большую военную и экономическую помощь.
Тогда мало кому могло прийти в голову, что СССР занимается экономическим самопоеданием, ведя всеобъемлющее соперничество с США. Оно было гораздо обременительнее для Москвы, чем для Вашингтона из-за особенностей советской экономики и географического положения. В Кремле видели мир сквозь абстрактную теорию неотвратимого упадка капитализма и неизбежного торжества социализма.
Однако наряду с непрекращающимся противостоянием под руководством Громыко велось постоянное сотрудничество в дипломатической сфере, чтобы уменьшить риск мировой войны. Были заключены международные договоры: о немилитаризации Антарктики (1959), о неразмещении ядерных испытаний в трех средах (1963), о неразмещении ядерного и другого оружия массового уничтожения в космическом пространстве (1967), о нераспространении ядерного оружия (1968), о неразмещении ядерного и другого оружия массового уничтожения на дне морей и океанов (1971), о запрещении и уничтожении бактериологического оружия (1972), о невоздействии на окружающую среду в военных и иных целях (1977). Исполнялись также ратифицированные двусторонние советско-американские договоры о мерах по уменьшению ядерной войны (1971) и об ограничении ядерных вооружений (1979).
При этом Громыко отметал предложения сократить советские тяжелые баллистические ракеты, которых у американцев не было. Он был готов к компромиссам, но не там, где задевались фундаментальные интересы СССР в области безопасности. С учетом китайского фактора он защищал принцип одинаковой безопасности, имея в виду географический фактор, исторически сложившиеся параметры стратегических ядерных сил (сухопутные, морские, передового базирования), экономическую цену противостояния. Его мысль: «Чтобы нас не ввели в тяжелые расходы». Горбачев впоследствии сразу же на 50 процентов сократил тяжелые ракеты и ракеты средней дальности «Пионер» (СС-20), резко снизив переговорные возможности {458} .
После смерти Андропова в отношениях с Америкой наступила короткая передышка, а с приходом к власти Горбачева были продолжены переговоры об ограничении вооружений. Вот какие установки давал Горбачев в октябре 1986 года накануне встречи с Рейганом в Рейкьявике: «Наша цель сорвать следующий этап гонки вооружений. Если мы этого не сделаем, опасность для нас будет возрастать. А не уступив по конкретным вопросам, пусть очень важным, мы потеряем главное. Мы будем втянуты в непосильную гонку, и мы ее проиграем, ибо мы на пределе возможностей» {459} *.
С этого началась политика «разрядки». К середине 1980-х годов вооруженные силы СССР и США, НАТО и Варшавского договора были примерно равными и уравновешивающими друг друга. Советская военная доктрина была оборонительной, но предусматривался в случае наступления НАТО в Европе быстрый переход к наступательным операциям для разгрома агрессора. В конце 1986 года была принята новая доктрина. В ней объявлялось о готовности СССР к совместным, а в определенных условиях – и к односторонним сокращениям вооруженных сил. Сенсационным был тезис об отказе в случае агрессии перехода в короткий срок от обороны к наступательным действиям, то есть СССР вообще отказывался нападать даже в случае агрессии.
Первая уступка СССР была сделана при заключении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (декабрь 1987 года): Советский Союз согласился не учитывать английские и французские ядерные средства. Попутно Э.А. Шеварднадзе согласился на уничтожение уникальной советской ракеты «Ока» (СС-25), которая не подпадала под ограничения договора. В декабре 1988 года было объявлено об одностороннем сокращении советских вооруженных сил на полмиллиона человек.
«Пройдет чуть времени, и Горбачев известит нас, что решил поставить на кон наши “Пионеры” (СС-20) на определенных условиях». Потом условия одно за другим сброшены, а под конец генеральный отдал даже то, о чем его не просили, – советские РСД на Дальнем Востоке и оперативные ракеты повышенной дальности в Европе…
Договоренности ставят Советский Союз перед необходимостью менять не просто доктрину, но сами несущие материальные конструкции своей оборонной системы. США и НАТО в целом обходятся поправками по эшелонированию. Есть вопрос?» {460}
Американцы занимали более твердую позицию. Москва первой шла на уступки, а Вашингтон мог выбирать и выдвигать свои условия. Главным в советском подходе была мысль Горбачева о «разрядке»: «признание общечеловеческих ценностей и еще точнее – выживание человечества» {461} .
Задача выживания человечества не должна была разрушить Советский Союз. Ее невозможно было решить без потерь, но потерь несмертельных. Однако советская дипломатия повела дело по самому упрощенному варианту, как будто Запад уже давно придерживается приоритетности общечеловеческих ценностей, а уступать ему и догонять его должен только Советский Союз.
Тактическое по замыслу отступление («Второй Брест»), затеянное для укрепления внутриэкономической обстановки, в итоге привело к разрушению Ялтинской системы послевоенного мира, а затем и к распаду государства. Как отмечал маршал С.Ф. Ахромеев, «с лета 1990 года действовали фактически заодно Э.А. Шеварднадзе и американские дипломаты» {462} .
В советском руководстве велась полемика о том, сколько можно уступить Западу. В одной из записок Горбачеву заведующий Международным отделом ЦК КПСС В.М. Фалин прогнозировал, что «ГДР – центральное звено советской военной структуры» и что после объединения Германии США, Англия и Франция «не уступят перед соблазном загнать Советский Союз в границы 1941 года» {463} . Однако Горбачев и Шеварднадзе считали, что не надо возражениями против вхождения объединенной Германии в НАТО «вносить диссонанс в партнерство США».
У Советского Союза в то время, кроме военной силы, других опор не было. Горбачев мог и не сумел с выгодой ее разменять. Он мог бы вспомнить, что призыв Ленина в 1917 году «Мир без аннексий и контрибуций» не был услышан. Мир, как всегда, жил по другому закону: «Проиграл – плати». В июле 1990 года Горбачев был вынужден без должной компенсации дать согласие германскому канцлеру Г. Колю на объединение Германии. По отношению к ГДР, которая не участвовала в переговорах, это был новый «Мюнхен»; Горбачев ее сдал, как некогда Чемберлен и Даладье сдали Чехословакию.
Через несколько месяцев после войны в Персидском заливе, когда США разгромили недавнего советского партнера – Ирак, Горбачев был приглашен в Лондон на встречу руководителей «Большой семерки», где безуспешно просил финансовой помощи. Он говорил: «Нашлось 100 миллиардов долларов, чтобы справиться с одним региональным конфликтом, а здесь речь идет о таком проекте – изменить Советский Союз». Разумеется, Запад был благодарен Горбачеву, который стал лауреатом Нобелевской премии мира за 1990 год, что в СССР было воспринято с ледяным равнодушием. Но никто не хотел спасать тонущий Советский Союз, руководимый таким славным и человечным президентом.
Как некогда Российская империя, так и Советский Союз действительно сходил с исторической сцены, разрушаемый изнутри.