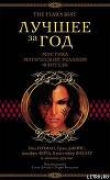Текст книги "Лучшее за год 2005. Мистика, магический реализм, фэнтези"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Нил Гейман,Майкл Суэнвик,Стив Тем,Паоло Бачигалупи,Брайан Ходж,Дейл Бейли,Томас Лиготти,Карен Трэвисс,Люциус Шепард,Глен Хиршберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 53 страниц)
– Он рассказал о них что-нибудь?
– Он сказал, что некоторые склонны к предрассудкам.
– Ах, он так и сказал, неужели? И где же он все-таки набрался таких мыслей, а? Это, должно быть, его дедуля. А теперь послушай меня, сейчас никто даже не разговаривает так больше, не считая кучки провокаторов, и тому есть причина. Люди погибают из-за этой семьи. Просто помни об этом. Много-много людей умерло из-за них.
– Из-за семьи Бобби или тех девочек?
– Ну, в общем, из-за обеих. Но особенно из-за семьи девочек. Он ведь не ел у них ничего, правда?
Я посмотрела в окно, сделав вид, что увидела что-то интересное на нашем заднем дворе, затем вздрогнула, будто внезапно пришла в себя, и перевела на нее взгляд.
– Что? А, нет.
Она уставилась на меня прищуренными глазами. Я притворилась, что мне все равно. Она постучала красными ногтями по рабочему столу.
– Слушай, что я говорю, – пронзительным голосом сказала она, – война еще продолжается.
Я закатила глаза.
– Ты ведь даже не помнишь ничего, так? Да и куда тебе, ты же маленькая была тогда, даже еще не ходила. Так вот, были такие времена, когда наша страна не знала, что такое война. Представь себе, люди раньше постоянно летали на самолетах.
Я не донесла вилку до рта.
– Но ведь это так глупо.
– Тебе не понять. Все так делали. Это был способ путешествовать из одного места в другое. Твои дедушка с бабушкой часто летали, и мы с твоим отцом – тоже.
– Вы летали на самолете?
– Даже ты. – Она улыбнулась. – Вот видишь, ты так многого не знаешь, подружка. Мир прежде был безопасным, и потом, в один день, перестал быть таким. А те люди, – она показала в окно кухни прямо в сторону дома Рихтеров, но я знала, что она не их имеет в виду, – начали все это.
– Но они – всего лишь два ребенка.
– Ну конечно, не совсем они, но я говорю о той стране, откуда они родом. Вот почему я хочу, чтобы ты была осторожной. Кто их знает, чем они тут занимаются. Так что пусть малыш Бобби и его дедуля-радикал и говорят, что все мы склонны к предубеждениям, но кто сейчас вообще рассуждает на эту тему? – Она подошла к обеденному столу, выдвинула стул и села напротив меня. – Хочу, чтобы ты поняла – невозможно распознать зло. Поэтому просто держись от них в стороне. Обещай мне.
Зло. Трудно понять. Я кивнула.
– Ну вот и хорошо. – Она отодвинула назад стул, встала, сгребла с подоконника пачку сигарет. – Проследи, чтобы не оставалось крошек. Наступает сезон муравьев.
Из окна кухни было видно, как мать сидит на столике в беседке, серая струнка дыма поднималась от нее по спирали. Я очистила свои тарелки, загрузила посудомоечную машину, протерла стол и вышла на крыльцо, чтобы посидеть на ступеньках и поразмышлять о мире, который я совсем не знала. Дом на вершине холма сиял в ярких лучах солнца. Выбитые окна были закрыты каким-то пластиком, который поглощал свет.
Той ночью над Дубовой Рощей пролетел самолет. Я проснулась и сразу же надела на голову каску. Мать визжала в своей комнате, слишком напуганная, чтобы что-то предпринять. У меня руки не тряслись так, как у нее, и я не визжала, лежа в своей кровати. Я просто надела каску и слушала, как он пролетел. Не мы. Не наш городок. Не сегодня. Я так и заснула в каске и, проснувшись утром, обнаружила, что следы от нее отпечатались на моих щеках.
Теперь, когда приближается лето, я считаю недели, когда цветут яблони и сирень, когда тюльпаны и нарциссы стоят распустившись, прежде чем поникнуть в летнюю жару, – как же это похоже на время нашей наивности, на наше пробуждение в этот мир со всей его раскаленной яростью, прежде чем мы, поддавшись унынию, превратились в нас нынешних.
– Видела бы ты мир в те времена, – говорит мне отец, когда я навещаю его в доме для престарелых.
Мы так часто слышали эти слова, что они перестали что-либо означать. Все эти пирожные, деньги, бесконечный перечень всего и вся.
– Раньше у нас дома могло быть до шести разных каш одновременно, – он поучительно поднимает палец, – уже с сахаром, можешь себе представить? Они иногда даже портились. Мы их выбрасывали. А еще самолеты. Раньше их полно было в небе. Честное слово. Люди путешествовали на них, целыми семьями. И ничего страшного, если кто-нибудь переезжал в другое место. Черт побери, можно было просто сесть на самолет и навестить его.
Когда он так говорит, когда любой из них говорит так, кажется, что они сами недоумевают и не могут понять, как же все произошло. Он качает головой, он вздыхает.
– Мы были так счастливы.
Каждый раз, когда я слышу о тех временах, я вспоминаю весенние цветы, детский смех, звон колокольчиков и цокот копыт. Дым.
Бобби сидит на тележке, держа поводья, по одной хорошенькой смуглой девочке с обеих сторон. Они все утро ездят туда-сюда по дороге, смеются и плачут, их прозрачные шарфики развеваются за ними, как разноцветные радуги.
Флаги вяло свисают с флагштоков и балконов. Бабочки порхают в садах, перелетая с места на место. Близнецы Уайтхол играют на заднем дворе, и скрип их несмазанных качелей разносится по всей округе. Миссис Ренкуот взяла выходной, чтобы отвести нескольких детей на прогулку в парк. Меня не пригласили, возможно, потому, что я терпеть не могу Бекки Ренкуот и говорила ей об этом не один раз в течение всего учебного года, при этом дергала ее за волосы – они струились белым золотом, таким ярким, что меня так и подмывало их дернуть. У Ральфа Паттерсона – день рождения, и большинство малышей празднуют его вместе с ним и его папой в парке развлечений «Пещера Снеговика», где они могут делать все, что делали раньше дети, когда снег был не опасен, – например, кататься на санках и лепить снеговиков. Лина Бридсор и Кэрол Минстрит пошли в торговый центр со своей приходящей няней – ее приятель работает в кинотеатре и может провести их тайком в зал, чтобы они смотрели кино весь день напролет. Городок пуст, если не считать маленьких близнецов Уайтхол, Трины Нидлз, которая сосет свой большой палец и читает книжку, сидя на качелях на веранде, и Бобби, который катается по улице с девочками Манменсвитцендер и их козами. Я спаржу на ступеньках крыльца, ковыряю подсохшие болячки на коленках, но Бобби разговаривает только с ними, причем таким тихим голосом, что мне ничего не слышно. В конце концов я встаю и преграждаю им путь. Козы и тележка резко останавливаются, колокольчики продолжают звенеть, и Бобби говорит:
– В чем дело, Вейерс?
У него такие синие глаза – я только недавно это обнаружила, – невозможно смотреть в них дольше тридцати секунд, они будто обжигают меня. Вместо этого я смотрю на девочек – они обе смеются, даже та, что плачет.
– Что с тобой? – говорю я.
Ее темные глаза расширяются, молочные белки вокруг зрачка округляются. Она смотрит на Бобби. Блестки ее шарфика переливаются на солнце.
– Господи ты боже мой, Вейерс, о чем это ты?
– Я просто хочу знать, – говорю я, все еще глядя на нее, – почему она плачет все время, может, это болезнь какая-то или что?
– О, ради бога. – Головы козочек отодвигаются назад, и колокольчики звякают. Бобби тянет на себя поводья. Козы пятятся, громко переступая копытами, колеса дребезжат, но я по-прежнему стою у них на пути. – А с тобой что?
– Но это ведь очень даже разумный вопрос! – кричу я на его тень от яркого света. – Я просто хочу знать, что с ней.
– Не твое дело! – кричит он в ответ, одновременно девочка – та, что поменьше, – что-то говорит.
– Что? – обращаюсь я к ней.
– Это все из-за войны и всех страданий.
Бобби удерживает коз ровно. Вторая девочка хватает его за руку. Она улыбается мне, но продолжает обливаться слезами.
– Ну и что? С ней что-то случилось?
– Просто она такая. Всегда плачет.
– Это же глупо.
– О, ради бога, Вейерс!
– Нельзя же плакать все время, так же невозможно жить.
Бобби, правя козами и тележкой, пытается меня объехать.
Младшая девочка оборачивается и смотрит не отрываясь и уже на расстоянии машет мне рукой, но я отворачиваюсь, не помахав в ответ.
Большой дом, что стоял на холме, раньше – до того, как стал заброшенным, а потом в нем поселились Манменсвитцендеры, – принадлежал Рихтерам.
– Конечно, они были богатыми, – говорит мой отец, когда я рассказываю ему, что собираю материалы для книги. – Но, ты знаешь, мы все тогда жили богато. Видела бы ты пирожные! И каталоги. Мы обычно получали эти каталоги по почте, и по ним можно было все купить – тебе все присылали по почте, даже пирожные. Нам приходил один каталог, как-то он назывался, «Генри и Денни»? Что-то вроде того. Имена двух парней. Во всяком случае, еще во времена нашей юности так покупались только фрукты, но потом, когда вся страна разбогатела, ты мог заказать бисквит с масляным кремом, или там были еще такие горы пакетов, которые тебе обычно высылали, полные конфет, орехов, печенья, шоколада, и, боже ты мой, все это прямо по почте.
– Ты рассказывал о Рихтерах.
– С ними случилось нечто ужасное – со всей их семьей.
– Это был снег, да?
– Твой брат Джейми, мы его тогда потеряли.
– Об этом говорить не обязательно.
– Все переменилось после этого, знаешь ли. Тогда у твоей матери и началось. Большинство семей потеряли по одному, у некоторых обошлось, но Рихтеры, знаешь ли… У них ведь дом был на холме, и когда пошел снег, они все отправились кататься на санках. Мир еще был другим.
– Не представляю.
– Мы тоже не представляли себе. Никто не мог такого даже предположить. И поверь мне, мы ведь ломали головы. Все гадали, чего ждать от них в следующий раз. Но чтобы снег? Ну разве это не злодейство?
– Сколько их было?
– О, тысячи. Тысячи.
– Да нет же, Рихтеров сколько было?
– Все шестеро. Сначала дети, потом родители.
– А что, взрослые обычно не заражались?
– Ну, не многие из нас играли в снегу так, как они.
– Должно быть, вам чутье подсказывало, вроде того.
– Что? Нет. Просто тогда мы были так заняты. Очень заняты. Жаль, что я не помню. Не могу вспомнить. Чем мы были так заняты. – Он потирает глаза и смотрит пристально в окно. – Вы не виноваты. Хочу, чтобы ты знала – я все понимаю.
– Пап.
– Я имею в виду вас, ребятишек. Ведь этот мир, что мы передали вам, был наполнен таким злом, что вы даже просто не понимали разницы.
– Мы понимали, пап.
– Вы до сих пор не понимаете. О чем ты думаешь, когда вспоминаешь о снеге?
– Я думаю о смерти.
– Ну, вот видишь. До того как это случилось, снег означал радость. Мир и радость.
– Не представляю.
– Что и требовалось доказать.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – Она накладывает макароны, ставит тарелку передо мной и встает, прислоняясь к рабочему столу, чтобы посмотреть, как я ем.
Я пожимаю плечами.
Она трогает холодной ладонью мой лоб. Отступает на шаг и хмурится.
– Ты что, брала у этих девчонок какую-нибудь еду?
Я качаю головой. Она собирается что-то добавить, но я говорю:
– Другие ребята брали.
– Кто? Когда? – Она наклоняется ко мне так близко, что я отчетливо вижу всю косметику на ее лице.
– Бобби. Некоторые другие ребята. Они ели конфеты.
Она опускает руку и сильно ударяет ладонью по столу. Тарелка с макаронами подскакивает, столовое серебро тоже. Проливается молоко.
– Разве я тебе не говорила? – громко кричит она.
– Бобби играет с ними все время.
Она прищурившись смотрит на меня, качает головой, затем щелкает челюстью с мрачной решимостью.
– Когда? Когда они ели эти конфеты?
– Не знаю. Уже давно. Ничего не случилось. Они сказали, что им понравилось.
Она открывает и закрывает рот, словно рыба. Поворачивается на каблуках и выходит из кухни, прихватив с собой телефон. Хлопает дверью. Я вижу из окна, как она ходит по заднему двору, отчаянно жестикулируя.
Моя мать организовала городское собрание, и все пришли нарядные, как будто в церковь. Единственные, кто не пришел туда, были Манменсвитцендеры, по понятной причине. Многие привели своих детей, даже грудничков, они сосали пальчики или уголки одеял. Я была там, как и Бобби со своим дедушкой, который пожевывал мундштук незажженной трубки, то и дело наклоняясь к внуку во время разбирательств, что разгорелись очень быстро, хотя никто почти не ругался. Просто страсти накалились из-за общего возбуждения, особенно горячилась моя мать в своем платье с розами, с ярко-красной помадой на губах, так что до меня вдруг даже некоторым образом дошло, что она в каком-то смысле красива, хотя я была слишком маленькой, чтобы понять, почему же ее красота не совсем приятна.
– Нам нужно помнить, что все мы – солдаты на этой войне, – сказала она под дружные аплодисменты.
Мистер Смитс предложил что-то вроде домашнего ареста, но моя мать указала на то, что тогда кому-то из города придется носить им продукты.
– Всем известно, что наши люди и так голодают. Кто же будет платить за весь их хлеб? – вопросила она. – Почему мы должны за него платить?
Миссис Матерс проговорила что-то о справедливости.
Мистер Халленсуэй сказал:
– Невинных больше нет.
Моя мать, стоящая перед всеми, слегка наклонилась к членам правления за столом и сказала:
– Тогда решено.
Миссис Фолей, которая только что приехала в город из недавно разрушенного Честервиля, поднялась со своего места – плечи ее сутулились и глаза нервно бегали, так что некоторые из нас по секрету прозвали ее Женщиной-Птицей – и дрожащим голосом, так тихо, что всем пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать, спросила:
– Разве кто-нибудь из детей заболел на самом деле?
Взрослые посмотрели друг на друга и на детей друг друга.
Я видела, что моя мать была разочарована тем, что никто не обнаружил никаких симптомов болезни. В обсуждении всплыли конфеты в цветных фантиках, и тогда Бобби, не вставая с места и не поднимая руку, громко сказал:
– Так вот из-за чего весь сыр-бор? Вы это имеете в виду? – Он слегка откинулся на стуле, чтобы сунуть руку в карман, и вытащил горсть конфет.
Поднялся всеобщий ропот. Моя мать ухватилась за край стола. Дедушка Бобби, улыбаясь с трубкой во рту, выхватил одну конфету с ладони Бобби, развернул ее и отправил в рот.
Мистеру Галвину Райту пришлось ударить молотком, чтобы призвать к тишине. Моя мать выпрямилась и сказала:
– Чудесно, так рисковать собственной жизнью, чтобы что-то доказать.
– Что ж, ты права насчет того, что я хочу доказать, Мэйлин, – сказал он, глядя прямо в лицо моей матери и качая головой, будто они вели частный разговор, – но эти конфеты я держу дома повсюду, чтобы избавиться от привычки курить. Я заказал их по «Солдатскому каталогу». Они совершенно безопасны.
– А я и не говорил, что конфеты от них, – сказал Бобби и посмотрел сначала на мою мать, а потом огляделся вокруг, пока не уставился на мое лицо, но я притворилась, что не заметила.
Когда мы уходили, мать взяла меня за руку, ее красные ногти впились в мое запястье.
– Молчи, – сказала она, – и пикнуть не смей. – Она отправила меня к себе в комнату, и я уснула в одежде, все пытаясь придумать, какими словами мне извиниться.
На следующее утро, заслышав звон колокольчиков, я хватаю буханку хлеба и жду на крыльце, пока они снова поедут наверх по холму. Тогда я встаю у них на пути.
– А теперь чего тебе надо? – спрашивает Бобби.
Я протягиваю буханку, словно это крошечный младенец, которого поднимают в церкви перед ликом Бога. Девочка, льющая слезы, заплакала еще громче, ее сестра вцепилась в руку Бобби.
– Что это ты надумала? – закричал он.
– Это подарок.
– Что еще за глупый подарок? Убери его сейчас же! Ради всего святого, пожалуйста, опусти его!
Руки мои падают, обвиснув по бокам, буханка болтается в сумке, которую я держу в руке. Обе девочки рыдают.
– Я всего лишь хотела быть доброй, – говорю я, и голос мой дрожит, как у Женщины-Птицы.
– Бог ты мой, разве ты ничего не знаешь? Они боятся нашей еды, неужели ты даже этого не знаешь?
– Почему?
– Из-за бомб, ну и дурочка же ты. Хотя бы чуточку соображала.
– Не понимаю, о чем ты говоришь.
Козы гремят своими колокольчиками, тележка перекатывается на месте.
– О бомбах! Ты что, учебников по истории не читала? В начале войны мы отправляли им посылки с продуктами такого же цвета, что и бомбы, – они взрывались, когда кто-нибудь прикасался к ним.
– Мы так делали?
– Ну, наши родители делали. – Он качает головой и тянет поводья. Тележка с грохотом проезжает мимо, обе девочки жмутся к Бобби, будто от меня исходит опасность.
– Ах, как же мы были счастливы! – говорит отец, погружаясь в воспоминания. – Мы были просто как дети, понимаешь, такими наивными, просто не имели представления.
– О чем, пап?
– Что у нас было достаточно.
– Чего достаточно?
– Да всего. У нас всего было достаточно. Это что, самолет? – Он смотрит на меня своими выцветшими голубоватыми глазами.
– Вот, давай я помогу тебе надеть каску.
Он шлепает по ней, ушибая свои слабые руки.
– Перестань, папа. Прекрати!
Он нащупывает скрюченными артритом пальцами ремешок, пытается расстегнуть, но понимает, что бессилен. Прячет лицо в покрытых пятнами ладонях и рыдает. Самолет с гулом пролетает мимо.
Теперь, когда я вспоминаю, какими мы были тем летом, до трагедии, до меня начинает доходить скрытый смысл того, о чем мой отец пытался рассказать все это время. Вовсе не о пирожных и почтовых каталогах, и не о том, как они прежде путешествовали по воздуху. Пусть он и описывает всякую ерунду, он совсем не это имеет в виду. Когда-то у людей было другое ощущение. Они чувствовали и жили в мире, которого уже нет, – этот мир так основательно уничтожен, что мы унаследовали лишь его отсутствие.
– Иногда, – говорю я своему мужу, – у меня возникает сомнение – я по-настоящему счастлива, когда счастлива?
– Ну конечно, по-настоящему счастлива, – говорит он, – а как же иначе?
Мы тогда наступали, как сейчас помнится. Манменсвитцендеры со своими слезами, боязнью хлеба, в своих странных одеждах и со своими грязными козами были, как и мы, детьми, и городское собрание не шло у нас из головы, как и то, что задумали сделать взрослые. Мы лазали по деревьям, бегали за мячами, приходили домой, когда нас звали, чистили зубы, как нас учили, допивали молоко, но мы утратили то чувство, что было у нас прежде. Это правда – мы не понимали, что у нас отняли, но зато мы знали, что нам дали взамен и кому мы обязаны этим.
Мы не стали созывать собрание, как они. Наше произошло само собой в тот жаркий день, когда мы сидели в игрушечном домике Трины Нидлз и обмахивались руками, жалуясь на погоду, как взрослые. Речь зашла о домашнем аресте, по нам показалось, что такое невозможно исполнить. Обсудили разные шалости, как, например, забрасывание шариками с водой и всякое другое. Кто-то вспомнил, как поджигали бумажные пакеты с собачьими какашками. Думаю, именно тогда обсуждение приняло такой оборот.
Вы спросите, кто запер дверь? Кто натаскал палок для костра? Кто зажег спички? Мы все. И если мне суждено найти утешение спустя двадцать пять лет после того, как я полностью уничтожила способность чувствовать, что мое счастье, или кого угодно, по-настоящему существует, я найду его в этом. Это сделали все мы.
Может, больше не будет городских собраний. Может, этот план, как и те, что мы строили раньше, не осуществится. Но городское собрание созвано. Взрослые собираются, чтобы обсудить, как не допустить того, чтобы нами правило зло, и также возможность расширения Главной Улицы. Никто не замечает, как мы, дети, тайком выбираемся наружу. Нам пришлось оставить там грудничков, сосавших пальчики или уголки одеял, они не входили в наш план освобождения. Мы были детьми. Не продумали все хорошенько до конца.
Когда прибыла полиция, мы вовсе не «носились, словно изображали дикарские танцы» и не бились в припадке, как сообщалось впоследствии. Я до сих пор вижу перед собой, как Бобби с влажными волосами, прилипшими ко лбу, горящими щеками, танцует под белыми хлопьями, падающими с неба, которому мы никогда не доверяли; как кружится Трина, широко раскинув руки, и как девочки Манменсвитцендер со своими козами и тележкой, груженной креслами-качалками, уезжают от нас прочь, и колокольчики звенят, как в той старой песне. Мир опять стал безопасным и прекрасным. За исключением здания муниципалитета, от которого поднимались огромные белые хлопья, похожие на привидения, и пламя пожара пожирало небо, словно голодное чудовище, не способное насытиться.
Джордж Сондерс
Красная ленточка
Джордж Сондерс является автором двух сборников рассказов, «Пастораль („Pastoralia“) и <Территории Гражданской войны в эпоху Великой депрессии» («CivilWarLand in Bad Decline»), и оба сборника названы «New York Times» выдающимися книгами. Волге того, сборник «CivilWarLand in Bad Decline» в 1996 году пошел в число финалистов премии PEN/Hemingway, а журналом «Esquire» выбран в десятку лучших книг 1990-х годов. Перу Сондерса принадлежит также книга для детей «Настырные прилипалы из Фрипа» («The Very Persistent. Cappers of Flip»), которая была оформлена художником Лэйн Смит и стала бестселлером по версии «New York Times», получив высшие награды с области детский литературы в Италии и Голландии.
Произведения Сондерса, широко представленные в различных антологиях и опубликованные на пятнадцати языках мира, трижды награждались премиями «National Magazine» и четыре раза включались а сборники Премии имени О. Генри. И 1999 году «The New Yorker» признал его одним ил двадцати лучших писателей Америки в возрасте до сорока лет, а в 2001 году Сондерс был включен в список «100 самых творческих людей в области развлечении» издания «Entertainment. Weekly». Джордж Сондерс преподает в университете г. Сиракузы (США) писательское мастерство.
«Красная ленточка» была впервые опубликована в «Esquire».
Вечером следующего дня я обошел место, где все это случилось, и нашел ее маленькую красную ленточку. Я принес ее домой, бросил на стол и сказал:
– Боже мой, боже мой.
– Ты только хорошенько смотри на нее, и я тоже все смотрю на нее, – сказал дядя Мэтт. И мы никогда этого не забудем, ведь правда?
Первым делом, конечно же, надо было найти тех собак. Оказывается, они отсиживались позади того самого места – места, куда приходили малыши с пластиковыми мячиками в барабанчиках, где они отмечали дни рождения и тому подобное, – собаки прятались в том вроде как укромном уголке под обломками деревьев, сваленными туда жителями нашего городка.
Так вот, мы подожгли обломки и затем застрелили трех из них, когда они выскочили.
Но эта миссис Пирсон, она-то все и видела… Так вот, она сказала, что их было четыре, четыре собаки, и на следующий день мы узнали, что та, четвертая, забралась на площадку Муллинс Ран и покусала пса Эллиотов Сэдди и того белого Маскерду, который принадлежал Эвану и Милли Бэйтс, живущим по соседству.
Джим Эллиот сказал, что сам прикончит Сэдди, и для этого одолжил у меня ружье, и сделал это, после чего посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что соболезнует нашей потере, а Эван Бэйтс сказал, что не сможет сделать это и что, может быть, я смогу? Но потом в конце концов он все-таки повел Маскерду на эту вроде как полянку – все еще называют ее Лужайкой, там обычно устраивают барбекю и всякое такое, – он еще грустно пихал пса ногой (легонько так, Эван ведь совсем не злой), когда тот хотел его цапнуть, и приговаривал: «Маскер, вот черт!», а потом он сказал: «Ладно, давай!», когда приготовился к тому, что я должен был сделать, и я сделал это, и позже он сказал, что соболезнует нашей потере.
Около полуночи мы нашли четвертую собаку, она грызла себя за хвост позади дома Бурна, и Бурн вышел и держал фонарь, когда мы кончали псину, и помог погрузить ее на тачку рядом с Сэдди и Маскерду, в наших планах было – доктор Винсент говорил, что это лучше всего, – сжечь тех, кого мы выявили, чтобы другие животные… ты же знаешь, они едят мертвечину, – так или иначе, доктор Винсент сказал, что лучше всего их сжечь.
Когда четвертая была уже на тачке, мой Джейсон спросил:
– Мистер Бурн, а как же Куки?
– Ну, я так не думаю, – сказал Бурн.
Старый Бурн был по-стариковски нежен с собакой, у него ведь больше никого не было на этом свете, вот, например, он всегда называл ее «моя подружка», к примеру: «Может, прогуляемся, моя подружка?»
– Но она же в основном дворовая собака? – спросил я.
– Она почти полностью дворовая собака, – сказал он. – Но все равно мне не верится.
Тогда дядя Мэтт сказал:
– Так, Лоренс, что до меня, то я этой ночью здесь, чтобы удостовериться. Думаю, ты меня понимаешь.
– Конечно, – сказал Бурн. – Я все отлично понимаю.
И Бурн вывел Куки, и мы ее осмотрели.
На первый взгляд она выглядела хорошо, но тут мы заметили, как она смешно поежилась, и потом дрожь пробежала по всей спине, и глаза вдруг неожиданно повлажнели, и дядя Мэтт спросил:
– Лоренс, твоя Куки всегда так делает?
– Ну, э-э… – сказал Бурн.
И опять Куки всю передернуло.
– О черт, – сказал Бурн и ушел в дом.
Дядя Мэтт велел Сету и Джейсону бежать в сторону поля и свистеть, и тогда Куки погонится за ними. Так она и сделала, и дядя Мэтт побежал следом со своим ружьем, и хоть он был, ну ты знаешь, не таким уж и бегуном, пусть и через силу – все же держался он бодрячком, словно хотел убедиться, что все делается правильно.
За это я был ему очень признателен, потому что голова моя и тело уже слишком устали и больше не могли различать, что правильно, а что – нет, и я сел на крыльцо и очень скоро услышал этот хлопок.
Потом дядя Мэтт спешно вернулся с поля, сунул голову в дверь и спросил:
– Лоренс, ты не знаешь, у Куки были контакты с другими собаками, может, есть собака или собаки, с которыми она играла, которых кусала, что-то вроде того?
– Убирайся, поди прочь, – сказал Бурн.
– Лоренс, черт тебя подери, – сказал дядя Мэтт, – думаешь, мне все это нравится? Представь, что мы пережили. Думаешь, мне так весело, всем нам?
Последовало долгое молчание, после чего Бурн сказал, ладно, мол. Единственного, кого он вспомнил, – это того терьера в доме приходского священника. Иногда Куки играла с ним, когда была без поводка.
Когда мы пришли в дом священника, отец Терри сказал, что соболезнует нашей потере, и привел Мертона, и мы долго смотрели на него, и Мертон ни разу не вздрогнул, и глаза у него оставались сухими, в общем нормальными.
– Выглядит здоровым, – сказал я.
– Он и есть здоровый, – сказал отец Терри, – Вот смотрите: Мертон, на колени.
И Мертон стал тянуться и проделывать собачьи штуки, вроде как он кланяется.
– Может, и здоровый, – сказал дядя Мэтт. – А может так случиться, что он болен, просто на ранней стадии.
– Мы будем предельно бдительны, – сказал отец Терри.
– Да, хотя, – сказал дядя Мэтт, – мы ж не знаем, как это распространяется и все такое прочее, и семь раз отмерить и один раз отрезать здесь не получится, или я не прав? Даже не знаю. Честно, не знаю. Эд, а ты как думаешь?
А я не знал, что я думаю. В мыслях я просто то и дело прокручивал все снова и снова – что было сперва, что потом, как она поднялась на скамеечку для ног, чтобы вплести ту красную ленточку в волосы, выговаривая такие взрослые фразы, как «Что ж, кто же там будет?», «А будут ли там пирожные?».
– Надеюсь, вы не имеете в виду, что надо умертвить совершенно здоровую собаку, – сказал отец Терри.
Тогда дядя Мэтт извлек из кармана своей рубашки красную ленточку и сказал:
– Святой отец, вы имеете хоть малейшее представление о том, что это такое и где мы это нашли?
Но это была не настоящая ленточка, не ленточка Эмили, которую я хранил все это время в своем кармане, она была скорее розового, а не красного цвета и размером была побольше, чем настоящая ленточка, и я узнал ее – она прежде лежала в маленькой шкатулке Карен на комоде перед зеркалом.
– Нет, я не знаю, что это такое, – сказал отец Терри. – Лента для волос?
– Что до меня, то я никогда не забуду тот вечер, – сказал дядя Мэтт, – То, что мы пережили. Что до меня, то я собираюсь сделать все, чтобы никому никогда не пришлось снова вытерпеть то, что довелось вытерпеть нам тем вечером.
– Ну, в этом-то я с вами совершенно согласен, – сказал отец Терри.
– Вы и вправду не знаете, что это такое, – сказал дядя Мэтт и убрал ленточку обратно в карман. – Вы совсем, совсем не представляете себе, каково все это.
– Эд, – обратился ко мне отец Терри, – убийство совершенно здоровой собаки не имеет ничего общего с…
– Может, здоровой, а может, и нет, – сказал дядя Мэтт. – Разве Куки была укушена? Нет, не была. Заразилась ли Куки? Да, заразилась. Как Куки заразилась? Мы не знаем. И этот ваш пес общался с Куки точно так же, как Куки общалась с тем заразным животным, а именно – посредством тесного физического контакта.
Забавно было слушать дядю Мэтта. Забавно в смысле того, что он вдруг стал на удивление сознательным таким и озабоченным, ведь раньше… То есть да, конечно, он любил детей, но не так, чтобы уж очень, то есть он редко даже разговаривал с ними, а с Эмили вообще меньше всего, она ведь самая маленькая была. По большей части он просто ходил вокруг дома – тихонько так, – особенно с января, после того как потерял работу. На самом деле он избегал детей, ему немного стыдно было, будто он думал, что вот они вырастут и станут взрослыми и никогда не будут, как их безработный дядя, ходить крадучись вокруг дома, а, наоборот, станут хозяевами дома, где бродит их безработный дядя, и т. д. и т. п.
Но то, что мы ее потеряли, я считаю, заставило его впервые задуматься, как сильно он любил ее, и эта его неожиданная сила – сосредоточенность, уверенность, если хотите, – стала для меня спасением, потому что, по правде говоря, у меня все из рук валилось. Я ведь всегда любил осень, а теперь стояла поздняя осень и воздух наполнился запахом лесных костров и упавших яблок, но все в этом мире для меня было просто, знаешь ли, неживым, что ли.
Словно твой ребенок – это тот сосуд, который содержит в себе все самое хорошее. Дети смотрят на тебя снизу вверх с такой любовью, с верой в то, что ты о них заботишься. И вот однажды вечером… что меня больше всего гложет и с чем мне никак не смириться, это то, что пока ее… пока происходило то, что произошло, я был… я вроде как прокрался вниз, проверить электронную почту, видишь ли, так что пока… пока происходило то, что произошло там, на школьном дворе, в нескольких сотнях метров от меня, я сидел внизу и печатал – печатал! – ладно уж, в этом нет никакого греха, ведь откуда я мог знать, и все-таки… понимаешь, о чем это я? Если бы я просто оторвался от своего компьютера и поднялся наверх, и вышел наружу, и по какой-нибудь причине, любой причине, пересек школьный двор, то тогда, поверь мне, ни одна собака в мире, какая бы бешеная она ни была…
И жена моя чувствует то же самое и не выходит из нашей спальни с того самого дня, когда случилась трагедия.
– Итак, святой отец, вы говорите «нет»? – сказал дядя Мэтт. – Вы отказываетесь?