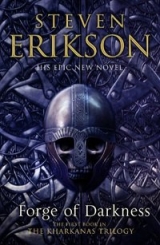
Текст книги "Кузница Тьмы (ЛП)"
Автор книги: Стивен Эриксон
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Если Драконус – посредственность, – заявил Оссерк, – то мой отец тоже.
Хунн ожидал такой мысли. – Неверно. Самые ранние записи Нерет Сорра упоминают семью Вета. Что еще важнее, Урусандер командует Легионом, пусть он в отставке. Скажи же мне: хорошо ли к нам отнеслись? Ты видел сам, о друг мой. Мы сражались и столь многие из нас погибли. Мы победили. Выиграли войну для всех жителей королевства. А теперь они готовы забыть о нашем существовании. Это неправильно, такое отношение, да ты и сам знаешь.
– Мы не угрожаем знати, – возразил Оссерк. – Вот тебе правда, Хунн Раал. Поддерживать легионы в полном числе разорительно. Желая сократить список действующего...
– Выбросив оказавшихся вне списка на улицы, – сказал Хунн Раал. – Или, хуже, в лес, копаться в земле с отрицателями. А когда вернутся Форулканы? Мы не будем в готовности, и тогда даже твой отец всех не спасет.
У всякой вещи свой узор, и Хунн Раал не без причины работал над ними; а особенно над этим юным мужчиной, не испытанным в бою сыном героя, который говорил о легионах "мы", говорил о них, словно видя ставшую реальностью мечту. Хунн понимал, что нужно сделать, однако Урусандер не из тех, кого можно поколебать спорами и доказательствами. Он закончил службу отечеству и полагал, что остаток жизни принадлежит лично ему. Да, он это заслужил.
Но суть в том, что королевству нужен спаситель, и единственный путь к отцу лежит через сына. Хунн Раал продолжал: – Будущее готовится не для других, хотя каждый из нас может так думать. Будущее – для нас. Твой отец понимает это на некоем глубоком уровне – глубже безумных Форулканов с их одержимостью правосудием и так далее – он знает, что дрался за себя и за тебя. За мир перед тобой. Но вместо этого он прячется в кабинете. Его нужно вытащить, Оссерк. Ты должен понять.
Но на лице Оссерка появилась угрюмая гримаса. Они шагали рядом с чередой телег, одолевавших очередной поворот вниз. Хунн Раал почти наяву видел клыки, грызущие мозг Оссерка. Он приблизился, понизил голос: – Он отказывается вложить меч в твои руки, Оссерк. Я знаю. Чтобы сберечь. Но слушай: в разбитой армии – какие из твоих иных умений могут пригодиться? Ты говоришь, что хотел бы идти со мной бок о бок, и я верю тебе. Возьми меня Бездна, я возгордился бы, увидев такое наяву.
– Никогда этому не бывать, – прорычал Оссерк.
– Легионы ждут тебя. Они видят – мы каждый день видим в сыне столь многое от отца. И мы ждем. В день, когда твоему отцу придется стать королем, Оссерк, он поистине оставит легионы – и ты займешь его место. Вот какого будущего жаждем мы все. Говорю тебе, я буду работать с Урусандером. Не для того ведь он учил тебя воинским навыкам, чтобы ты нумеровал глиняные цилиндры. Тебе нужно дело, и мы его обеспечим. Обещаю.
– Ты так часто говоришь, – буркнул Оссерк, но гнев его уже лишился силы.
Хунн Раал хлопнул его по спине. – Сделаю. Ну, друг, давай напьемся?
– Ты всё о попойках.
– Поверь мне: солдат ничего другого не видит. Сам скоро поймешь. Я планирую напиться так, что тебе придется тащить меня домой.
– Если я не напьюсь первым.
– Значит, состязание? Отлично!
Есть нечто жалкое, подумалось Раалу, в юнце, жаждущем подходящей причины, чтобы напиться и сесть молча и одиноко, созерцая не желающие уходить воспоминания. Как наяву видя павших друзей и слыша вопли умирающих. Сам Хунн Раал никому бы такого не пожелал... но если не произойдет что-то, делающее портрет Урусандера подлинным выражением его сути, быть гражданской войне.
И легионы окажутся пойманы глазом бури.
Вот истинная ирония: родовая линия самого Хунна Раала, линия Иссгинов имеет больше прав на престол, нежели все иные, даже сама Мать Тьма. Но ладно. Прошлое – не просто череда зияющих дыр. Там и тут эти дыры заполнены, причем давно, истины захоронены глубоко и надежно. И это тоже правильно. Он старается не ради себя самого, верно? Ради блага королевства. Пусть ценой собственной жизни, но он увидит Урусандера на Троне Черного Дерева.
Мысли вернулись к Драконусу, словно кровь блеснула в ночи, и он ощутил в груди горячую ярость. Все полагают, что легионеры останутся в стороне, не вмешаются в раздрай среди знати. Но всеобщее мнение ошибается. Хунн Раал об этом позаботится. Если напряжение разрешится открытым конфликтом, Драконус увидит восставшими против него не только сыновей и дочерей Тьмы, но и Легион Урусандера.
«Тогда поглядим, Драконус, как ты отболтаешься. Увидим, куда завело тебя безумие властных амбиций».
Ночь окутала город внизу, только таверны светились на дне долины желтым и золотым светом фонарей. Словно огоньки свечей. Хунн Раал ощутил, как просыпается жажда.
Кедаспела смоченной в спирте тряпицей стер с рук последние, самые упрямые пятна краски; глаза заслезились от поднявшихся паров. Он отослал слуг. Идея посторонней помощи для переодевания к обеду абсурдна. Тайна великого портрета в том, чтобы встретиться с объектом с глазу на глаз, наравне, будь то вождь армий или мальчик-пастух, готовый отдать жизнь ради стада амридов. Он презирал идею «лучших». Положение и богатство – хлипкие драпировки, а за ними существа столь же порочные, сколь все остальные; и если они желают, чтобы все плясали и припрыгивали позади, то это доказательство внутренней слабости и ничего больше. Что может быть более жалким?
Он никогда не хотел иметь слуг. Не желал создавать искусственное неравенство. Каждая жизнь – дар, и стоит только взглянуть в глаза другого, в любой день, в любом месте, чтобы всё понять. И не имеет значения, чьи это глаза. Он видит верно, он сумеет передать истину остальным. Его рука никогда не лжет.
Сегодняшнее позирование было... адекватным. Настроение, захватившее Кедаспелу во время работы над портретом, было дурным; он отлично это сознавал. Но негодовал он по большей части сам на себя. Каждый день короток, свет капризен, зрение слишком остро, чтобы не замечать недостатки труда – и никакие похвалы зрителей не уничтожат всего этого. Хунн Раал, нет сомнения, считает свои замечания приятными и даже льстивыми – но Кедаспеле потребовалась вся воля, чтобы не ткнуть ухмыляющегося солдата кистью в глаз. Страсть, захватывающая разум во время творчества, темна и способна навести ужас. Убийственна и подла. Эти бездны напугали его однажды, но теперь он просто с ними живет, как живут с уродующими лицо шрамами или оспинами, следами давней болезни.
Однако больше всего его тревожила широта главного противоречия: он готов служить идее, будто каждая жизнь имеет одинаковую ценность, ценность безмерную – и в то же время презирает всех, кого знает.
Почти всех. За тремя драгоценными исключениями.
Мысль заставила его замереть, глаза застлала влага. Он знал: это не надолго. Вспышка воспоминаний, внезапный наплыв предвкушения: скоро он снова свидится с ней. Нет ничего неподобающего в любви к Энесдии, сестре. Он же художник, познавший истину красоты, а она – живое определение этой добродетели, от ядра души до изящного совершенства форм.
Он мечтал сделать ее портрет. Это стало повседневной грезой, навязчивой грезой, но он ничего не сделал и не сделает никогда. Сколько бы сил он ни вложил, сколь бы великим ни был его талант... он знал, что не сумеет ее запечатлеть, потому что увиденное им не обязательно должно быть видимо другим... хотя он не был уверен ни в чем, ведь такое не стоит обсуждать с посторонними...
Тот побитый жизнью старый вояка, Урусандер, стал яркой противоположностью. Таких рисовать легко. О да, в них могут быть глубины, но это глубины одного цвета, одного тона. Они лишены загадки, вот что делает их могущественными вождями. Есть нечто страшное в неколебимой монохромности, однако это, кажется, ободряет окружающих, словно они находят источник силы.
Некоторым подобает превращаться в краски на доске, в сохнущую штукатурку или в неумолимую чистоту мрамора. Они существуют, непрозрачные и твердые, и это качество Кедаспела находит столь жестоким и чудовищным, ибо говорит оно о воле мира. Он знает, что тоже играет роль. Дает субстанцию их притязаниям на власть.
Портреты – оружие традиции, а традиция – незримая армия, осаждающая день нынешний. Что же стоит на кону? Какой победы она ищет? Хочет сделать будущее не отличимым от прошлого. Каждым мазком кисти Кедаспела открывает рану, поражает всех, что смеют бунтовать против природы вещей. Он борется против горького знания, упрямо ставит свой талант на стену – как будто может сдержать свое же наступление.
Хотелось бы ему быть менее сознающим; хотелось бы, чтобы талант сделал его слепым к нечестивому результату творчества. Но так не будет.
Мысли кружились, как всегда после сеанса; он оделся с полнейшей небрежностью и сошел вниз, ужинать с хозяином Дома. Не этой ли ночью Урусандер или Хунн Раал заведут наконец разговор о возможности создания портрета юного Оссерка? Кедаспела надеялся, что нет. Надеялся, что этот миг не наступит никогда.
Завершить портрет отца и сбежать отсюда. Вернуться домой, чтобы снова видеть ее.
Он боялся этих формальных застолий. Их полнят банальные воспоминания о битвах, по большей части ведет Хунн Раал, но Урусандер всегда готов поддержать его беседой о загадочном идиотизме Форулканов. А Оссерк вертит головой, словно она насажена на пику. Ничего не было в сыне хозяина, чего он желал бы запечатлеть – не отыщешь в нем никаких глубин. За глазами Оссерка скрыта сплошная скала, источаемая непрестанными ударами Раала. Мальчишка обречен на безвестность – если только его не оторвут от отца и так называемого друга. Похоже, попытки Урусандера окружить сына высокой непреодолимой стеной в сочетании с бесконечными подкопами Раала под эту стену ставят Оссерка под реальную угрозу. Едва нечто сломает его мирок, парень будет совершенно раздавлен. А пока... откровенное давление заставляет юношу задыхаться.
И ладно. Все это не дело Кедаспелы. Ему самому есть о чем тревожиться. Сила Матери Тьмы растет, и этой силой она похищает свет. Из всего мира. Какое будущее у художника во мраке?
Перемалывая безрадостные думы, он вошел в столовую. И помедлил. Кресла, в которых он ожидал узреть Хунна Раала и Оссерка, пусты. Лорд Урусандер одиноко сидит во главе стола, и впервые скатерть перед ним не загромождена – ни одного глиняного цилиндра или развернутого, прижатого по краям свитка, что ждет внимательного изучения.
Урусандер откинулся на спинку кресла, в руке бокал, прижатый к животу. Тусклые голубые глаза устремились на художника с невиданной ранее резкостью. – Благой Кедаспела Энес, прошу садиться. Нет, сюда, справа от меня. Кажется, этим вечером здесь будем лишь я и вы.
– Вижу, мой лорд. – Он подошел. Едва он сел, показался слуга с бокалом под стать бокалу хозяина. Кедаспела принял его и вгляделся. Черное вино, редчайшее и самое дорогое в королевстве.
– Я посмотрел вашу сегодняшнюю работу, – продолжал Урусандер.
– Неужели, лорд?
Глаза Урусандера чуть дернулись – единственная деталь, выражающая его настроение, но что можно по ней понять? – Вам не любопытно мое мнение?
– Нет.
Лорд отпил глоток. Судя по выражению, в бокале была тухлая вода. – Надеюсь, можно предполагать, что мнение зрителей вам важно.
– Важно, господин мой? О да... в перспективе. Но если вы вообразили, будто я жажду хора восхвалений, то сочли меня слишком наивным. Почитая такую награду соком жизни, я страдал бы от жажды. Как почти любой творец в Куральд Галайне.
– Итак, мнения вам не важны?
– Важны только те, что мне льстят.
– И вы отрицаете потенциальную ценность здорового критицизма?
– Это зависит, – сказал Кедаспела, пробуя вино.
– От чего? – настаивал Урусандер. Слуги показались снова, с первой переменой блюд. Тарелки с шелестом легли на стол, воздух взвихрился вокруг суетящихся за спинами двух господ фигур, свечи мерцали, языки пламени колыхались туда и сюда.
– Как идут ваши штудии, лорд?
– Избегаете ответа?
– Отвечаю своим способом.
Ни гнева, ни пренебрежительной насмешки не отразилось на увядшем лице Урусандера. – Отлично. Я сражаюсь с идеей моральной позиции. Писаный закон сам по себе чист, насколько может быть чистым язык, на коем он записан. Неясность возникает при практическом применении в обществе, и лицемерие кажется неизбежным следствием. Закон склоняется перед людьми власти, словно ива или, скорее, садовая роза, или плодовое дерево на стенной шпалере. Рост его зависит от прихотей властителей и вскоре закон становится воистину кривым.
Кедаспела поставил бокал, мельком изучив еду на блюде. Копченое мясо, какие-то запеченные овощи, разложенные так, будто они следят друг за дружкой. – Но разве закон это не всего лишь формализованные мнения, лорд?
Брови Урусандера взлетели: – Начинаю понимать направление ваших мыслей, Кедаспела. Отвечаю: да, именно так. Мнения относительно должного и мирного управления обществом...
– Простите меня, но "мирное" – не то слово, что приходит на ум при разговоре о законе. В конце концов, в основе его лежит подчинение.
Урусандер подумал и отозвался: – Лишь в смысле подавления вредного и антиобщественного поведения; и тут я вынужден напомнить вам мои первые слова. О моральной позиции. Именно с этой идеей я и сражаюсь, причем с весьма малым успехом. Итак, – он сделал еще глоток, поставил бокал и взялся за нож, – оставим на миг слово "мирный". Рассмотрим самое ядро проблемы, а именно: закон существует, чтобы налагать правила приемлемого поведения в обществе, верно? Отлично. Теперь вспомним идею о защите личности от вреда, физического и духовного... ага, вы видите мою дилемму.
Кедаспела чуть подумал и покачал головой: – Законы решают, какие формы подавления приемлемы, лорд. И потому законы служат тем, что у власти, ведь они видят в подавлении всех, кто власти лишен, свое право. Но не вернуться ли нам к искусству, лорд? Критика, если обнажить ее кости, есть разновидность подавления. Она желает манипулировать и художником, и публикой, налагая правила эстетического восприятия. Забавно, но первой ее задачей становится преуменьшение ценности мнения тех, что одобряют некую работу, но не желают – или не способны – высказать, почему именно. Иногда кто-то из этих зрителей заглатывает наживку, обижаясь, что его записали в невежды, и тогда критики всей толпой набрасываются на глупца, чтобы растоптать. Смею заявить, они всего лишь защищают удобные насесты. С иного угла зрения, все это есть акт защиты своих интересов теми, кто у власти. Но в чем их интересы? Всего лишь в абсолютном подавлении путем контроля личных вкусов.
Урусандер во время всей этой тирады сидел неподвижно, нанизанный на кончик ножа кусок мяса застыл на полпути ко рту. Когда Кедаспела закончил, он положил нож и снова схватился за бокал. – Но я не критик.
– Воистину нет, мой лорд, и потому я и сказал, что ваше мнение мне не любопытно. Я любопытствую насчет мнения критиков. Но мнения тех, что не относятся к записным эстетам, мне искренне интересны.
Урусандер фыркнул. – Выпейте же вина, Кедаспела, вы заслужили.
Сделанный им глоток был весьма скромным.
– В прошлые наши ночи, – нахмурился Урусандер, – вы один выпивали по графину.
– В те ночи, лорд, я заслушивался военными историями.
Урусандер засмеялся так, что громовые раскаты встревожили слуг. Где-то на кухне что-то с треском разбилось о пол.
– Вино, – вставил Кедаспела, – было превосходным, мой лорд.
– Да уж, верно. Знаете, почему я не приказывал его подавать до нынешней ночи?
– Каждое утро я проверяю кувшинчики с очищающим спиртом, убеждаясь, что Хунн Раал в них не заглядывал.
– Именно так, художник, именно так. Что ж, давайте есть, но прошу сохранить ум в трезвости. Этой ночью мы сольемся мыслями, ведя диалог.
Кедаспела отвечал с предельной искренностью: – Мой лорд, буду молиться, чтобы лишь перемены свечей заставляли нас замечать, сколько протекло времени.
Глаза Урусандера были настороженными и задумчивыми. – Меня предостерегали, что в вашей компании можно разделить лишь гадости и горечь.
– Лишь когда я пишу, лорд. Лишь когда пишу. Но, если вам угодно, я хотел бы услышать ваши мысли о моей работе.
– Мои мысли? Мысль у меня одна, Кедаспела. Не имел понятия, что меня так легко раскусить.
Он чуть не уронил бокал, помогло лишь проворство слуги.
Энесдия, дочь лорда Джаэна из Дома Энес, хмурилась у серебряного зеркала. Краска, производимая путем медленного кипячения некоего клубня, придала платью глубокий, чистый алый цвет. – Оттенок крови, – сказала она. – По нему и сходят ныне с ума в Харкенасе?
Стоявшая сбоку швея в отражении казалась бледной и тусклой, почти неживой.
Крил из Дома Дюрав, сидевший слева на канапе, прокашлялся в манере, слишком хорошо знакомой Энесдии, так что она обернулась, поднимая брови: – О чем мы поспорим этим утром? О покрое платья? Придворных стилях? Или нынче тебе не нравятся мои волосы? Так уж вышло, что я предпочитаю короткие. Чем короче, тем лучше. Да и к чему тебе возмущаться? Ты сам не оставил волосы длиннее конского хвоста, как подобает по нынешней моде. Ох, не знаю, зачем я тебя вообще позвала.
Легкое удивление лишь на кратчайший из моментов отразилось на изящном лице; он криво пожал плечами: – Я лишь подумал... это скорее вермильон, нежели алый цвет. Или наши глаза всё меняют?
– Идиотские предрассудки. Вермильон... ну что же.
– Бегущие-за-Псами называют его "Рожденный в Очаге", верно?
– Потому что они варят корень, дурак.
– О, смею думать, что их название более живописно.
– Ты смеешь думать? Неужели тебе некуда пойти, Крил? Не пора обучать коня? Точить клинок?
– Ты пригласила меня, лишь чтобы прогнать? – Юноша изящно поднялся. – Имей я чувствительную душу, обиделся бы. Но я знаю эту игру – мы ведь играем в нее всю жизнь.
– Игру? Какую игру?
Он уже шел к двери, но тут помедлил и оглянулся; было что-то грустное в слабой улыбке. – Надеюсь, ты меня извинишь, ведь мне нужно обучать коня и точить клинок. Хотя, должен добавить, ты весьма мила в этом платье, Энесдия.
Пока она открывала рот, а разум лихорадочно отыскивал хоть что-то, способное натянуть поводок и вернуть его назад, юноша выскользнул в дверь и был таков.
Одна из швей вздохнула и Энесдия повернулась к ней: – Хватит, Эфелла! В этом доме он заложник и должен выказывать величайшее почтение!
– Простите, госпожа, – прошептала Эфелла, приседая в поклоне. – Но он говорил верно. Вы так милы!
Энесдия вернула все внимание своему размытому облику в зеркале. – Однако, – пробормотала она, – ему понравилось, не так ли?
Крил еще миг помедлил в коридоре за дверью Энесдии, вполне успев услышать последний разговор со служанкой. Грустная полуулыбка так и приклеилась к лицу, пока он шагал к главному залу.
Из своих девятнадцати лет семнадцать он провел в доме Джаэна Энеса в качестве заложника. Он уже вырос и хорошо понимал ценность этой традиции. Хотя слово "заложник" несло уничижительный смысл, говоря о плене, отсутствии личной свободы, на практике всё это сводилось скорее к обмену. Твердые правила и законы определяли права заложника. Святость его личности была нерушима, драгоценна, словно основа основ. Поэтому Крил из Дома Дюрав не меньше ощущал себя членом семьи Энес, нежели Джаэн, Кедаспела или сама дочь Джаэна.
Что было... не к добру. Подруга его детства уже не девочка, а женщина. Ушли детские думы, мечты, будто она на самом деле ему сестра – пусть теперь он и ощущал тайные завихрения этой мечты. Для мальчика роли сестры, жены и матери могут – если они были неосторожны – сливаться воедино, порождая тяжкий настой неутолимого желания. Сам не зная, чего от нее хочет, он видел: дружба изменилась и стена выросла между ними, непроходимая, запретная и охраняемая с ревнивым старанием. Случались мгновения неловкости, когда они оказывались слишком близко друг к дружке, только чтобы ощутить удары свежеотесанного камня, каждая грань коего рождает теснение и стыд.
И ныне они стараются найти новые роли, открыть подобающую дистанцию. А может, это лишь его борьба. Он не мог понять и находил в этом очередное доказательство перемен. Некогда он шел рядом и думал, что отлично ее знает. Теперь он удивляется, знал ли ее вообще.
Только что он говорил с ней о ведущейся игре. Не такой, как прежние игры, ибо тогда они, строго говоря, были едины. А теперь у каждого свои личные правила, каждый сам оценивает себя, не получая ничего кроме избытка неловкости. Однако она выразила непонимание. Нет, "непонимание" – неправильное слово. Скорее невинность.
Можно ли ей верить?
Честно говоря, Крил совсем потерялся. Энесдия перерастает его каждый день, иногда он чувствует себя щенком у пяток, готовым играть, но ей такие игры уже не интересны. Она считает его дураком. Высмеивает при малейшем случае, и двенадцать раз на дню он клянется, что с этим покончено, навеки покончено, лишь чтобы обнаружить, что ловит ее зовы – все более нетерпеливые – и находит себя тупым древком стрелы, тогда как она стала зазубренным наконечником.
Ему наконец стало ясно, что есть у слова "заложник" иные значения, не определяемые законами традиции, и значения эти сковали его цепями, тяжелыми и кусачими. Дни и ночи проводит он в мучительных узах.
Но ему уже двадцатый год. Несколько месяцев, и его освободят, отошлют к родной крови, и он неловко сядет за семейный стол, скованный чужак в сердце фамилии, давно зарастившей рану долгого его отсутствия. Всё это – Энесдия и ее гордый отец, Энесдия и ее до ужаса одержимый, пусть блестящий братец, Энесдия и мужчина, что скоро станет ей супругом – вскоре будет в прошлом, частью истории, день ото дня теряющей силу, власть над ним и его жизнью.
И Крил, остро ощущая всю иронию, жаждал такой свободы.
Войдя в Главный Зал, он тут же подобрался, заметив Лорда Джаэна около очага. Глаза старика были устремлены на массивную каменную глыбу, что положили на мощеный пол, обозначив порог очага. Древние слова были высечены на ее гранитном лике. Язык Тисте сопротивляется понятию сыновнего долга – или так говорит приятель Кедаспелы, придворный поэт Галлан – словно намекая на некий фундаментальный порок духа; потому, как часто делается в таких случаях, слова были на языке Азатенаев. Сколь многие дары Азатенаев заполняют пыльные ниши и пустоты, оставляемые пороками характера Тисте, и ни один дар не лишен символического значения.
Как заложнику, Крилу воспрещалось познавать загадочные слова Азатенаев, весьма давно переданные кровной линии Энес. Как странно, в очередной раз подумал он, кланяясь Джаэну, что Тисте запрещают письмена каменщиков.
Похоже, Джаэн прочитал его мысли, ибо кивнул и сказал: – Галлан клянется, будто может читать на азатовом языке, что дает ему зловещее благословение знать священные слова всех благородных родов. Признаюсь, – тут его тонкое лицо чуть исказилось, – я нахожу эту мысль неприятной.
– Однако поэт уверяет, что это знание лишь для него самого, лорд.
– Поэтам, юный Крил, доверять нельзя.
Заложник обдумал это заявление и не нашел подобающего ответа. – Лорд, я прошу позволения оседлать коня и поездить весь день. Я думал найти следы эскелл в западных холмах.
– Эскелл? Их уже годы не видели, Крил. Боюсь, твои поиски будут напрасны.
– Тем не менее, лорд, скачка мне пойдет на пользу.
Джаэн кивнул. Казалось, он отлично понимает водоворот скрытых эмоций под смущенными словами Крила. Взор снова коснулся камня очага. – В этот год, – сказал он, – я отдаю дочь. И, – глянул он на Крила, – самого любимого заложника.
– А я, в свою очередь, чувствую, будто меня изгоняют из родной семьи. Сир, двери закроются за нами.
– Но, надеюсь я, не запечатаются навеки?
– Ни за что, – ответил Крил, хотя мысленно уже видел огромный скрежещущий замок. Иные двери, однажды закрытые, неподвластны никакому желанию...
Взгляд Джаэна чуть дрогнул. Он отвел глаза. – Даже если мы стоим, мир вращается вокруг нас. Отлично помню, как ты появился здесь впервые, крошечный, с диким взором – видит Бездна, вы, Дюравы, народец дикий – и вот ты уже способен оседлать коня, хотя и дик как кот. Что ж, мы, по крайней мере, хорошо тебя кормили.
Крил улыбнулся. – Сир, говорят, все Дюравы медленно растут...
– Медленно во многом, Крил. Медленно ловятся на приманки цивилизации, которые я нахожу столь очаровательными. Ты держался, невзирая на наши усилия, и потому служил напоминанием. Да, – продолжал он, – медленные во многом. Медленные в осуждении, медленные во гневе... – Джаэн неспешно повернулся, окинул Крила оценивающим взглядом. – Ты еще во гневе, Крил Дюрав?
Вопрос шокировал его, почти заставив сделать шаг назад. – Лорд? У меня нет причин гневаться. Я огорчен, что придется покинуть ваш дом, но будут в этом году и радости. Ваша дочь скоро выйдет замуж.
– Верно. – Старик задержал взор еще на мгновение и, словно сдавшись в некоем споре, опустил глаза, отвернувшись к камню очага. – Она преклонит колени перед таким же, в огромном доме, который уже строит ее нареченный.
– Андарист изыскан, – произнес Крил как можно спокойнее. – Полон чести и верности. Этот связующий брак надежен, сир, по любой оценке.
– Но любит ли она его?
Такой вопрос заставил его пошатнуться. – Сир? Я уверен, что любит!
Джаэн хмыкнул и вздохнул. – Ты ведь видишь ее насквозь, верно? Все эти годы вы были вместе, держались друг за дружку. Так она любит его? Я рад. Да, рад слышать, что ты так говоришь.
Крил должен был вскоре уехать – и знал, что не оглянется назад. Ни разу. И никогда, при всей любви к старику, не вернется. В груди он ощущал лишь холод, порошок мертвой золы, и знал: если вздохнуть глубоко, придет мучительный кашель.
У нее будет камень очага. Она и ее новый супруг получат слова, лишь им известные; первые слова тайного языка, который всегда должен соединять мужа и жену. Дары Азатенаев не просты, никогда не просты. – Лорд, так могу я поездить сегодня?
– Конечно, Крил. Ищи эскеллу и если найдешь хоть одну, привези домой. Будет пир. Как в прежние дни, когда зверья было много, а?
– Сделаю все что смогу, лорд.
Поклонившись, Крил покинул Великие Покои. Он уже предвкушал поездку, экспедицию из дома в холмы. Он возьмет охотничье копье, хотя, по правде говоря, не ожидает встретить столь благородного зверя, как эскелла. В прошлых поездках в западные холмы он встречал лишь кости от прошлых охот, следы давних избиений.
Эскеллы пропали, последняя убита десятилетия назад.
Что ж, во время скачки – если захочет – Крил может слушать топот копыт снизу, воображая, что это захлопывается очередная дверь. Им конца нет, не так ли?
Эскеллы пропали. Холмы лишены жизни.
Любая дурная привычка дарит удовольствие. В юности Хиш Тулла отдавала сердце так легко, что все видели в том беззаботность, словно сердце – вполне бесполезная вещица; но все было не так, вовсе нет. Она попросту хотела, чтобы сердце было в чужих руках. Падение оказалось так легко достижимым и потому стало... вполне бесполезной вещицей. Неужели никто не видит ее боли каждый очередной раз, когда ее выбрасывают, жестоко использованную, униженную отказом? Неужели они думают, что ей нравятся такие чувства, сокрушительное отчаяние при осознании собственной бесполезности? «О, она весьма быстро исцелится, милая наша Хиш. Как всегда».
Привычка подобна розе и в день распускания бутона, да, ты видишь уникальный узор на каждом лепестке, и малые привычки таятся в большой. На этом лепестке точные указания, как выдавить улыбку, элегантно взмахнуть рукой и пожать плечами. На другом, броско-алом, отряды слов и порывы воскресить живость натуры; скользить через комнаты, сколько бы глаз не следило, сколько бы взоров тебя не оценивало. О, наша роза крепко держится на стебле, не так ли?
Конь не беспокоился под ней; между ног было успокаивающее тепло жеребячьего крупа. Среди ветвей скрывшего ее от внезапного ливня дерева она видела – сквозь потоки воды – троих мужчин подле базальтовой гробницы, что стоит на поляне среди многих иных могил и крипт; а дождь хлестал, пытаясь утопить их.
Она познала удовольствие с двумя из троих братьев, но (хотя она и сама уже не настроена) третий, похоже, стал недостижим, ибо скоро вступит в брак. Кажется, Андаристу выпала такая редкая и драгоценная любовь, что он встал на колени у ног одной женщины и никогда не станет озираться в поисках иной, даже глаз не поднимет. Капризная и бестолковая дочка Джаэна Энеса не ведает своего счастья; уж в этом-то Хиш уверена, ведь видит в Энесдии слишком много сходства с собой. Едва вошедшая в возраст, жадная до любви и опьяненная ее силой – скоро ли она сбросит узду?
Хиш Тулла стала госпожой своего Дома. Мужа у нее нет и, вероятно, она не введет в свою жизнь никого. Спутница ее – высохшая тень старой привычки, лепестки почти черные, колючий стебель запятнан и покрыт чем-то вроде алого воска. Вот что служит вместо друга, всегда согласного выслушать признание, всегда дающего мудрые советы и не спешащего с осуждением. Ныне, пересекая комнаты, он ловит взгляды... и ей плевать, что все, как им кажется, видят. Наверное, женщину, которая выглядит хуже своих лет, покрытую рубцами одиночку, дикую рабыню плотских излишеств, ныне возвращенных земле, благоразумно забытых... хотя она и способна еще иногда на мгновение живости, на яркую улыбку.
Дождь прекратился, завеса струй разошлась, вновь пропуская солнце. Вода еще текла по листьям, лизала черные сучья и капала на провощенный плащ, словно старые слезы. Щелкнув языком, Хиш послала коня вперед. Камни зашелестели под копытами, трое братьев обернулись на звук.
Они приехали с южного тракта, презрев небесный потоп; Хиш решила, что братья ее не замечали, когда останавливали коней, спешивались и вставали перед запечатавшей гробницу плитой без надписи. Тело их отца, Нимандера, покоилось в крипте, в выдолбленном стволе Черного дерева; он умер всего два года назад и братья, вполне очевидно, еще не начали его забывать.
Ставшая свидетельницей этой сцены Хиш заметила личный ее характер, заметила, как опускается защитная решетка, как сквозит во взглядах недовольство и, отчасти, раздражение. Поднимая руку в перчатке и подводя коня ближе, сказала: – Я искала убежища от ливня, братья, когда вы прискакали. Извините за вторжение, оно было не намеренным.
Сильхас Руин, которому Хиш несколько лет назад подарила четыре месяца восторженного обожания, прежде чем он потерял интерес, отозвался первым. – Леди Хиш, мы знали, что не одни, но тени деревьев скрывали личность свидетеля. Да, это случайность. Знайте, что мы всегда будем вам рады.
Старые любовники неизменно бывали с ней вежливы – возможно, оттого, что она не пыталась никого удерживать. Да, разбитое сердце лишилось силы и тем более воли, она лишь ползет прочь с бледной улыбкой и унылым взором. В такой галантности, полагала она, скрыта простая жалость.








