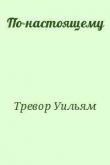Текст книги "Тайна банкира. Красная мантия"
Автор книги: Стенли Джон Уейман
Соавторы: Мэри Элизабет Брэддон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Глава XIII
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Все это время, как читатель, конечно, заметил, мадемуазель не говорила со мною и вообще не произнесла ни одного слова. Во время борьбы она играла свою роль в суровом молчании, поражение встретила безмолвными слезами, и ни разу ее уста не разжались ни для молитвы, ни для упреков, ни для извинений. Когда борьба кончилась, и театр ее остался за нашими плечами, ее поведение нисколько не изменилось. Она упорно отворачивала свое лицо в сторону и делала вид, что не замечает меня. Не далее как в четверти мили расстояния я поймал свою лошадь, которая паслась у дороги, и, сев в седло, занял свое место позади остальных, как и утром. Как и утром, мы ехали молча, словно ничего не случилось, но я дивился в душе необъяснимому женскому характеру и тому, как могла она принять участие в нападении и затем вести себя, как ни в чем не бывало.
Но как ни старалась она скрыть это, в ней произошла некоторая перемена. Как ни хорошо была сделана ее маска, она не могла вполне скрыть ее ощущений, и я видел, что ее голова опущена, что она едет рассеянно, что вся ее осанка изменилась. Я заметил, что она бросила, или обронила, свой хлыст, и мне становилось ясно, что борьба не только восстановила меня в ее мнении, но к прежней ее ненависти присоединила стыд и досаду: стыдно ей было, что она так унизилась, хотя бы для спасения своего брата; досадно было, что поражение было единственной наградой ее усилий.
Ясное доказательство этого я получил в Лектуре, где гостиница имела лишь общую комнату, так что нам пришлось обедать вместе. Я велел поставить для них стол подле огня, а сам удалился к меньшему столику, стоявшему у дверей. Других гостей в комнате не было, и это делало еще более заметным отчуждение между нами. Де Кошфоре, кажется, понимал это. Он пожал плечами и посмотрел на меня с улыбкой, не то печальной, не то насмешливой. Но мадемуазель была неумолима. Она сняла маску, и лицо ее было неподвижно, как камень. Один раз, лишь один раз за все время я заметил на этом лице мгновенную перемену. Она вдруг покраснела, вероятно, под влиянием своих мыслей, но покраснела так, что все ее лицо запылало от лба до подбородка. Я с любопытством следил, как рос и густел этот румянец, но она надменно повернулась ко мне спиною и начала смотреть через окно на убогую улицу.
По-видимому, она и ее брат многого ожидали от этой попытки спасти их, потому что, когда мы после полудня продолжали свой путь, я заметил в них резкую перемену. Они ехали, как люди, готовые на все, хотя бы на самое худшее. Их безвыходное положение, их безотрадное будущее нависло, точно туман перед глазами, окрашивая ландшафт в печальный цвет и лишая даже солнечный закат его блестящих красок. С каждым часом настроение Кошфоре ухудшалось, и он становился все менее разговорчивым. Когда солнце совсем зашло и ночной мрак сгустился вокруг нас, брат и сестра ехали рядом, погруженные в мрачное раздумье, и я уверен, что мадемуазель плакала. Тень кардинала, Парижа, эшафота нависла над ними и леденила их. Когда горы, среди которых они провели всю свою жизнь, потонули и растаяли позади нас и мы вступили в широкую Гаронскую низменность, их надежды также точно потонули и растаяли, уступив место полному отчаянию. Среди многочисленной стражи, под огнем любопытных взоров, имея своим спутником лишь свою гордость, де Кошфоре, я не сомневаюсь в этом, вел бы себя отважно до самого конца. Но быть почти одному, двигаться среди серого ночного сумрака в темноте и на верную безотрадную смерть, – нет ничего удивительного, если сердце у него замирало и кровь медленнее струилась в его жилах, если он более думал о безутешной жене и разрушенном семейном очаге, покинутых навсегда, чем о том деле, для которого пожертвовал собою. Нет также ничего удивительного, если он и не мог скрыть всего этого.
Но Бог свидетель тому, что у них не было монополии на безотрадные чувства. У меня самого на душе было не менее тоскливо. Солнце еще не успело закатиться, как радость победы, пыл битвы, которые согрели мое сердце утром, остыли, уступив место холодному неудовольствию, отвращению, отчаянию, какие мне случалось иногда испытывать лишь после бессонной ночи, проведенной за игорным столом. До сих пор меня ожидали известные затруднения; мое предприятие было сопряжено с определенным риском, исход его возбуждал сомнения. Но теперь все миновало, конец был ясен и близок, так близок, что я мог считать свое дело исполненным. Еще один час торжества ждал меня, и я лелеял мысль об этом, как игрок лелеет свою последнюю ставку, представлял себе, где, когда и каким образом это произойдет, и старался всецело сосредоточить свое внимание на этом. Но какова же моя награда? Увы, мысль об этом также сама собою навязывалась, и тем чаще, чем ближе надвигалась ночь. При виде предметов, напоминавших мне о моем путешествии на юг, когда я ехал, исполненный совершенно других мыслей, задаваясь совершенно другими планами, – Боже, как давно все это было! – я с горечью спрашивал себя, неужели это я предаюсь таким мечтам, неужели это я, Жиль де Беро, завсегдатай «Затона», игрок, а не какой-нибудь Дон Кихот-Ламанчский, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий таз цирюльника за золотые доспехи.
Мы достигли Ажана очень поздно. Проселочная дорога, усеянная ухабами, древесными пнями и вообще скорее напоминавшая болото, чем сушу, измучила нас, и поэтому ярко пылавший очаг в гостинице «Голубая дева» показался нам совершенно новым миром и поднял наш дух и силы. В гостинице у очага мы услышали странные толки о происшествиях в Париже, о движении против кардинала с королевою-матерью во главе и о том, что на этот раз можно ожидать серьезных последствий. Лишь хозяин смеялся над этими толками. Я соглашался с ним. Даже де Кошфоре, который вначале готов был построить на этом свои надежды, отказался от них, узнав, что все движение исходит из Монтобана, откуда уже не раз направлялись неудачные удары против кардинала.
– Они каждый месяц убивают его, – насмешливо сказал хозяин. – Но с тех пор, как де Шале и маршал поплатились за свои козни, я питаю несокрушимую веру в его эминенцию, – таков, говорят, его новый титул.
– А здесь все спокойно? – спросил я.
– Совершенно. С тех пор, как Лангедокская история кончилась, все идет хорошо, – ответил хозяин.
Мадемуазель, тотчас по нашем прибытии в Ажан, удалилась в свою комнату, так что в этот вечер мне и ее брату пришлось час или два провести вместе. Я предоставил ему полную свободу держаться вдали от меня, но он сам не пожелал воспользоваться этим. Между нами начали устанавливаться своего рода товарищеские узы, которым наши отношения победителя и пленника сообщали особенный колорит. Мое общество доставляло ему какое-то странное удовольствие; он подшучивал над моим положением тюремщика, насмешливо спрашивал у меня позволения сделать то или другое. Однажды он обратился ко мне с вопросом, что я сделал бы, если бы он нарушил свое слово.
– Или если бы я поступил таким образом, – шутливо продолжал он. – Предположим, что я в этом болоте, по которому мы ехали сегодня вечером, я подкрался бы к вам и ударил бы вас сзади? Что тогда, г-н де Беро? Проклятие, я, право, удивляюсь себе, что не сделал этого. Через двадцать четыре часа я мог быть в Монтобане, где нашел бы пятьдесят надежных убежищ, и никто бы не знал о происшедшем.
– Исключая вашей сестры, – спокойно заметил я.
Выражение его лица изменилось.
– Да, – сказал он, – боюсь, что мне пришлось бы и ее убить, чтобы – сохранить самоуважение. Вы правы?
И он погрузился на несколько минут в задумчивость. Но затем я заметил, что он смотрит на меня с таким явным недоумением, что я не мог удержаться от вопроса:
– Что такое?
– Вы дрались на многих дуэлях?
– Да, – ответил я.
– Случалось вам когда-нибудь нанести нечестный удар?
– Никогда, – ответил я. – Почему вы спрашиваете?
– Потому что… мне хотелось проверить свое впечатление. Сказать вам по правде, г-н де Беро, я вижу в вас двух человек.
– Двух человек?
– Да, двух. Один из них – это тот, что захватил меня; другой тот, который сегодня отпустил моего друга.
– Вас удивляет, что я отпустил его? Это было очень предусмотрительно с моей стороны, г-н де Кошфоре, – ответил я. – Я старый игрок. Я знаю, когда ставка начинает быть слишком высока для меня. Человеку, поймавшему льва в свой волчий капкан, нечем особенно хвастать.
– Вы правы, – ответил он улыбаясь. – А все-таки… в вас сидят два человека.
– Мне кажется, что это можно сказать о большинстве людей, – заметил я со вздохом. – Но не всегда обе эти натуры присутствуют одновременно. Часто они чередуются друг с другом.
– Но как же одна может приниматься за дела другой? – резко спросил он.
Я пожал плечами.
– Ничего не поделаешь. Нельзя принять наследства и не принять долгов.
В первую минуту он ничего не ответил, и мне показалось, что его мысли устремились на его собственное положение. Но вдруг он опять поднял на меня взор.
– Вы ответите на мой вопрос, г-н де Беро? – вкрадчиво спросил он.
– Может быть, – сказал я.
– Скажите мне… меня это очень интересует… что такое послало вас на поиски меня… не в добрый час для меня?
– Монсиньор кардинал, – ответил я.
– Я не спрашиваю, кто , – сухо ответил он. – Я спрашиваю, что . Вы не имеете личной злобы против меня?
– Никакой.
– Вы ничего не знаете обо мне?
– Ничего.
– Но что в таком случае побудило вас сделать это? Боже мой, вот странно, – продолжал он с откровенностью, которой я не ожидал. – Природа вовсе не предназначала вас для роли сыщика. Что же вызвало все это?
Я встал. Было уже поздно, комната совершенно опустела, огонь в очаге догорал.
– Завтра я скажу вам об этом, – ответил я. – Завтра мне предстоит длинная беседа с вами, и это будет ее частью.
Он посмотрел на меня с изумлением и даже с некоторою подозрительностью. Но я приказал подать себе светильник и, тотчас отправившись спать, положил конец нашему разговору. Утром мы не виделись вплоть до той минуты, когда нам нужно было двинуться в путь.
Кому случалось бывать в Ажане и видеть, как к северу от города виноградники поднимаются уступами, так что одна терраса красноватой земли: покрытая зеленью летом, и голая, каменистая – осенью, возвышается над другою, тот, вероятно, не забыл и того места, где дорога, в двух лье расстояния от города, взбирается на крутой холм. На вершине холма встречаются четыре дороги, и здесь, и видный на далекое расстояние, стоит указательный столб, где обозначено: куда лежит дорога в Бордо, куда – в старый Монтобан, и куда – в Париж.
Этот холм произвел на меня сильное впечатление во время моего путешествия на юг, быть может, потому, что отсюда я впервые увидел Баронскую низменность и вступил в тот край, где мне предстояло опасное дело. Это место так запечатлелось в моей памяти, что я привык смотреть на этот обнаженный холм с указательным столбом на вершине его, как на первое преддверие Парижа, как на первый признак возвращения к прежней жизни.
В продолжение двух дней я с нетерпением ожидал, когда, наконец, покажется этот холм. Это место было замечательно пригодно для выполнения того, что было у меня на уме. Этот указательный столб, указывающий дороги на север, юг, восток и запад, был самым удобным местом для встреч и прощаний.
Мы, де Кошфоре, мадемуазель и я, подъехали к подножию холма около одиннадцати часов пополуночи. Порядок нашей процессии теперь изменился, и я ехал впереди, предоставив им следовать за мною, на каком угодно расстоянии. У подножия холма я остановился и, пропустив мимо себя мадемуазель, жестом руки остановил де Кошфоре.
– Простите, одну минутку, – сказал я. – У меня есть к вам просьба.
Он посмотрел на меня с некоторой досадой, и в глазах его мелькнул дикий огонек, показывавший, как тоска и отчаяние снедали его сердце. Сегодня утром он выехал в самом веселом расположении духа, но постепенно уныние овладело им.
– Ко мне? – с горечью повторил он. – Что такое?
– Я желал бы сказать пару слов мадемуазель… наедине.
– Наедине? – воскликнул он с изумлением.
– Да, – ответил я, не смущаясь, хотя он нахмурился. – Вы, конечно, можете оставаться на расстоянии зова. Мне только хотелось бы, чтобы вы на некоторое время отделились от нее.
– Для того, чтобы вы могли поговорить с нею?
– Да.
– Но скажите в таком случае мне , – возразил он, подозрительно глядя на меня. – Ручаюсь вам, что мадемуазель не имеет ни малейшего желания…
– Говорить со мною? – докончил я. – Да, я знаю это. Но я желаю говорить с нею.
– Ну, так говорите при мне! – грубо ответил он. – Если это все, то поедем дальше и присоединимся к ней.
И он сделал движение, чтобы тронуться с места.
– Это не годится, г-н де Кошфоре, – решительно сказал я, снова останавливая его рукой. – Прошу вас быть более уступчивым. Я прошу у вас немногого, очень немногого, и клянусь вам, если мадемуазель не исполнит моей просьбы, она будет сожалеть об этом всю свою жизнь.
Он посмотрел на меня, и лицо его потемнело еще более.
– Хорошо сказано, – иронически сказал он. – Но я прекрасно понимаю вас, и не допущу этого. Я не слеп, г-н де Беро, и я понимаю вас. Но, повторяю вам, я не допущу этого. Я не согласен на такое Иудино предательство!
– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, – ответил я, с трудом сохраняя свое самообладание, потому что у меня появилось искушение ударить этого дурака.
– Но зато я понимаю, что «вы» хотите сказать, – ответил он с подавленной яростью. – Вы хотите, чтобы она продала себя, – продала себя для моего спасения! А я, вы думаете, буду стоять, сложа руки, и глядеть на этот постыдный торг? Нет, сударь, никогда, никогда, хотя бы мне пришлось идти к позорному столбу! Если я жил, как глупец, то все же я умру как дворянин.
– Я уверен в том и другом, – с сердцем ответил я, хотя в душе восторгался им.
– О, я не совсем дурак! – воскликнул он сердито. – Вы думаете, у меня нет глаз?
– В таком случае докажите, что у вас есть и уши, – насмешливо сказал я. – Выслушайте меня! Я заявляю, что никогда мысль о подобной сделке не приходила мне в голову. Вы были добры вчера вечером и высказали обо мне хорошее мнение, г-н де Кошфоре. Почему же при одном слове «мадемуазель» вы сразу изменили его? Ведь я хочу только поговорить с нею. Я ничего не намерен просить у нее, мне нечего ждать от нее, никакой милости, никакой уступки. То, что я скажу ей, она, без сомнения, передаст вам. Посудите же сами, что дурного могу я причинить ей здесь, на дороге, на виду у вас?
Он мрачно посмотрел на меня, его лицо еще пылало, глаза сверкали подозрением.
– Что вы хотите сказать ей, – настаивал он.
Я совершенно не узнавал его. Его небрежная, беспечная веселость совершенно покинула его.
– Вы знаете, что я не намерен сказать ей, г-н де Кошфоре, и этого достаточно для вас, – ответил я.
Он колебался несколько мгновений, все еще неудовлетворенный. Но затем безмолвно махнул мне рукой, в знак того, что я могу подъехать к мадемуазель.
Она, между тем, остановилась шагах в двадцати от нас, недоумевая, конечно, в чем дело. Я направился к ней. На ней была маска, так что я не мог разглядеть выражение ее лица, но манера, с которою она повернула голову лошади в сторону брата и смотрела мимо меня, тоже была полна значения. Мне показалось, что почва проваливается у меня под ногами. Весь трепеща, я поклонился ей.
– Мадемуазель, – сказал я, – вы позволите мне на несколько минут воспользоваться вашим обществом, пока мы будем продолжать свой путь?
– Это для чего? – возразила она самым холодным тоном, каким когда-либо женщина говорила на земле с мужчиной.
– Для того, чтобы объяснить вам множество вещей, которых вы совершенно не понимаете, – пробормотал я.
– Предпочитаю оставаться в неведении, – ответила она, и ее осанка при этом была еще обиднее слов.
– Мадемуазель, – настаивал я, – вы сказали мне однажды, что никогда больше не станете поспешно судить обо мне.
– Факты осуждают вас, не я, – ответила она. – Я не одного уровня с вами и потому не компетентна судить вас… слава Богу!
Я содрогнулся, хотя солнце грело меня, и в воздухе не было ни малейшего ветерка.
– Уже один раз вы думали так же, – продолжал я после некоторого молчания, – и впоследствии оказалось, что вы ошибались. Это может повториться и теперь.
– Невозможно, – сказала она.
Это уязвило меня.
– Неправда! – вскричал я. – Это возможно! Вы бессердечны, мадемуазель. Я столько сделал за последние три дня, чтобы облегчить ваше положение. И теперь прошу у вас одолжения, которое вам ничего не стоит.
– Ничего не стоит? – медленно повторила она, и ее взор, как и слова, резали меня, точно ножом. – Ничего? По-вашему, мне ничего не стоит терять свое достоинство, говоря с вами? По-вашему, мне ничего не стоит быть здесь, когда каждый взгляд, который вы бросаете на меня, кажется мне оскорблением, ваше дыхание – заразой? Ничего? Нет, это очень много, хотя едва ли вы в состоянии понять это.
Я был на мгновение точно оглушен, и только лицо мое исказилось от нравственной боли. Одно дело чувствовать, что тебя ненавидят и презирают, что место доверия и уважения заняли злоба и отвращение, – и другое дело – слушать эти жестокие и безжалостные слова, изменяться в лице под градом оскорблений, сыплющихся с язвительного женского языка. На минуту я не мог совладать со своим голосом, чтобы ответить ей. Но затем я указал рукой на де Кошфоре.
– Вы любите его? – хриплым голосом спросил я.
Она не отвечала.
– Если любите, то вы позвольте мне высказаться. Скажите «нет», мадемуазель, и я оставлю вас в покое. Но вы будете сожалеть об этом всю свою жизнь!
Лучше было принять такой тон с самого начала. Она тотчас поникла головой, ее взор забегал по сторонам, – мне даже показалось, как будто она сделалась меньше ростом. В один миг от всей ее надменности не осталось и следа.
– Я готова выслушать вас, – пробормотала она.
– В таком случае, с вашего позволения, мы будем продолжать наш путь, – сказал я, спеша воспользоваться своею победой. – Вам нечего бояться. Ваш брат будет следовать за нами.
Я схватил ее лошадь под уздцы и повернул ее мордой вперед; через мгновение мы с мадемуазель ехали рядом по длинной, прямой дороге, расстилавшейся перед нами. На горизонте, там, где дорога достигала вершины холма, я мог видеть указательный столб, резко очерчивавшийся на фоне синего неба.
– Ну, сударь? – сказала мадемуазель. Она вся дрожала, точно от холода.
– Я хочу рассказать вам, мадемуазель, целую историю, – ответил я. – Вам, может быть, покажется, что я начинаю издалека, но в конце концов эта история, наверное, заинтересует вас. Два месяца тому назад в Париже был человек… быть может, это был дурной человек, по крайней мере все его считали таким, – человек, пользовавшийся странною репутацией.
Она вдруг повернулась ко мне, и я мог видеть сквозь маску, как заблестели ее глаза.
– Ах, сударь, увольте меня от этого! – воскликнула она презрительно. – Я это готова принять на веру.
– Очень хорошо, – спокойно ответил я. – Каков бы ни был этот человек, в один прекрасный день, вопреки эдикту, изданному кардиналом, он дрался на дуэли с молодым англичанином. Англичанин пользовался влиянием, человек, о котором я говорю, не имел никакого. Его арестовали, посадили в тюрьму, обреченного на смерть и заставили изо дня в день ожидать казни. Но затем ему сделали предложение: «Отыщи и приведи такого-то человека, стоящего вне закона, – человека, за поимку которого объявлена награда, и ты будешь свободен!»
Я остановился, глубоко вздохнул и затем, глядя не на нее, а куда-то вдаль, продолжал с большими остановками.
– Мадемуазель! Теперь конечно, легко решить, какой путь ему следовало избрать. Трудно даже найти для него оправдание. Но есть одно обстоятельство, которое говорит в его пользу. Дело, ему предложенное, было сопряжено с большими опасностями. Он рисковал при этом жизнью, он знал, что рискует, – и последствия показали, что он был прав. Он мог опоздать; преступника мог захватить кто-нибудь другой; его могли убить; он мог сам умереть, мог… Но что говорить об этом, мадемуазель? Мы знаем, какой путь избрал этот человек. Он избрал худший путь, и его отпустили на слово, доверяя его чести, снабдив на дорогу средствами, – отпустили с условием, чтобы он разыскал преступника и привел его живым или мертвым.
Я снова остановился, все еще не решаясь посмотреть на нее, и после минутного молчания продолжал:
– Вторую половину истории вы до некоторой степени знаете, мадемуазель. Довольно вам будет сказать, что мой герой явился в отдаленную, глухую деревню и здесь с большою опасностью для себя, но, да простит ему Бог, довольно предательским образом, проник в дом своей жертвы. Но с той поры, как он перешагнул этот порог, мужество начало ему изменять. Будь этот дом охраняем мужчинами, он не чувствовал бы таких угрызений совести. Но он застал там лишь двух беззащитных женщин, и повторяю вам, с этой поры ему опротивело дело, для которого он явился туда, которое навязала ему злая судьбина. Тем не менее он не оставлял его. Он дал слово, и если существовали в его роду традиции, которым он никогда не изменял, то это – верность своему лагерю, верность человеку, к которому он поступил на службу. Все же он делал свое дело нехотя, среди тяжких угрызений совести, среди жгучих мук стыда. Но драма мало-помалу, почти вопреки его воле, сама пришла к развязке, и ему пришлось совершить лишь один последний шаг.
Я дрожа посмотрел на мадемуазель. Но она отвернула лицо в сторону, так что я не мог определить, какое впечатление произвели на нее мои слова.
– Не судите меня неправильно, – продолжал я тише. – Не судите неправильно и того, что я скажу теперь вам. Я рассказываю вам не любовную историю, и она не имеет такого приятного конца, какой романисты любят сообщать своим произведениям. Я должен только сказать вам, что этот человек, который почти всю свою Жизнь провел в гостиницах, ресторанах и игорных домах, здесь в первый раз встретил благородную женщину, и просвещенный ее верностью и любовью, понял, что такое вся его жизнь, и каков истинный характер того дела, за которое он взялся. Я думаю… нет, я даже наверное знаю, что это в тысячу раз усугубило страдания, которые он испытывал, когда, наконец, узнал необходимую ему тайну, – узнал от этой же женщины. Этою тайною он овладел при таких обстоятельствах, что, если бы он не чувствовал стыда, то и в аду не нашлось бы для него места. Но в одном отношении эта женщина была несправедлива к нему. Она думала, что, узнав от нее тайну, он тотчас отправился и воспользовался ею. Это неверно. Ее слова еще звучали у него в ушах, когда ему было сообщено, что эта тайна известна уже другим, и если бы он не поспешил предупредить их, г-н де Кошфоре был бы захвачен другими.
Мадемуазель так неожиданно прервала свое продолжительное молчание, что ее лошадь испугалась.
– О, пусть лучше бы так было! – воскликнула она.
– Пусть его захватили бы другие? – переспросил я, теряя свое мнимое самообладание.
– О, да, да! – порывисто продолжала она. – Отчего же вы не сказали мне? Отчего вы не сознались мне даже в тот последний момент? Я… но довольно! Довольно! – жалобным голосом повторила она. – Я уже слышала все! Вы терзаете мое сердце, господин де Беро. Дай Бог, чтобы я имела когда-нибудь силы простить вас.
– Вы не дослушали до гонца, – сказал я.
– Я больше не желаю слушать, – возразила она, тщетно стараясь придать своему голосу твердость. – Зачем? Что могу я сказать, кроме того, что уже мною сказано? Или вы думаете, что я могу вас теперь же простить, – теперь, когда мой брат едет навстречу своей смерти? О, нет, нет! Оставьте меня! Умоляю вас, оставьте меня в покое! Я плохо чувствую себя.
Она склонила голову над шеей своей лошади и зарыдала с таким отчаянием, что слезы ручьем полились из-под ее маски и, точно капельки росы, покатились по лошадиной гриве. Я боялся, что она свалится с лошади, и невольно протянул к ней руку, но она с испугом отстранила ее.
– Нет, – пролепетала она, всхлипывая, – не трогайте меня. Между нами слишком мало общего.
– Но вы должны дослушать до конца, мадемуазель, – решительно заявил я, – хотя бы из любви к вашему брату. Есть способ, которым я могу восстановить свою честь, и уже совсем недавно я решил сделать это, а сегодня, мне приятно сознаться в этом; я со стойким, хотя и не совсем легким сердцем приступаю к выполнению этого. Мадемуазель, – внушительно продолжал я, далекий от всякого торжества, тщеславия, надменности, и лишь радуясь той радости, которую собирался доставить ей, – я благодарю Бога, что еще в моей власти поправить сделанное мною; что я еще могу вернуться к пославшему меня и сказать ему, что я изменил свое намерение и готов нести последствия своего поступка – подвергнуться казни.
Мы были в эту минуту в ста шагах от указательного столба. Мадемуазель прерывающимся голосом сказала, что не поняла меня.
– Что… что такое вы говорите? Я не поняла.
И она завозилась с лентами своей маски.
– Я говорю лишь, что возвращаю вашему брату слово, – мягко ответил я. – С этого момента он может идти, куда ему угодно. Вот здесь, где мы стоим, сходятся четыре дороги. Направо лежит дорога в Монтобан, где у вас есть, конечно, друзья, которые скроют его на время. Налево лежит дорога в Бордо, где вы можете, если хотите, сесть на корабль. Одним словом, мадемуазель, – заключил я слегка упавшим голосом, – здесь, будем надеяться, кончатся все ваши беды и треволнения.
Она повернула ко мне свое лицо (мы в это время остановились) и старалась сорвать ленточки своей маски; но ее дрожащие пальцы не повиновались ей, и через минуту она с возгласом отчаяния опустила руку.
– Но, вы? вы? – воскликнула она, совершенно другим голосом. – Что же вы будете делать? Я вас не понимаю, сударь!
– Здесь есть третья дорога, – ответил я. – Она ведет в Париж. Это моя, дорога, мадемуазель. Здесь мы расстанемся.
– Но почему? – дико вскричала она.
– Потому что с этой минуты я постараюсь сделаться честным человеком, – ответил я тихо. – Потому что я не желаю быть великодушным на чужой счет. Я должен вернуться туда, откуда пришел.
– В тюрьму? – пробормотала она.
– Да, мадемуазель, в тюрьму.
И она снова сделала попытку снять маску.
– Мне нехорошо, – пролепетала она. – Я задыхаюсь!
И она так зашаталась, что я поспешил спрыгнуть на землю и подбежал как раз вовремя, чтобы подхватить мадемуазель на руки. Но она была не совсем в забытьи, потому что тотчас вскричала:
– Не трогайте меня! Не трогайте меня! Я умру от стыда!
Однако, не взирая на эти слова, она ухватилась за меня, а слова ее сделали меня счастливыми. Я отнес ее в сторону и положил на землю. Кошфоре пришпорил копя и, подъехав к нам, соскочил на землю. Его глаза сверкали.
– Что такое? – воскликнул он. – Что вы сказали ей?
– Она сама расскажет вам, – сухо ответил я, потому что под влиянием его гневного взора ко мне вернулось самообладание. – Между прочим, я сообщил ей, что вы свободны. С этой минуты, г-н де Кошфоре, я возвращаю вам ваше слово. Прощайте!
Он что-то закричал, когда я садился на коня, но я не остановился и не удостоил его ответа. Вонзив шпоры в бока своей лошади, я промчался мимо придорожного столба, по направлению к ровному голому плоскогорью, которое расстилалось передо мною, и оставил позади все, что было мне мило.
Проехав шагов около ста, я оглянулся назад и увидел, что Кошфоре стоит у распростертого тела сестры, с изумлением глядя мне вслед. Через минуту, когда я снова оглянулся, я увидел лишь тонкий деревянный столб и под ним какую-то темную, неясную массу.