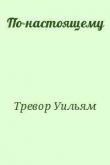Текст книги "Тайна банкира. Красная мантия"
Автор книги: Стенли Джон Уейман
Соавторы: Мэри Элизабет Брэддон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА XXXIX
Врачу бы хотелось узнать имя и звание больной дамы и ее спутника. Герцог не имел с собою лакея, но по лошади его доктор заключил, что он, должно быть, богат, не подозревая его звания, Только когда они подъехали к гостинице и прибежавшие слуги обращались к молодому человеку с титулом «ваша светлость», он узнал, что имеет дело с знатным лицом. Больную понесли в большое зало в первом этаже и положили на кушетку.
– Теперь я попрошу вас оставить нас, – сказал доктор герцогу, – мне нужна помощь женщины, умеющей ходить за больными. Не сомневаюсь, что у вас в гостинице найдется такая особа, – обратился он к слуге и получив утвердительный ответ, – хорошо же, продолжал он, – вы ее сейчас же пришлите, а между тем ваша светлость поможет мне перенести кушетку в смежную комнату: то была богато убранная спальня. Когда внесли в нее Эстер, она с беспокойством оглянулась.
– К чему перенесли вы меня сюда, – воскликнула она. – Разве я должна переночевать в Ричмонде? Неужели нельзя отвезти меня домой?
– Сегодня нет, дитя мое, – сказал доктор, – теперь уже поздно, а вам необходимо спокойствие.
В мучительной неизвестности прохаживался герцог по залу, между тем как доктор и сиделка хлопотали около больной. Время для него тянулось ужасно долго, каждая минута казалась ему вечностью. Неподвижно смотрел он себе под ноги и с боязнью прислушивался к малейшему звуку, выходящему из смежной комнаты. Наконец дверь отворилась и из нее вышел доктор. Один взгляд на его лицо сказал герцогу, что он услышит мало утешительного; он бросился к нему и судорожно схватил его за руку:
– Скажите, доктор, вся надежда потеряна? – с отчаянием спросил он. – Она не выздоровеет более? О, говорите, говорите скорее, не скрывайте от меня истины!
– Ободритесь, ваша светлость, не теряйте мужества. Мне тяжело сказать вам всю правду, но несмотря на то, я не хочу обманывать вас. Минуты молодой дамы сосчитаны и если у нее есть родители или родственники, то я советовал бы вам, не теряя времени, уведомить их по телеграфу о случившемся.
– Нет, моя бедная невеста не имела ни родственников, ни друзей, исключая меня; но если вы будете так добры и пришлете моей бедной Эстер духовника. Здесь поблизости, вероятно, найдется священник?
Доктор обещал исполнить его просьбу и хотел удалиться.
– Стойте! – закричал герцог, – скажите, неужели никакое средство не может спасти ее?
– Нет, – печально ответил доктор, – у бедной девушки переломан спинной хребет и она неизлечима. Впрочем, если вас успокоит это, то я по телеграфу призову двух известнейших врачей Лондона.
– Вы меня обяжете; но между тем вы позволите мне видеть больную? – спросил герцог с умоляющим взглядом на дверь спальни.
– Да, вы можете видеться с нею; она в полном сознании и очень спокойна, несмотря на то, что знает сбою участь.
Герцог опустил голову. Он не мог говорить, но с благодарностью пожал руку доктора и тихо вошел в комнату больной.
Эстер Вобер лежала на постели, не будучи в состоянии пошевелиться; большие черные глаза ее обратились к дверям, когда в них появился герцог. Никогда прежде он не замечал в них того выражения глубокого чувства, которое теперь в них сияло. Он подошел к постели и опустился в кресло, стоявшее рядом с нею. Гордая, вспыльчивая женщина стала скромна, как агнец.
– Любезный Винчент, – тихим голосом произнесла она, – вы не должны так горевать по мне. Ведь еще вся жизнь перед вами. Для вас и для счастия вашей жизни лучше, что я умру. Я всегда была гордым и упрямым существом и потому никогда не могла бы быть хорошей женой. Верьте мне, так лучше. Со временем, я надеюсь, вы выберете себе жену знатного рода, достойную вас и любви вашей.
– О, Эстер! – воскликнул герцог, – я пожертвовал бы всем своим богатством, даже счастьем жизни своей, если бы только мог спасти вас.
– Я знаю ваше благородное сердце, Винчент, но я также знаю, что смерть моя назначена Провидением и сделает благодетельное влияние на счастие всей вашей будущей жизни. Но теперь, мой друг, выслушайте меня. Я много согрешила в течение моей короткой жизни и искренно раскаиваюсь в том; но один грешный поступок я бы желала исправить, если было бы не поздно. Я говорю о жестокой несправедливости к невинной девушке, которую преследовала за ее красоту. – В коротких словах Эстер рассказала, как она содействовала в похищении Виолетты Вестфорд. Герцог серьезно и внимательно слушал. Признание это произвело на него печальное впечатление.
– Я непростительно поступила, неправда ли, Винчент? – сказала она по окончании своего рассказа. – Теперь вы станете презирать меня?
– Нет, Эстер, но я презираю этого человека, этого подлого Руперта Гудвина, который хладнокровно и из какой-либо личной ненависти воспользовался вашею глупою завистью.
– Руперт Гудвин! – воскликнула еврейка, – разве имя мистера Гудвина Руперт?
– Да!
– Странно! очень странно!
– Почему, Эстер?
– Не знаю, это имя не так обыкновенно и напоминает мне мое детство. Винчент, мне остается жить еще несколько; но прежде чем я умру, я расскажу вам историю своего детства. Тогда, может быть, объясните вы себе мою гордость и надменность.
ГЛАВА XL
Между тем как Эстер Вобер неподвижно лежала и рука ее покоилась в руке герцога, дверь отворилась и в комнату вошли врач и священник.
– Мой друг, мистер Нампенейс хочет навестить нашу больную, – тихо сказал доктор герцогу. – Не лучше ли будет оставить их одних? Сиделка позаботится о том, чтобы больной не было ни в чем недостатка.
Герцог молча встал и вышел вместе с доктором. В салоне он сел к столу и, закрыв лицо руками, горько плакал и молился за душу любимой им женщины. Таким образом, прошло более часу, когда вышел священник и сиделка объявила герцогу, что больная желает поговорить с ним. Он поспешил к ней и снова занял свое место у ее постели.
– Винчент, – сказала еврейка, – я начну с раннего моего детства. Первое, что я припоминаю, то, что я жила в большом городе, – в Париже, как я узнала впоследствии, – в прекрасной комнате, меблированной изящно, окна которой выходили в сад, где из мраморной вазы бил фонтан. Я припоминаю счастливую жизнь, которую я вела в этом богатом доме и его прекрасном маленьком саду, окруженным высокою каменною стеной, вдоль которой тянулся длинный ряд отличных ореховых деревьев. Память моя показывает мне прекрасное женское лицо, цвет которого был еще темнее цвета моего лица, которое мне постоянно улыбалось и было лицо моей матери. Да, лицо моей матери. На ее руках, убаюкиеваемая ее песнями, я засыпала каждый вечер. О, Винчент, когда я об этом думаю, то мне кажется, что я все еще слышу ее голос; прошедшее открывается передо мною и я опять делаюсь ребенком. Уже очень рано открыла я, что мать моя не была счастлива. Бывало, как она бледная и неподвижная сидела по целым часам, опустив руки на колени; в другое же время она проливала горькие слезы, обнимая и целуя меня. Мало друзей навещало нас в нашем блестящем доме, но изредка приходил незнакомый господин. Он был очень горд и цвет лица его был такой же смуглый, как и цвет лица моей матери. Мне сказали, что я должна называть его отцом. Кое-когда брал он меня на руки и ласкал меня. Когда он бывал у нас, мать моя, казалось, забывала свое горе, она была весела и сидя на скамейке у ног его, смотрела на него своими большими черными глазами и без умолку болтала. В такие минуты она казалась мне необыкновенно прекрасной в драгоценной своей одежде. Между тем как я подросла, посещение отца моего становились реже и мать чаще грустила. Ах, Винчент, в то время я еще была чувствительна! Я видела ее горе и не могла принести ей утешения. Блистательное жилище наше поэтому опротивело мне и казалось мне золотою тюрьмой. Но вдруг наша жизнь переменилась. Мой отец опять приходил довольно часто, но не один; он приводил с собою молодого англичанина, страшного фата, с пустой головой и бесчувственным сердцем. Тогда еще, в такие юные лета, я узнала всю ничтожность этого человека и инстинктивно ненавидела его. Моя мать мало заботилась об этом госте. Когда она была в веселом расположении духа, что, впрочем, случалось каждый раз, когда у нас бывал мой отец, она принимала его друга обворожительнейшей улыбкой и самыми ласковыми словами. Но это делалось только из угождения отцу моему, а ни по какой-либо другой причине. Проходили дни, недели, и отец часто приходил, но всегда в сопровождении своего друга. Он купил матери моей экипаж и они ездили по разным гуляньям в обществе этого англичанина. Три месяца только продолжалась такая жизнь. Ах, Винчент, страшен был ее конец! Ясно припоминаю я тот ужасный день с малейшими подробностями, хотя он мне всегда казался впоследствии страшным сновидением. Мы ожидали отца моего и его друга к обеду. Каждое его посещение было для нас праздником. В этот день мать моя собственноручно убрала стол цветами и фруктами в дорогих фарфоровых вазах. Столовая была небольшая, но хорошенькая комната, убранная в мавританском стиле и отделенная стеклянною дверью от гостиной, которая своими арабесками, позолоченным потолком и многочисленными оттоманами, также была устроена в восточном вкусе. Находясь в ней, можно было думать, что находишься в Альгамбре между принцессами мавританской сказки. Эти украшения как нельзя более подходили к мрачной восточной красоте моей матери. Я хорошо припоминаю ее, как она в тот день покоилась на бархатной подушке низкого дивана, одетая в белое шелковое платье, опоясанная ярко-красной лентой, между тем как на черных волосах ее блестела бриллиантовая луна. Я прижалась к подушке подле нее и таким образом ожидали мы отца моего. Мать моя взглянула на часы, был назначенный час. Вскоре услышали мы подъезжавшую карету, раздался звонок и дверь в прихожей отворили и снова заперли. «Это Руперт! – радостно воскликнула моя мать. Несколько минут спустя послышались шаги. «Это не его походка, – печально сказала мать моя и в ту же минуту в гостиную вошел англичанин. «Где Руперт? Отчего не пришел он вместе с вами? – спросила моя мать. – По простой причине, сударыня. Он два дня тому назад оставил Париж и теперь в дороге к Петербург, – был ответ англичанина. Мать моя так отчаянно вскрикнула, что я никогда в жизни не слышала подобного крика. «Уехал, не сказав мне ни слова? О, это ужасно!» Но потом с принужденным спокойствием она продолжала: «Я знаю, что у Руперта много дел; он без сомнения по важным обстоятельствам был принужден к внезапному отъезду. Через несколько недель он возвратится, как он это делал каждый раз, когда на несколько времени уезжал на свою родину. Я глупо сделала, что так перепугалась». Она произнесла эти слова, по-видимому, очень спокойно, но я тотчас заметила, что это спокойствие было насильственное. Невольный страх, предчувствие приближающегося несчастья, заставило ее побледнеть. «Мистер Гудвин, должно быть, прислал вас, чтобы уведомить меня о его отъезде, – продолжала она, обращаясь к англичанину. – Может быть, он дал вам и письмо ко мне, которое объяснит причину его отъезда».
– Да, сударыня, – ответил англичанин, – мой друг, Руперт, дал мне письмо к вам, которое, я думаю, все объяснит.
Выражение голоса этого человека наполнило меня невыразимым страхом. Он передал письмо матери, которая поспешно распечатала его. Она прочла его до конца, но потом, как статуя, упала на пол. Англичанин подошел к столу, позвонил и сел писать записку, которую, сложив, передал вошедшей горничной. «Отдайте эту записку вашей госпоже, когда она опомнится», – сказал он ей и вышел из комнаты. Письмо отца моего лежало развернуто на полу. Я подняла его и спрятала в карман, ибо инстинктивное чувство говорило мне, что содержание его не должно быть известно любопытной прислуге. После, когда я была одна, я прочла его, но я тогда была слишком молода, чтобы понять его ужасное значение. Это письмо еще теперь хранится между моими бумагами; я столько раз читала его, что каждое слово, написанное в нем, вкоренилось в моей памяти. Оно имело большое влияние на всю мою жизнь, из него-то я заключила, что все мужчины фальшивы и жестоки. Поэтому я в более зрелом возрасте слушала их лесть, принимала от них подарки, но никогда не верила им. Теперь только, в последний час своей жизни, я вижу, что на земле существовал один добрый человек. Сказать вам, Винчент, содержание рокового письма? Оно было недлинно. Человеку, которого так любила моя бедная мать, она надоела, и он продал ее богатому своему другу. Дом, экипаж и лошади, все проиграл он англичанину за карточным столом, последняя его ставка была моя мать, та женщина, которую он клялся любить во всю свою жизнь Это было короткое содержание письма. Долго мать моя не могла опомниться и было бы лучше, если бы она тогда вовсе не опомнилась, потому что жизнь ее с тех пор была только жалким существованием. Доктор запретил впускать меня к ней в комнату, но я села на порог и, прислонив голову к двери, до тех пор плакала, пока слуги не отнесли меня в мою комнату. Во всей одежде бросилась я здесь на кровать и после нескольких длинных, мучительных часов наконец заснула. Нежный голос и тихое прикосновение руки моей матери к плечу моему разбудили меня.
– Эстер, милое дитя мое, вставай! – говорила она. Я открыла глаза и увидала ее у своей постели с лампою в руках. Она была страшно бледна и одета в черном платье; на голове ее была черная шляпка и огромный темный платок покрывал ее плечи.
– Мама! – воскликнула я, – отчего ты вся в черном? Доктор сказал, что ты не можешь выходить из своей комнаты, что тебе нужно спокойствие; он не хотел даже, чтобы я оставалась с тобою.
– Доктор не знает, чем я страдаю, – возразила она. – Я оставляю этот дом и если ты меня любишь, то пойдешь со мною. Вставай же и надевай шляпку и шаль.
Я встала. Она обернула меня в платок, завязала мою шляпку и, взяв меня за руку, вышла со мною из дома. Когда мы вышли на улицу, я увидала, что уже рассвело; но улицы казались пустынными и на сером, холодном небе не светилось солнце. Мы долго шли, и я очень устала, когда мы наконец вошли на большой двор, на котором находилась почтовая контора. Здесь мы сели в уголок и стали дожидаться почтовой кареты. Все время мать моя не говорила со мною, но теперь, в конторе она обернулась ко мне и сказала сухим, хриплым голосом:
– Эстер, знаешь ли ты, что мы теперь одни в свете, без друга, без защиты, без помощи, что у нас нет родины? Знаешь ли ты, что ты сегодня навсегда простилась с твоими нарядами и с окружающею тебя роскошью? Знаешь ли ты, что нет нищего в этом большом городе, который был бы более покинут, чем мы?
– Мама, – воскликнула я, – я все перенесу без ропота, если только опять увижу тебя, такою, какою ты была до сих пор.
– Какою я была до сих пор? – с горестного улыбкой повторила она. – Слышала ли ты когда-нибудь, что бывают страдания, которые превращают в камень самое пылкое сердце? Такое страдание перенесла я в эту ночь. Взгляни на меня, Эстер!
Она подняла вуаль. Испуганная странным выражением ее голоса я взглянула на нее. Сказать вам, Винчент, что я увидала? Лицо моей матери было бледно и безжизненно, как мраморная маска и волосы на голове ее белы, как снег. Эти черные волосы, которыми – как я часто слышала – так восхищался отец мой, поседели в одну ночь».
ГЛАВА XLI
Еврейка продолжала печальный рассказ своего детства. Несколько раз герцог просил ее не говорить более, потому что эти грустные воспоминания утомляли ее, но Эстер настаивала на своем.
– Повторяю вам, Винчент, – что упрямство мое и недоверчивость ко всем мужчинам извиняются только историей моей несчастной матери, и я не могу раньше умереть спокойно, пока не расскажу вам ее.
Герцог молча повиновался воле любимой им женщины. Теперь на смертном одре она все еще владела им как и прежде, когда она была в цвете молодости и красоты.
«Мать моя взяла для нас обеих места в дилижансе, который оправлялся в Кале. На следующий день около обеда приехали мы в этот город и взяли места на пароход. Я спросила мать мою, куда мы едем. «В Англию, – отвечала она твердым голосом и потом тише прибавила, как будто рассуждая с собою: – в Лондон, в этот большой, богатый город, которому неизвестно сострадание, где молча погибает столько несчастных, в обширный человеческий океан».
«Наконец достигли мы цели нашего путешествия. Лондон производит тяжелое впечатление на тех, которые только что оставили веселые и оживленные бульвары несравненного Парижа. Долго блуждали мы по грязному участку Суррей, находящемуся около Темзы, и крайне утомились, когда, наконец, нашли себе новое жилище. Знаете ли, Винчент, какое жилище приняло нас под свою кровлю в вашей родине? Это была такая бедная комната на чердаке, какую вряд ли выбрал бы себе фабричный работник, чтобы отдохнуть после трудного дня. Дождь лил к нам в разбитые стекла единственного окна, а ветер проникал в тысячу щелей и скважин в стенках. – «У нас нет средств, чтобы поместиться в более приличной квартире, – сказала моя мать, между тем как я стояла среди комнаты и печально осматривала ее, будучи не в состоянии объяснить себе внезапную перемену в наших обстоятельствах. – «Мы с тобою не можем претендовать на более приятное и удобное убежище, потому что мы изгнанные, без родины, без имени, которые не знают, где завтра возьмут кусок хлеба». На следующее утро мать моя ушла из дому, оставив меня одну в печальной квартире. Она возвратилась к вечеру и сказала мне, что нашла себе занятие, которое по крайней мере защитит нас от голодной смерти. С тех пор она уходила каждый вечер, часто проводила и днем несколько часов вне дома и никогда не возвращалась раньше полуночи. Когда я сделалась постарше, я узнала от нее, что она служит фигуранткой при одном маленьком театре в Суррей. Впоследствии мы переменили квартиру на очень скромную комнату, но несравненно лучше той каморки на чердаке. При жизни моей матери я никогда не бывала на сцене. Она нежно любила меня и не могла перенести мысли, что мне угрожают те же опасности и искушения, в которых столько невинных созданий погибало на сцене. Она жила очень скудно и переносила много лишений, последствия которых не замедлили сказаться на ней. Однажды она утомленная возвратилась домой с репетиции, которая против обыкновения длилась в этот день до обеда. Болезненная краска на щеках ее была сильнее, чем когда-либо и в глазах ее горел необыкновенный огонь. Это было в день моего рождения; она утром сказала мне, что мне теперь минуло пятнадцать лет. Она взяла меня за руки и подвела к окну. «Поверни лицо свое к свету, – сказала она, – я хочу видеть глаза твои, между тем, как расскажу тебе кое-что». С удивлением посмотрела я на нее. «Эстер, – продолжала она, – я сегодня встретила отца твоего в улицах Лондона и говорила с ним. Я видела того человека, для которого я покинула счастливую родину моего детства, прекрасную Севиллу и огорчила доброго отца моего. Но наказание неба никогда не замедлит постигнуть такой поступок, какой я совершила; беспрестанно преследовало оно меня с той ночи, когда я послушала клятв отца твоего и оставила родительский дом, доверилась чести и верности низкого человека. Сегодня, после долгих лет бедствия, я снова встретила отца твоего. Только из любви к тебе, Эстер, я пошла за ним и говорила с ним. Я сказала ему, что дочь его теперь уже взрослая девушка, не имеющая ни друга, ни защитника, который мог бы заменить ей мать, в чертах лица которой уже виднеется приближающаяся смерть. Я умоляла его не оставить своей несчастной дочери и клялась ему забыть все горе, которое он мне причинил; простить ему коварную ложь, которою он меня выманил из родительского дома, и низкую неверность, заставившую его продать меня за карточным столом. Только для тебя, Эстер, я так унизилась перед ним. Сказать тебе, что он отвечал на это? Он сказал, что я в любом углу могу умереть с голоду и сгнить, но чтобы я ему не показывалась на глаза; что он представил мне случай воспользоваться богатством легкомысленного своего друга и что если я была так глупа, что отказалась, то он не намерен отвечать за мою глупость и не даст мне ни одного пенни, если бы даже мог спасти меня этим от голодной смерти. Вот слова его, Эстер, но выражение, которым он произносил их, я не в состоянии передать тебе, до такой степени оно было жестоко. Осмотрев меня презрительными взглядами, он прибавил: «Ты действительно переменилась и уже нисколько не походишь на ту восхваленную красоту романтической Севиллы!» Слезы стыда и отчаяния задушили меня, и я не могла произнести ни одного слова. Он повернулся ко мне спиною и пошел по своей дороге, между тем как я осталась среди улицы неподвижная как статуя со смертельным холодом в сердце». По окончании этого рассказа моей матери я зарыдала и, бросившись в ее объятия, хотела утешать ее. Но есть степень горести и боли, которая не допускает утешения; ее-то ощущала моя бедная мать. «Эстер, – продолжала она, – я рассказала тебе все это для того, чтобы предупредить тебя. Ты хороша собой и найдешь много обожателей; вспомни тогда мою участь. Не забывай никогда, что их объяснения в любви ложны и что они имеют только ту цель, чтобы погубить тебя. Воспользуйся своей красотой только для того, чтобы господствовать; будь горда, немилосердна, фальшива и своенравна, как те жалкие существа, которые выказывают тебе любовь свою. Только таким образом ты навсегда повергнешь их к ногам твоим. Бери все, что они тебе дадут, но не давай им ничего за это: ни одного теплого биения твоего сердца, ни одного взгляда искренней любви. Помни всегда мою участь, Эстер, и отомсти горе твоей матери, которая умирает с разбитым сердцем». Такие наставления давала мне моя несчастная мать, между тем как она медленно умирала перед моими глазами, оставив меня одну на свете на произвол судьбы. Такие правила я сохранила, когда осталась одна бороться с светом. Мне едва было шестнадцать лет, когда умерла моя мать. В первое время несчастие это так сильно поразило меня, что я на несколько дней заперлась в своей печальной комнате и совершенно предалась отчаянию. Несколько времени спустя ко мне приехал директор театра, при котором служила покойная моя мать и предложил мне также место фигурантки в своей труппе. Я принуждена была принять это предложение, чтобы не умереть с голоду и поступила на сцену. На следующий год я нашла себе более выгодное место при Друриленском театре, где и оставалась до сих пор. Там в первый раз увидала я вас, Винчент, там объяснились вы мне в любви, которую я так мало заслуживала. Только этой искренней вашей любви и благородному вашему сердцу обязана я снисхождением, которое вы мне постоянно оказывали. О, простите мне, Винчент, мою неблагодарность! Простите мне ради наставлений, которые внушались мне в моей юности, ради страданий несчастной моей матери!»
– От всего сердца прощаю вас, Эстер, – ответил герцог. – Если было бы угодно небу продлить вашу жизнь, то печальные наставления и опыт прошедшего забылись бы в радостях будущего и вы удостоверились бы, что и мужчина может любить искренно и глубоко.
– Винчент, – продолжала Еврейка, – когда кончится грешная моя жизнь, тогда, прошу вас, сходите в мою квартиру и пересмотрите все мои бумаги. В случае если вы найдете в них что-нибудь об отце моем, что могло бы помочь найти его, то отыщите его и скажите ему, если он только еще жив, что обе его жертвы, которым он отказал в помощи, покоятся вечным сном. Я не думаю, чтобы в каменном его сердце была хоть искра человеческого чувства, но я желала бы, чтобы ему, ввергнувшему в погибель любящую и доверчивую женщину, напомнили его злодеяние и то, что на земле также существует карающее правосудие. Может быть, тогда пробудилась бы его совесть.
Больше ничего не было говорено об этом предмете.
– Теперь, друг мои, – продолжала умирающая, – у меня до вас есть последняя просьба. Мои золотые вещи, картины, мебель, экипаж и лошади имеют большую цену. Я желаю, чтобы все, за исключением того, что вы хотите оставить себе на память было продано и вырученная сумма отдана мисс Ватсон, к которой я была так несправедлива. Вы исполните это желание, Винчент, не правда ли? Это единственное средство, которое хотя несколько может изгладить вину мою против этой молодой девушки. Но не говорите мисс Ватсон имя той, которая завещает ей эти деньги, а то она их не примет. Пусть это распоряжение также останется неизвестно, как и преступление, которое им изглаживается. Обещайте мне это, Винчент?
Молодой человек обещал ей исполнить каждое ее желание, и в черных глазах еврейки выразилось внутреннее удовлетворение, чувство возвращающегося спокойствия, когда она медленно опустила голову на подушку, с которой ей не суждено было более подняться.
Наступил уже вечер, и из Лондона приехали доктора. Герцог вышел из комнаты, когда в нее вошли ученые люди. Несмотря на то, что сказал ричмондский врач, он все еще питал надежду. Через четверть часа из комнаты больной вышли лондонские доктора. Герцог прочел на лице их приговор к смерти.
– Так нет никакой надежды? – отчаянно воскликнул он.
– Никакой! – был торжественный ответ.
В изнеможении герцог упал на стул. На этот раз печаль его не выражалась никакими страстными порывами; он, казалось, был спокоен и молчал, но он чувствовал, что прекраснейшая мечта его молодости теперь навсегда исчезла и что счастие всей его жизни рушилось.