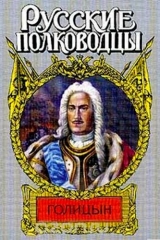
Текст книги "Генерал-фельдмаршал Голицын"
Автор книги: Станислав Десятсков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)

Станислав Десятсков
Генерал-фельдмаршал Голицын
Михаил Михайлович Голицын
1675–1730
Большая советская энциклопедия
Москва, 1972. Том 7.
Голицын Михаил Михайлович (1.11.1675–10.12.1730, Москва), князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1725), брат Д. М. Голицына.
Военную службу начал в 1687 году барабанщиком в Семеновском полку, в 1694 году произведен в прапорщики. Участвовал в Азовских походах (1695–1696), подавлении стрелецкого восстания (1698), Северной войне (1700–1721). В 1702 году руководил штурмом Нотебурга, в 1708 году одержал победу над шведами при с. Добром и отличился в бою при Лесной. В Полтавском сражении 1709 года командовал гвардией, затем вместе с А. Д. Меншиковым руководил преследованием отступавших шведских войск до их капитуляции у Переволочни. В 1710 году участвовал в осаде Выборга, в 1711 году – в Прутском походе, с 1714 года командовал войсками в Южной Финляндии, где нанес шведам поражение при Наппо. Участвовал в Гангутском морском сражении. В 1720 году, командуя отрядом гребных судов, одержал победу в Гренгамском морском бою.
С 1721 года командовал войсками в Петербурге, с 1723 года – на Украине. С сентября 1728 года – президент Военной коллегии, сенатор, член Верховного тайного совета. Участвовал в составлении «Кондиций» императрице Анне Ивановне. В 1730 году был уволен в отставку и вскоре умер.
Станислав Десятсков
Генерал-фельдмаршал Голицын
Вечный мир с Речью Посполитой
Не успел декабрьский день рассветиться, как тут же зачах в сумерках: над черепичными крышами Львова пошел мерзлый дождь вперемежку с ледяной снежной крупой.
– В такую непогоду хороший хозяин и собаку из дома не выпускает, а мы вот тащись в путь по государевой службе! – ворчал седобородый дьяк Чемоданов, зябко кутаясь в теплую доху. Восседавший напротив него в полумраке кареты рослый румянощекий молодец из тех, о которых молвят: кровь с молоком! – только снисходительно улыбнулся на воркотню старого дьяка. Ему и в непогоду было жарко: собачья шуба полурасстегнута, высокая боярская шапка сдвинута на затылок – и из-под нее выглядывал новомодный французский парик с завитыми буклями.
– Ты лучше скажи, Василий Лукич, подпишет сегодня король Ян подтвердительную грамоту о вечном мире или нет? – Голос у молодого боярина был раскатистый, звучный, но дрожал в нем благородный металл, выдавая прямодушие и открытость нрава его обладателя.
– Как не подтвердить крулю договор с нами, коли крымский хан по весне со всей ордой может подо Львов заявиться? Сами видели, батюшка, как круль Ян сей град укрепит и по сему случаю со всем польским двором сюда из Варшавы перебрался? – желчно заметил дьяк. И добавил не без лукавства: – Да и мы, чай, боярин, недаром тут третий месяц сидим. Я канцлеру и коронным гетманам одних соболей на многие тысячи передарил! И дело ведомое: паны и особливо паненки по тем собольим мехам с ума сходят! – И нежданно старик сверкнул глазами: – Впрочем, тебе, Борис Петрович, насчет паненок поболе моего известно!
Молодой Шереметев улыбнулся в ответ и не без самодовольства погладил Длинные русые усы, заведенные по польскому обычаю.
«И в самом деле, как горяча была в постели придворная фрейлина королевы Кристиночка! Куда моей Авдотье! И дернул меня черт жениться в семнадцать годков. А все батюшкина злая воля».
Впрочем, на своего покойного батюшку Петра Васильевича Шереметева Большого сынок зла не таил. Отец дал ему не только славное имя Шереметевых, но и глядел далеко вперед: еще когда сидел воеводой в Киеве, послал своего Бориску учиться латыни в Киево-Могилянскую коллегию, а латынь в те годы была международным языком – языком ученых и дипломатов. И когда весной 1686 года явилось в Москву польское посольство для переговоров о вечном мире и союзе супротив неверных – турок и крымских татар, – наверху сразу вспомнили о молодом ученом боярине и приказали Борису Петровичу быть на сих переговорах «в ответе» вместе с «царственныя и малые государевы печати сберегателем» фаворитом правительницы Софьи[1]1
Софья Алексеевна (1657–1704) – русская царевна, правительница Русского государства в 1682–1689 гг. при двух царях – ее малолетних братьях Иване V и Петре I. К власти пришла с помощью В. В. Голицына. Свергнута Петром I, заключена в Новодевичий монастырь.
[Закрыть] князем Василием Голицыным[2]2
Голицын Василий Васильевич (1643–1714) – князь, боярин, фаворит правительницы Софьи. В 1676–1689 гг. возглавлял Посольский и другие приказы. Участник Чигиринских (1677–1678) и глава Крымских (1687, 1689) походов. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край.
[Закрыть].
Переговоры шли нелегкие, поскольку польские послы хотя всей душой готовы были заключить с Москвой союз супротив неверных, но долго упрямились с передачей Киева в вечное владение московских государей. Ведь после битв из-за Украины между Москвой и Речью Посполитой в 1667 году в сельце Андрусове был заключен не мир, а токмо перемирие – так поляки упрямо не хотели отдавать Киев, хотя он и был занят московским войском. И вот теперь, в 1686 году, им в Москве сказали твердо: или вечный мир, по которому Киев оставался за Россией, или никакого союза против турецкого султана и его вассала крымского хана.
Польские послы, изрядно пошумев, в конце концов гордыню сломили, здраво рассудив, что в Киеве все одно давным-давно уже стоит русский гарнизон, а турки и татары грозят меж тем сиюминутно коронным владениям, и на вечный мир я признание Киева за московитами согласились, лишь бы получить помощь России против крымцев.
Но стоило послам уехать из Москвы, как по всей Речи Посполитой поднялся великий шум против подтверждения договора о вечном мире с Москвой. Подтвердительную грамоту должен был еще подписать король Ян Собесский, но то ли из-за шума, поднятого магнатами и шляхтой, то ли из других расчетов король Ян подтвердить грамоту о вечном мире не спешил. Потому в ставку короля-воина из Москвы и было отправлено посольство во главе с Борисом Петровичем Шереметевым.
– Батюшка Шереметев Большой сидел многие годы воеводой в Киеве, и польское панство Шереметевых давно знает, сам Борис воспитывался в киевском коллегиуме и ведает не только латынь, но и по-польски хорошо болтает! Словом, по всем статьям наш посол! – твердо сказала правительница Софья своему фавориту Голицыну.
– Опять же, – добавила она доверительно, улыбаясь в свои заметные черные усики, – при дворе старого круля Яна всем вертит его молодая женка Марыся и ее фрейлины, ну а Борис Петрович-молодец видный! – И, притянув к себе горячей рукой лапушку Васеньку, прошептала жарко: – С тобой-то Бориску никак не сравнить, вот тебя я никакой Марыське не отдам!
Так на кремлевских верхах Бориса Петровича и определили срочным послом в Речь Посполитую. В Посольском же приказе ему наказали: «…а как подпишет король Ян грамоту о вечном мире, ехать тебе, боярин, с тем известием еще доле, к императору Леопольду в Вену. И сказать цезарю, что по следующей весне мы всем войском идем на Крым».
Так Борис Петрович с посольским дьяком Чемодановым осенью 1686 года и оказался в славном городе Львове, по-польски именующемся Львувом, по-немецки – Лембергом, а по-казацки Львывом.
Город стоял на перекрестке торговых путей с Черного моря на Балтику, с Восточной Европы в Западную, из владений турецкого султана в земли императора Священной Римской империи германской нации и делена запад во владения христианнейшего короля Франции, Венецианской республики и Римского Палы.
И уже оттого население Львова было самое смешанное: рядом с важными дородными панами в расшитых жупанах вскидывали свои чубы запорожские казаки в широченных шароварах, юркие армянские купцы торговали рядом со смирными евреями, а бежавшие от преследований «короля-солнца» Людовика XIV[3]3
Людовик XIV (1638–1715) – французский король с 1643 г., из династии Бурбонов. Его правление – апогей французского абсолютизма. Многочисленные войны, большие расходы королевского двора, высокие налоги вызывали народные восстания.
[Закрыть] французские гугеноты зазывали в свои модные лавки, где можно было купить товары последней парижской моды.
К этим-то модным лавкам и льнули прекрасные паненки, и самая прелестная из них, по мнению молодого Шереметева, любимая фрейлина королевы Марии Казимиры Кристиночка. Для нее у Бориса Петровича ни в чем не было отказа – амур! Впрочем, Он знал, что Королева обожала свою фрейлину за ее чисто французский задор, веселый нрав и безупречный политес. И, главное, Кристиночка была парижанкой по крови, волей судьбы занесенной семьей гугенотов в Польшу. Ведь и сама королева Марыся по происхождению была дочерью французского дворянина и приехала когда-то в Польшу из Парижа в свите Марии Гонзаго, будущей жены короля Владислава. В Варшаве молоденькая француженка быстро расправила крылышки: сперва поймала в свои сети богатейшего магната Польши гетмана Замойского и стала гетманшей Марией Казимирой Замойской, а после кончины старого мужа обратила внимание на давно воздыхавшего по ней мелкопоместного шляхтича, но удачливого воина Яна Собесского. После женитьбы Мария Казимира на всю жизнь для знаменитого полководца стала милой Марысенькой. И честолюбие пани Марыси на сей раз было удовлетворено сполна – ее Ян Собесский стал королем Речи Посполитой, а она королевой.
«И не стал бы мой дурень королем, не сумей я перессорить на сейме всех знатных польских магнатов: Потоцких и Любомирских, Сапег и Радзивиллов! Да опять же турки захватили всю Подолию, угрожали Кракову и Варшаве, вот и пришлось сейму кликнуть королем знаменитого воина! – улыбнулась про себя пани Марыся. – Ведь король-то мой только на поле брани король, а в делах высокой политики он всегда моему совету послушен. Вот и сейчас от меня зависит – впустить ли этого необычного московита в боярской шапке и французском парике в кабинет Яна или не впустить!»
Королева не без удовольствия оглядела рослого, представительного Шереметева, ловко согнувшегося перед ней в изысканном версальском поклоне. По-женски позавидовала своей любимице Кристиночке: «А москаль-то и впрямь хорош! Впрочем, какой он москаль! Прежние послы-московиты уставят тупо брады и бьются за каждую буковку в многочисленных титулах своего государя. А сей московит даже по одежде – в золоченом версальском кафтане, длинном парике с буклями а-ля Картроз – словно не из Москвы к нам заявился, а прискакал прямо из Версаля. И по-польски так и сыплет, да и за картами умеет ловко перехватить ручку и поцеловать так, что жар в щеки бросается!»
Королева прикрыла глаза, усмехнулась – за одну осень московский посол проиграл ей в карты тысячи злотых! И проигрыши те были не случайными, а со значением! Но, как всякая игра, она рано или поздно имеет конец.
Мария Казимира важно протянула Борису Петровичу руку для поцелуя. Затем указала на потайную дверцу в кабинет короля и доверительно шепнула:
– Идите, mon cher, король вас ждет!
Ян Собесский, впрочем, поджидал русского посла с большим раздражением. Уже третий месяц после вручения верительных грамот этот московит маячит при дворе и в делах своих куда преуспел – втерся в доверие к Марысочке, одарил всех фрейлин и гетманов соболями, и даже гайдуков и тех не забыл. А Марысочке подарил роскошные горностаевые меха и объяснил, что горностай, мол, символ высшей власти. И Марысочка, невинная душа, горностай от посла приняла, не ведая, что москаль он и есть москаль – без должного расчета ничего не сделает! А расчет у московита простой: вырвать ратификацию короля под договором о вечном мире и заставить Польшу навсегда примириться с потерей Киева. И как это Марысочка не поймет – не расположение Собесских нужно русскому послу, а Киев, Киев, золотой Киев! Правда, у Марыси и коронных гетманов есть и политичный и военный резон: татарские орды стоят у Перекопа, турками взят Каменец-Подольск, а от Подолии до Львова рукой подать!
И, как всегда, большие магнаты в трудный час разбежались по своим замкам, и с королем осталась только мелкая шляхта, под которой не лихие скакуны, а древние одры, так что с легкоконными татарами этому воинству не справиться.
Собесский вздохнул, вспомнил последний разговор с Марысей.
– Киев уже тридцать лет как не наш, да и видел ли ты, Ян, Киев? – спросила этой ночью женушка.
– Видел только однажды, в детстве! – признался Ян, вспомнив, словно сквозь туман, позолоченные главы киевских храмов.
– Да ведь детство-то давно прошло, а татарская орда вот-вот и под стены Львова прискачет и нашу фамильную местность Янов разорят! – нашептывала Марыся ночью.
И о том же твердил пан канцлер утром. И доводы эти Ян Собесский разумом понимал, но сердцем – нет, сердцем не хотел расставаться с Киевом.
– Даже Болеслав Храбрый хотя и взял Киев с помощью князя-изменника, Святополка Окаянного, но возвернул его законному владельцу Ярославу Мудрому! – блеснула за утренним кофе Марысенька знанием истории.
– Сколь учена моя женушка! – восхищенно взглянул Ян на свою Марысеньку. – И откуда у нее эти исторические познания? – Знал бы он, что Борис Петрович много ночей твердил о том Кристиночке, а та передавала сии исторические аллегории своей госпоже.
Болеслав Храбрый был, конечно, любимым героем в польской истории для храбреца Собесского, но куда более важным оказалось для него утреннее сообщение гонцов с границы – орды крымцев идут на Галичину, а турки тем временем снова грозят Вене. И только выступление Москвы остановит крымского хана!
– Ну что ж, коль даже Болеслав Храбрый уступил Киев Ярославу Мудрому, уступлю и я сей златоглавый град московитам» плачу горько, но уступаю! – тяжело поднялся Собесский из-за лакированного кофейного столика, доставленного Марысе прямо из Парижа. И сказал канцлеру зло: – Зови своего Шереметева – дам решающую аудиенцию.
Когда Борис Петрович вплыл в королевский кабинет, Ян Собесский стоял у окна и грустно взирал на оголенный пустой сад.
Вынырнувший из тени канцлер почтительно доложил:
– К вам русский посол, ваше величество!
Седовласый витязь величественно повернулся к Шереметеву. Держался по виду грозно, но на седой ус скатывалась предательская слеза. Король Ян смахнул слезу не скрывая. И грамоту о вечном мире между Польшей и Москвой подписал твердой рукой. Канцлер тут же приложил к ней гербовую печать Речи Посполитой. Борис Петрович склонил голову в благодарственном поклоне и почтительно сообщил Собесскому:
– Пришла последняя почта из Москвы, государь. Наш канцлер князь Василий Голицын сообщает, что великие цари Иван и Петр и правительница Софья объявили уже нынче поход на Крым.
– И кто же Поведет войско? – оживился Собесский.
– Сам князь Василий и поведет… – Шереметев едва не пожал плечами, поелику о полководческих дарованиях Софьиного фаворита в Москве никому не было ведомо.
– Передай мой совет князю: пусть держится в походе Днепра. По себе ведаю, без воды идти сухой степью на Крым – гиблое дело! – Как настоящий воин, Собесский сразу начертал удобный путь для московской рати на Крым.
Совет знаменитого полководца Борис Петрович в Москве доверительно сообщил князю Василию. Но Голицын горделиво отмахнулся: «У меня свой план, боярин!» И летом 1687 года повел московское войско напрямую через голую степь, где и попал на жаркие июньские пожары. Но Борис Петрович, щедро награжденный правительством Софьи за ратификацию вечного мира, – пожалованный ближним боярином и наместником вятским, – в этом первом Крымском походе не участвовал.
В Богородском
На светлых берегах реки Пахры высились боярские хоромы князей Голицыных, братьев Дмитрия, Михаилы и Михаилы же Меньшого, поставленные еще их отцом, великим боярином и воеводой курским князем Михаилом. Андреевичем Голицыным вскоре после второго Чигиринского похода.
Дом был срублен, по старинному обычаю, из неохватных дубовых бревен, на четыре сказа, но парадные горницы были обиты уже на новый манер французскими обоями и украшены расписными шпалерами, а широкие деревянные столы вдоль стен украшены турецкими и персидскими коврами, доставшимися боярину из турецкого обоза, захваченного под Чигирином. Однако по-прежнему в одном углу горницы теплились лампады, а в другом высилась русская печь, расписанная смелой рукой деревенского маляра цветами, единорогами и грифонами лазурными и червлеными красками. В тот вечер под Рождество 1688 года печь жарко дышала и в комнатах было так жарко, что трехлетний карапуз Мишка бегал из угла в угол босой, в одной рубахе и все норовил выскочить в сени, но путь ему преграждала статная и веселая красавица кормилица Аграфена, которая, расставив руки, отгоняла его от дверей и шумела яко на цыпленка: кыш! кыш!
В столовой комнате под надзором самой княгиня Софья суетилась ключница Матрена и дворовые девки. То и дело бухали двери в стылых сенях – на стол из поварни несли холодные блюда: толстые домашние колбасы, гусей, обложенных мочеными яблоками, вареных кур, астраханскую осетрину и холмогорскую семужку. Двое дворовых не без торжества поставили на стол две кадушечки: одну с янтарной красной, другую с черной паюсной икрой. И рыбу и икру доставил с московского подворья Голицыных боярский приказчик Иван Алсуфьев по приказу Дмитрия Михайловича Голицына, который после кончины отца стал ныне старшим в семье.
– Да точно ли Дмитрий сказал тебе, что будет к Рождеству? – в какой уже раз переспрашивала княгиня Софья приказчика глухим голосом, прерываемым болезненным кашлем. После родов Миши Меньшого, а особливо после кончины мужа княгиня часто хворала, а ведь на нее свалилось все немалое хозяйство (помимо Богородского, Голицыным принадлежало и Архангельское под Москвой, Знаменское под Пензой и целая слобода под Курском). Старшому-то сынку не до хозяйства – все на царской службе спину гнет. И добро, коль получил чин царского стольника, так и служи царям за столом в Кремле, так нет, зачем-то увязался в Крымский поход. Как же, двоюродный братец князь Василий Васильевич в походе том был главным воеводой и к молодому родственнику вельми ласков. Вот Митя и попался на удочку, после похода царской милостью его все одно обошли.
Княгиня задышала шумно грудью, прошла в комнату средненького сына Миши Старшого и ахнула: сынок встретил матушку барабанным боем.
Комнатка Миши – что оружейная палата, тут и сабельки, и прапорцы, и протазаны, – и не игрушечные: звон пистоли огромные, седельные да ружья охотничьи, впору на медведя идти! Оставил то оружие братцу князь Дмитрий, отправляясь в Крымский поход.
Да еще учил на прощание: «Ежели со мной что случится в походе, ты, Михаил, будешь старшой в роде и, в случае чего, должен защитить и матушку и сестриц от лихих людей».
Мишка и впрямь этим летом научился стрелять и из ружья, и из мушкетона, и из пистолей, а учил его однорукий офицер из немцев Иоганн Везинер. Привез того офицера в дом еще покойный муж-воевода: вместе, мол, с Иоганном под Чигирином бились, там и отрубил турок немцу левую руку. И куда теперь однорукому офицеру деваться? Покойный Михаил Андреевич и приставил немца к сыновьям: учить немецкому языку (русскому-то и местный дьячок, слава тебе господи, и Митю и Мишу выучил). Но немец, который за десять лет службы у Голицыных превратился из Иоганна в Ивана Ивановича, в усадьбе прославился не столько как учитель, сколько как мастер гнать добрую водку и настаивать наливки: сливовицу и вишневку, смородинную и рябиновку. Вот и сейчас на столе штофчики и чарки расставляет – жаль, добрый мужик, а ведь сопьется совсем! – княгиня жалостливо покачала головой.
В это время дверь из холодных сеней отворилась, и сторож Савелий хриплым, простуженным басом оповестил: «Едут! Вдут!»
Княгиня накинула на голову шаль и выплыла на крыльцо встречать старшего сына. А князь Дмитрий уже бросил Савелию шубу и в одном офицерском мундире, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на высокое крыльцо, крепко поцеловал матушку.
Княгиня уронила голову на крепкое плечо сына, хотела было спросить, отчего это он не в нарядной форме царского стольника, а в немецком платье, но слезы застилали глаза.
– И зачем ты, матушка, слезы льешь? Радуйся, что из крымских степей сынов твой ноги живым унес, не слег под Перекопом! – громко и басовито прогудел важный боярин, что поднялся на крыльцо следом за князем Дмитрием.
«Батюшки, да что же это я? Ведь боярин-то сам Борис Алексеевич Голицын, а я хлеб-соль не поднесла!» – мелькнуло у княгини Софьи. Да спасибо Матрене, вынырнула из-за спины, передала в руки княгине поднос с караваем теплого домашнего хлеба и сольницу. Хозяйка низко поклонилась гостю и поднесла, а боярин важно отломил кусок хлеба, посолил, пожевал, затем сам поклонился княгине.
– Проходи, Борис Алексеевич, в палаты, устал, чать, с дороги! – У княгини даже голос подобрел. По правде сказать, Ванька-приказчик толком и не разобрал в Москве, какой из бояр Голицыных в гости пожалует: Василий Васильевич или Борис Алексеевич. Первого княгиня недолюбливала за спесь и чванство – подумаешь, у правительницы Софьи в фаворитах ходит! Борис Алексеевич, тот другой человек – и с покойным мужем в походы ходил, и Митю учил уму-разуму. Такому гостю княгиня всегда была рада, а Борис Алексеевич чувствовал себя в доме своего покойного друга и родственника своим человеком. Потому сказал без церемоний:
– Хорошо бы нам, княгинюшка, с дороги баньку принять!
– Да натоплена банька то, боярин, еще с полудня пар держим! – весело подал голос ключник Ермолаич, в обязанности которого вменялось следить за всеми постройками на широком боярском подворье: поварней и конюшней, хлевом и овином, ледниками и разными кладовыми. Но любимым развлечением ключника была банька: срубленная на славу, крытая тесом, уставленная скамьями из липы, так что липовый настой стоял уже в предбаннике. А внутри клубами вился густой пар, пропахший имбирным квасом и березовыми вениками.
Боярин, не боясь жара, возлег на верхней полке и подавал оттуда команды:
– Ермолаич, плесни еще кваску на каменку, а ты, Мишутка, огрей меня веничком!
Мишка рад стараться, бил боярина веничком изо всей мочи, но старый Голицын только покряхтывал в изнеможении.
Князь Дмитрий и Иоганн давно уже сидели в предбаннике в чистом исподнем белье и лили домашние взвары, когда из облаков пара выплыл толстым брюхом вперед боярин, а за ним красные, яко раки, Ермолаич и Мишутка.
– Ублажил ты меня сегодня, ублажил, Ермолаич! – Боярин, отдуваясь, уселся на скамью, закутавшись в чистую простыню.
– Ты, Борис Алексеевич, сейчас вылитый римский сенатор в тоге! – рассмеялся князь Дмитрий.
– Что ж! – согласился боярин. – Ведь и я латинские книги читывал, Знаю, любили римляне бани, случалось, полдня в оных проводили. Но термы те были каменные, ад наши, русские, с веничком и духовитей и слаще. Братец-то твой молодшенький так уж веничком постарался, размял все мои косточки! – Борис Алексеевич ласково потрепал мокрые кудри младшего Голицына и добавил: – А рука-то у тебя, Миша, уже силой наливается, по своей спине чую.
– Да мне уже тринадцатый год пошел, скоро вместе с братцем в поход на крымцев пойду! – выкрикнул Мишутка, но, увидев, как недовольно нахмурился старшой брат, добавил с горячностью, глядя прямо в глаза боярину: – Все одно пойду! Князь Василий Васильевич, главный воевода, ведь не только Дмитрию, но и мне двоюродным братцем приходится, чаю, возьмет меня в поход!
– Ишь какой горячий! Да ты, чаю, еще и барабанную солдатскую науку не прошел, а уже в поход рвешься? Как, Иоганн, ведает наш князюшка барабанную науку? – Борис Алексеевич знал немца еще по Чигиринским походам и своим старым наездам в Богородское и боле всего ценил его за умение знать цветные водки, до коих и сам был охоч.
– Что ж, князь Борис, из нашего вьюноши знатный воин выйдет: на коне ездит что твой татарин, стреляет и из лука и из пистолей, а этим летом я его и мушкетерской науке обучил: биться на шпагах и попадать в цель из мушкетона за сто шагов! – Немец говорил прямо, без лукавства.
– Да я ведь тебя, Иоганн, не для того к мальцу приставил, чтоб пальбе учить, а дабы вокабулы немецкие познать! – рассердился Дмитрий Михайлович, чувствовавший после кончины отца особую ответственность за младшего брата. И, обратясь к Мишутке, спросил гневно:
– Писать-читать по-немецки-то умеешь?
Мишутка уныло наклонил голову, но признался честно:
– Говорить говорю, – азбуку ведаю, но пишу плохо.
– Отчего ж так? – гневался братец. Но Мишутка еще ниже склонил голову – не мог же он выдать тайну учителя, что тот, как старый ландскнехт, ловко ставил свою подпись под жалованьем, но на письмо был туп.
– Да будет тебе, Дмитрий, экзамен в бане устраивать! – добродушно рассмеялся боярин. И, обратясь к испуганному немцу, молвил милостиво: – А не осталось ли у тебя, Иоганн, можжевеловой, коей ты в прошлый приезд потчевал?
– Есть и можжевеловая, и рябиновая, и клюквенная, и смородинная! – весело вмешался уже одетый ключник. – Да и стол уже давно накрыт, матушка княгиня велела звать разговеться.
– И то правда, Ермолаич! Ведь ныне Рождество, пора и разговеться, и кутью попробовать! – согласился боярин, и вскоре все уже скрипели валенками по узкой тропинке, ведущей к боярским хоромам меж высоких сугробов.
Мишутка по чину шел последним. Выглянувший в это время из-за туч месяц озарил своим сиянием заиндевевший дом, который показался отроку неким сказочным дивом. И тревожная мысль, что скоро он и впрямь покинет этот дом и расстанется и с маменькой, и с сестрами, и с немцем-ученым, и с верным Ермолаичем, так его поразила, что он даже задержался на минуту, пока звонкие голоса с крыльца и оклик старшего брата не заставили его побежать вприпрыжку навстречу рождественскому празднику.
Рождественскую службу отстояли в маленькой домашней церковке. Стояли чинно: в первом ряду – княгиня, боярин и князь Дмитрий, позади Миша с сестрами Александрой и Евдокией, за ними приказчик и ключник с ключницей, дале у входа вся дворовая челядь. Служил отец Афанасий, священник старенький, с седой бородкой, приглашен был в домашнюю церковку покойным хозяином, когда еще токмо поставили боярские хоромы в Богородском.
После молебна князь Дмитрий и княгиня одаряли дворню рождественскими подарками, а Борис Алексеевич – взял Мишу под локоток и сказал весело:
– А ну, молодец, покажи мне твою оружейную палату! Мне о твоем баловстве княгинюшка уже жаловалась!
Увидев развешанное по стенам оружие: сабельки и топорики, Борис Алексеевич хмыкнул – да это же все детское баловство.
Миша перемигнулся с подошедшим немцем и смело заявил:
– Да у меня все настоящее оружие по приказу маменьки в потайной чулан перед вашим приездом попрятали! Но мы с Иоганном тот чуланчик знаем!
– А ну тащите сюда весь арсенал! – весело рассмеялся Борис Алексеевич и скоро рассматривал уже кривую, блестящую острым лезвием турецкую сабельку – ятаган. И молвил в раздумье: – Подумать только, Миша, а ведь это та самая сабелька, которую твой батя еще в первом Чигиринском походе с турецкого паши снял. Турка-то Михаил Андреевич уложил из пистоля, вот и достался ему в трофей сей ятаган. Я тогда еще молодым стольником плечо к плечу с твоим отцом против турок бился и трофей этот хорошо помню! – Боярин с грустью покачал головой и внимательно взглянул на Мишу. Тот стоял перед ним, вытянувшись во фрунт: в одной руке мушкетон, в другой – стрелецкий бердыш, сбоку офицерская шпага, у ног большой турецкий барабан.
– Э, да ты и впрямь аника-воин! – развеселился боярин, любуясь на столь грозную фигуру младшенького Голицына. И, как бы между прочим, предложил: – А ну-ка вдарь в барабан, покажи свое мастерство.
Миша долго не заставлял себя упрашивать: через минуту взлетели барабанные палочки и лихо отыграли зарю, отбой и атаку! Громкий барабанный бой заглушил все еще тихо тренькающий в церковке колокол.
На этот шум двери в комнату распахнулись, и на пороге выросла разгневанная княгиня.
– Как ты посмел без моего спросу снова эту проклятую трещотку из чулана вытащить! – напустилась она на сына.
– Да ты не горячись, княгинюшка, не горячись! – заступился за Мишу Борис Алексеевич. – Молодцу-то двенадцать дет еще осенью стукнуло, так что самое время отдавать его в барабанную науку.
– Это куда же ты, Борис Алексеевич, моего братца отдать хочешь? – с мнимым равнодушием поинтересовался неслышно подошедший князь Дмитрий.
– Сам, поди, ведаешь! – ухмыльнулся боярин в черные усы, на польский манер ниспадавшие к подбородку (бороду боярин, опять же на польский манер, брил). – Сам ведаешь, князюшка, нынче состою я при дворе молодого царя Петра Алексеевича, а для него набирают в Семеновской слободе второй полк потешных. Записать туда Мишу сейчас в барабанщики, глянь, с годами и офицерский чин получит, да и у царя на виду будет.
– Да что это за царь, одно название! – вырвалось у князя Дмитрия.
– Все вы, кто вокруг фаворита Васьки вьетеся, в царя Петра не верите. Только, боюсь, еще обожгут и фаворит, и его метресска-правительница Софья свои крылышки, а Петру быть настоящим царем! – усмехнулся боярин.
– Да что это вы еще за праздничный стол не сели, вина-браги не попробовали, а уже о таких высоких материях разговоры ведете?! – спохватилась княгиня и, как хозяйка, решительно приказала: – А ну-ка, господа воины, все за стол, не то, чую, у Матрены в поварне уже поросенок с гречневой кашей подгорел.
Столовая палата была украшена стенописью с изображением трав, птиц и цветов. Но венцом палаты был праздничный стол, уставленный дичью – тетеревами и куропатками, зайцами в взваре, семгой и осетриной. По концам стола, как две мортиры, высились кадочки с красной и черной икрой. По-домашнему изготовлены были грибки – рыжики и белые. Рождественский гусь радовал глаз. Перед княгиней, сидевшей по правую руку от почетного гостя с дочерьми Сашей и Дуней, стояли фряжские вина: бастр красный, сект и мушкатель, ренское и церковное. Меды были свои, домашние: красные и белые, ягодные и яблочные, мед с гвоздикой, мед боярский, мед княжий, морсы – малиновый, черничный и брусничный.
Перед Борисом Алексеевичем, восседавшим во главе стола, высились штофы с водкой: двойной царской и чистой, как слеза, боярской, пестрели цветные, душистые: анисовая и можжевеловая, смородинная и рябиновая, красовались настойки на травах, пенилось пиво.
Старый боярин сразу вспомнил свою должность кравчего[4]4
Кравчий – почетная должность и придворный чин в Русском государстве XV–XVIII вв. Кравчий служил царю за столом, в его ведении были стольники.
[Закрыть] и самолично налил княгине кубок ренского, отцу Афанасию водочки анисовой, себе двойной царской. Князю Дмитрию немец-умелец налил настоечки клюквенной, себе же водки самой простой, хлебной и оттого самой крепкой.
Сестрицы баловались медами и морсами, а сидевшему в конце стола Мише дали сбитень.
«Как маленькому налили!» – сердито подумал он, но виду не подал – хорошо еще, что в этом году маменька за большой стол пустила, а не держала в детской вместе с Мишуткой Меньшим. Да и боле всяких водок, вин и наливок интересовал его разговор во главе стола между боярином и старшим братом.
– Что же вы, однако, от одного пожарного смрада от Конских вод сразу назад в Россию завернули, даже ни одного татарина в степи не завидев? – с усмешкой пытал боярин Дмитрия Михайловича.
– А оттого и повернули, что убоялись наши воеводы лютого степного пожара, да и фураж с провиантом в поход забыли прихватить! – с горечью отвечал князь Дмитрий, у которого и сейчас перед глазами стояли солдаты войска Василия Голицына, которые под жгучими лучами бреди по выжженной степи, полуголодные, разномастно одетые, небритые и неумытые, выставив вперед брады, яко некие лесные лешие. И всем хотелось одного: пить! пить! А воды не было. Месяц, пока войско тащилось по степи от пограничной речки Самары до Конских вод, не выпало ни одного дождичка.








