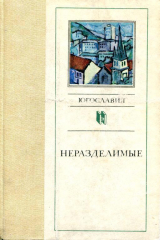
Текст книги "Неразделимые (Рассказы писателей Югославии)"
Автор книги: Славко Яневский
Соавторы: Леопольд Суходолчан,Мишко Кранец,Живко Еличич,Димитар Солев,Стево Дракулич,Векослав Калеб,Живко Чинго,Чамил Сиярич,Радован Зогович,Антоние Исакович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Да, да, это я, – и тоже барабаню по столу.
Выпили мы пиво, съели сосиски и закурили, вытянув ноги под столом.
– Я получил тогда отпуск. Собственно, сначала-то я попал в госпиталь, воспаление суставов. Сам знаешь, почти нагишом бежал, твое алиби, а холод какой был!
– Что ты сказал начальству?
– Да уж сказал.
– Что, я спрашиваю.
– То же, что и ты.
– Я спрашиваю: что ты сказал?
– Что сбежал из-под расстрела. Железный крест получил. А ты? Показал мою одежду?
– Точно.
– В общем, два сапога пара.
– Да.
– А жене я сказал правду, всю, только ей. И Маргарита каждое воскресенье ходила в церковь, молилась за тебя. Мы не знали твоего имени, и она молилась за черного худого человека с большим горбатым носом.
– Достаточно, чтобы господь бог меня опознал.
Гарри кивнул, почесал бородку. Мы пили по третьей кружке.
– После родился Вольф, а позднее Кэти. А до войны у нас был Торстен, теперь женился уже, дедом меня сделал. А ты?
– Я один. Один на реке. Жена и дети погибли.
Гарри Клейста затрясло.
– Мои?
– Да как посмотреть, мои тоже виноваты!
– Кто стрелял в них? – Гарри Клейст сжал губы, прищурил влажные глаза.
– Этого я не знаю. Главное, взяли их. И отца тоже. В заложники. За одного – сотню. Круглая цифра. Трехзначная. Для нас, сербов, она была в ходу. Для французов меньше.
– Да, я знаю, знаю.
– У нас ведь нет Гете.
– У нас есть, и что?
– Что́ только не защищает нацию! Да ладно, выдюжим.
– Пустое это! – выкрикнул Гарри Клейст.
Вся пивная повернулась в нашу сторону. Усталые люди, занятые собой, смотрели теперь на нас.
Гарри Клейст поднял плечи, втянул шею и голову в ворот пиджака. Корчился, как ошпаренный петух. Я не стал ему мешать. Наконец он поднял голову и, открыв рот, словно умирая от жажды, глотал воздух. Потом зачастил:
– Закажем еще пива. Давай. Выпьем еще. Надо ведь, правда?
– Мне на вокзал пора.
– Ни за что! Останься у меня на несколько дней. Должен же ты познакомиться с моей семьей.
– Сейчас не могу, – отговаривался я, – поезд скоро.
Гарри огорченно качал головой, сдаваясь. Потом поднял свои осыпанные мукой брови:
– Знаешь, у меня теперь аптека. А ты как?
– Я на пенсии.
– Так ты же еще молодой!
Я отмахнулся, разве объяснишь…
– Законы у нас такие, – коротко сказал я.
– Выходит, вы богатая страна.
– Тебе бы наши богатства, – уязвил я и себя и его.
Гарри понуро вертел головой, лицо снова налилось кровью, в груди что-то хлюпало, да и у меня горло сжало, не продохнуть.
Снова мы у какой-то черты, подумал я.
Пошли на вокзал. До того, как водится, долго препирались, кому платить. Я, конечно, уступил, как-никак, Вена его город. Мой – Вршац!
Оказалось, вокзал совсем близко. Но я все равно не нашел бы его. Гарри забежал в какой-то магазин, вынес сверток – для меня.
– Фрукты в сахаре, – сказал Гарри Клейст.
– Да кто же их есть будет?
– Ой, ради бога, прости, я не хотел… – И он опять побагровел, в груди захлюпало, и он глотнул воздух бледным ртом.
– Так-таки никого? – едва выговорил он.
– Да есть, Чеперко у меня есть.
– Кто это?
– Кто, кто, я бы и сам хотел это знать. Слушать умеет, все как есть вытянет.
Мы покружились возле вокзала, до отхода поезда еще было время. Гарри держал меня под руку и все твердил:
– Это ты, ты!
– Да, да, это я.
Потом мы прошли на перрон. На людей не смотрели. Остановились возле закрытого буфета на колесах. Гарри сказал:
– Ты должен приехать в Вену.
Я неопределенно пообещал – весной, осенью, в будущем году.
– Приезжай этой осенью и на сколько сможешь. Ведь ты на пенсии!
Дал мне шестизначные номера телефонов – домой и в аптеку.
Я поднялся в вагон. Гарри Клейст снял шляпу и встал почти по стойке «смирно» возле закрытого буфета на колесах.
Поезд двинулся, а я стоял у окна, пока Гарри Клейст не превратился в черную точку. И думал: вот так и смерть леденит зрачок и все уменьшает – лица, дома, дороги, небо, все убегает от тебя, все краски жухнут, и мрак затягивает тебя в свое логово.
В купе – мои громкоголосые спутники, каждый что-то показывает, накупили всякой всячины. Спрашивают и меня, я ткнул в пакет над головой. Все мне осточертело. Соседи мои увидели, что я не охотник заглядывать в чужие свертки, и отстали, а меня гложет мысль: «Один, один на всем белом свете!» Скоро я заснул…
Чеперко, ты не спишь, ждешь, что дальше? Дальше всегда есть.
Прошло два года, снова занесло меня на венский вокзал. Прошвырнулся туда-сюда, вижу буфет на колесах опять закрыт. Верно, его открывают только для ночных поездов. И тут начал я раздумывать: звонить или не звонить. «Да – нет», впору гадать на ромашке. Смотрю на стеклянную будку, ведь это совсем просто, убеждаю себя, монета есть, снимешь трубку, бросишь монету…
Вытащил записную книжку, вошел в будку и набрал шестизначный номер аптеки.
Подошел Гарри Клейст. Он сразу понял, кто у телефона. Мне показалось, он поперхнулся – такой треск раздался в трубке, кашель. Но тут же он засмеялся и обрушил на меня лавину слов: обедаем у него дома, он хочет, чтобы обед был праздничный, сейчас он позвонит жене, pas de problèmes[54], меня все давно ждут, на вокзал за мной придет его дочь Кэти. Она знает сербский, немного, правда, но знает. В руке у нее будет синий платок – опознавательный знак, а меня он ей опишет, собственно, давно уже описал.
Затем в трубке снова раздался хриплый кашель, потом смех и новый поток слов: завтра вечером отправимся вдвоем в горы под Веной, на виноградники, завалимся в какую-нибудь корчму, будем дуть рислинг, знаешь деревенские корчмы, подмигнем какой-нибудь хозяюшке…
Гарри Клейст кричал: «Седина в бороду, бес в ребро». Он снова поперхнулся, в трубке раздался сигнал, что время разговора истекает. Я успел только расслышать: «Будь здоров, до обеда!»
Я слонялся по вокзалу, лениво зевал. Придет Кэти, она родилась после Йошавки. Черт побери, чего хочет Гарри Клейст?
Пришла – быстрая, ладная. А я не знаю, куда руки-ноги деть. Синие глаза Гарри с Йошавки. Говорит: «Мутти готовит обед, а мы пока пройдемся по городу».
Иду рядом с ней, странно так. А она, глупышка, смеется, разглядывает меня.
Привела в картинную галерею, бывший дворец. Показала памятник Марии Терезии. Да, вот она, императорская Вена, из этих покоев все выходило! Детьми мы, Чеперко, в чижика играли, в салки, а когда припускал дождик, прятались под стрехами и тутовниками и пели: «Дождик начинается, Австрия кончается». Черта с два кончается. Осталась не империя, а кое-что пострашнее, что не так-то легко разрушить.
Иду, значит, я, Чеперко, по императорским покоям и думаю: а где же это могила Потиорека?[55] Он стоял со штабом в 1915 году в Баня-Ковиляче, готовился взять Белград ко дню рождения Франца Иосифа, так сказать, маленькая столица в виде именинного торта. В Вене уже придумывают новый орден для Потиорека, старых не хватает. И делегация императорского двора прибывает в Ковилячу и вручает ему орден. Белград пал в назначенный срок. Потиорек посылает донесение в Вену и предлагает присоединить к монархии на вечные времена правый берег рек Дрины, Савы и Дуная с прилегающими возвышенностями и таким образом полностью отрезать Сербию от водных путей. Какую участь готовили, а? Запереть сербов в ящик. Да, да, Чеперко, резоны всегда находятся. Море соленое, и правый берег тебе ни к чему. Вот что такое Вена! И кто только этих упырей расплодил? В Салониках был один мясник, громадный детина. Все думали, он мясник как мясник, людям мясо режет, а он упырь был. Пока суд да дело, он из людей кровь выкачивал.
Ты не заснул, Чеперко? Молодец.
Вышли мы из музея, устал я от картин, от прочности их мира. Сели на скамейку, солнце – городское, мутное, и вдруг Катарина говорит:
– Я знаю, все знаю, отец мне рассказал.
Жаром меня обдало, всколыхнулся отстой со дна памяти, шапка стала мешать, щурюсь, хочу сам в себе разобраться: откуда начать? Гляжу одним глазом: передо мной в сквере большое дерево и на самой его верхушке в развилке ветвей голова Мики и его золотой зуб.
Катарина разрушила видение:
– Я знаю, отец рассказывал, какое огромное было болото! Трясина как живой песок. Многих затянуло.
Я представил себе эту ее живую трясину – люди проваливаются до колен, до пояса, взмахивают руками, трясина затягивает: лицо, затылок – и вот только прядь волос…
Снова Катарина:
– И вы протянули ему большой крепкий сук…
– Да, я мигом срубил сук.
– И вот отец спасся, и я живу на свете. А вдруг сук не выдержал бы? – спросила она серьезно.
– Ну, срубил бы другой.
Она засмеялась, а взгляд у нее легкий, знаешь, Чеперко, как перышко!
Пора было идти обедать, мы заторопились. Я все раздумывал: чего хочет Гарри Клейст, в чем наша вина?
Вошли в старое здание без лифта. Деревянная лестница с крутыми поворотами, белые перила, скрип шагов, на каждом этаже три двери, тоже белые, будто мы попали в какую-то монастырскую больницу.
На пятом этаже остановились, на желтой табличке я прочел: «Гарри Клейст, фармацевт».
Кэти нажала кнопку звонка, и дверь тут же отворилась. Я увидел заплаканную женщину в черном. И сразу понял: это жена Гарри Клейста. Просто, как старому знакомому, она положила голову мне на плечо, все время повторяя: «Гарри, Гарри, бедный Гарри!»
Вскрик Катарины, и я начинаю догадываться. Через голову жены видна открытая дверь в другую комнату, там большой стол, накрытый дамастовой скатертью, хрустальные бокалы, горят свечи. Какие-то люди в темных костюмах встают, смотрят на меня.
Ждали нас, меня и Кэти. Полчаса назад сообщили, что Гарри Клейст умер. От разрыва сердца. Случилось это в аптеке, когда он надевал пальто.
Госпожа Клейст открыла бутылку вина, наполнила бокалы. Мы стояли возле стола, я поискал взглядом Катарину. Теперь я здесь знаю одну ее; она съежилась на стуле, возле нее молодой человек, вероятно, брат.
Чеперко, подумай только: взметнет тебя ввысь, а оттуда, с небесной вышины, падает тьма. Жизнь, она мастерица выкидывать коленца.
Гарри, чего же ты хотел? В горы? Ну да, и возле Вршаца они есть. Но, может, ты хотел чего-то другого?
Поехали мы в больницу. Нас встретил человек в белом халате. Гудели мощные вентиляторы, он ввел нас в комнату без окон, горел свет, почти как дневной, девять низких мраморных столов были покрыты белыми простынями, один стол пустой. Человек в белом халате подошел к пятому, открыл его.
Да, это Гарри Клейст, его докторская бородка, узкая щель рта – поперхнулся. Так я увидел его мертвым.
В больнице остался сын Гарри, Торстен, улаживать все, что надо для похорон.
Госпожа Клейст потребовала, чтобы я вернулся на задуманный Гарри торжественный обед.
Я был на все согласен, меня посадили рядом с ней. В тарелке Гарри Клейста горела свеча. Жена его что-то говорила по-немецки. Мне показалось, долго. Потом объяснила мне, что рассказывала друзьям Гарри, что я давний товарищ мужа.
Мы тихо принялись за еду, но ели мало, клевали, как птицы. Против меня сидела Кэти, то и дело взглядывая на меня.
Потом я сказал, что сук тот был не обычный, и рассказал все, абсолютно все. Думаю, что именно этого и хотел Гарри Клейст.
Катарина задумалась, глаз с меня не сводит, улыбнуться пытается.
Попрощался я со всеми. Кэти проводила меня на вокзал. Я дал ей денег на венок и велел на ленте написать: «В знак нашей Йошавки – Гарри Клейсту».
Я поцеловал ее в волосы, она меня в щеку. Вошел в вагон, Кэти стояла у буфета на колесах, как ни странно, он был открыт. Махала рукой, что-то говорила и, кажется, плакала.
Чеперко, как ты сидишь, свалишься, шут гороховый! Вот боров, опять спит.
Перевод с сербскохорватского О. Кутасовой.
ВЕКОСЛАВ КАЛЕБ
В. Калеб родился в 1905 году в Тиесно (Далмация). Прозаик, эссеист. Академик. По профессии учитель. Участник народно-освободительной войны 1941—1945 гг. Калебом написаны романы «Униженные улицы» (1950), «Белый камень» (1955), повесть «Прелесть пыли» (1954), сборники рассказов «На камнях» (1940), «Вне вещей» (1942), «Новеллы» (1946), «Бригада» (1947), «Звуки смерти» (1957), «Порывистый ветер» (1959).
Произведения В. Калеба неоднократно издавались на русском языке: «Прелесть пыли» (1961), «Прелесть пыли. Рассказы» (1972) и др.
Рассказ «Камень, неизвестно какой» опубликован в журнале «Форум», № 1—3 1983 г.

КАМЕНЬ, НЕИЗВЕСТНО КАКОЙ
Председатель Бабца, входя, с трудом попал в дверь, чуть было не упал. Только это и вынудило его подмигнуть секретарю Пере. Тут же лицо его окаменело. Видно было, что подмигнул он нехотя. Кое-как втиснулся за стол, пришлось отодвинуть кресло.
– Бог ты мой! – тихо выговорил он в воздух. Уставил невидящие глаза в секретаря, выпрямился, нащупал под животом ремень, попытался подтянуть штаны и дал волю своему восторгу: – Ну и накормили, бог ты мой! Ууух… – выдохнул он.
На другом конце комнаты секретарь с интересом поднял голову. Проехался локтем по столу и налепил ухо на ладонь, словно перекликался с кем-то в горах. Из-за этой его позы канцелярию называли «Пастух Пере». А сейчас одним движением локтя он сообщил Бабце: «Все в порядке, никаких проблем и сегодня тоже». На этот раз Бабца даже не стремился сделать вид, что был на секретном заседании или в командировке. Он решил разделить свой восторг с секретарем, немного его порадовать и поставить на том точку. А Пере только того и ждал, чтоб Бабца пришел в себя, кончил пыхтеть и удалился. Иначе домой вовремя не уйдешь.
С улицы от кафаны доносился тихий говор. Пере знал, о чем там говорят. Он и сам, как те внизу, в толпе, мог растекаться в словах, а думать о своем: о винограде, курах, неводах и вершах. Возле кафаны он бывал после полудня и до авемарии, когда шел домой ужинать, чтоб жена не сердилась.
На этот раз ему пришлось изобразить участие.
– Значит, накормили – бог ты мой, да? – Пере спрашивал быстро, как из автомата стрелял. Скорость, с какой он выпаливал слова, ошарашивала собеседника. И возбуждала. Казалось, он набит словами, а говорит так сжато, что даже страшно становилось.
– Хо! – выдохнул Бабца еще раз, усевшись окончательно. Рассказывал он, собственно, себе, а не Пере, или кому-то из своей компании внизу, или неизвестному слушателю. – Об заклад бились, – улыбнулся он опять же кому-то своему, – как на свадьбе! Ууух! Печеное, вареное, подливки…
– И что подавали? – разозлился Пере.
– Почки на углях… Об заклад бились, кто кого! И тот… принес пршуту[56], жареную брынзу, это первым делом… А вино! Це-це-це! – разжал он щепоть перед губами. – Никогда еще такого не пил. Не оторвешься. И крепкое, прямо в нос шибает…
– Ну! – наслаждался Пере. Отодвинулся от стола вместе со стулом – он всегда так делал, намереваясь отдохнуть, – и снова, изогнувшись, уложил локоть и всю руку прямо на бумаги. Ждет продолжения.
Но Бабца замолчал. Красное бугристое лицо его болезненно сжалось, скорчилось. Потыкал большим пальцем под ребра. Затем, словно наедине с собой, как бы озабоченно очертил ладонью непочатый край работы.
«Что он надумал?» – испугался Пере. Насторожился. Однажды он возьми да ляпни нечаянно: «Мы всегда знаем, что говорить, и никогда не знаем, что делать!» Бабца тогда уставился на него, будто на что-то решался.
– Остерегся бы, – сочувственно кивнул Пере на брюхо Бабцы. – Мой отец вот так щупал под ложечкой, и сам знаешь, где он!
– К чертям! Проклятая язва… Кислотность у меня.
– Кислотность. Ладно. Может, и так. Но я-то знаю… – Пере готов был поддержать разговор; утро он принимал уже таким, как есть. Видно, Бабца и сегодня не придумает «мероприятия». Пере было испугался, что придется заниматься какой-нибудь годовщиной, проводить референдум по поводу установки памятника или бетонирования площади (что только можно, уже забетонировали). – Почты не было, – добавил он, надеясь смягчить обстановку, и стал ждать.
Бабца нацелил ухо в окно: в шуме перед кафаной произошли перемены, слышались восклицания, смех.
Пере ушел в свои мысли. На что решиться? Как лучше – бездельничать или подбить Бабцу на что-нибудь? Он ничего не имел против однократных мероприятий, как, впрочем, и Бабца. Конкретное дело, думать не надо, закончил и свободен. Лучше всего – торжества, собрания, выборы. Это самые благодарные «мероприятия». Казалось, что выполнил работу на годы вперед. Производства боялся как огня, ведь там никогда не знаешь, чем все может обернуться. И совсем лишал покоя страх так называемой «ответственной» работы. В памяти прочно засела фраза: «Враг не дремлет!» Потому в какой-то степени он бывал даже рад, когда шеф заставал его за столом спящим, так сказать, in flagranti[57]. В боевой же обстановке, порой даже в полусне, он то и дело выкрикивал, особенно когда рассчитывал, что Бабца его слышит: необходимо… приложим все силы… снизить… повысить… уделить внимание… мобилизовать внутренние резервы… объективные возможности… субъективные трудности… и прочие молитвы неведомой силе. Много раз ему даже снилось, что ему крикнули прямо в глаза: «Так ты же и есть внутренний резерв!» С другой стороны, подобные фразы взбадривали его. Придумать их не так уж трудно, а увести они могут далеко. Но все-таки – это была мука, лежавшая на душе тяжелым грузом, к тому же он знал – Бабца его терпеть не может, у него хватает помощников и без Пере.
Бабца выбрался из-за стола, подошел к окну, сцепил руки за спиной и крутит большими пальцами, как обычно. Все внимание его там, перед домом.
Из окна был виден берег до самого конца села, залив и море, уходящее между островами вдаль, где оно коварно синело в ожидании своего часа.
– Утром на рыбном базаре барбуля была. – Пере переходит на мирные тона. – Вот такая, – отсек ладонь левой руки правой.
– Ну и ну! Ты только погляди! – Бабца говорит самому себе.
Пере поднялся и так потянулся из-за стола, словно пытался вылезти из кожи и посмотреть на нее со стороны.
Сперва он увидел только набережную перед кафаной. В тени под дубами кучками стояли, переговариваясь, люди. Пере проследил за их взглядами и нашел то, на что смотрел Бабца.
К берегу подходил рыбачий катер. Зеленый, как молодая трава. На носу пышнотелая Дарка с канатом в руке ждет, когда катер причалит. Юбку на боках распирает, как зонт. На корме, у руля, как бы в качестве противовеса, сидит ее муж, Клин, тоже дебелый и румяный.
Сперва зрители под дубами молча пялились на эту картину, только изредка кто-нибудь восклицал:
– Эх, хороша Дарка, видит бог, хороша!
Когда она, затянув зубами узел на платке, выскочила на причал, чтоб взять конец и привязать катер, и повернулась к зрителям своим необъятным задом, восклицания стали громче. Но она их не слышала. Глянула под ноги и принялась раскачивать каменный брус на кромке пристани, да так решительно, прямо тебе воевода.
Клин как бы нехотя закинул якорный канат за кнехт, сторонкой, по самому краю, чтобы не топтать сети, прошел на нос и спустился к Дарке. Нагнулся, выдернул камень, ловко обхватил его, поднял и вернулся на свою посудину.
– Ну и ну! Ведь в нем пятьдесят кило, не меньше! – изумился кто-то возле кафаны.
– Держи, Клин, не отдавай… Твое право, раз никто больше не догадался!
– Чего там, с таким помощником! Завидная опора! – Даркины телеса будоражили многих.
– Три лошадиные силы, не меньше!
А те, в окне, молча ждали, когда Клин и Дарка закончат свое дело. Пере внес поправку:
– Нет, в нем кило сорок будет.
– В чем? А, да… Гляди! Гляди! – повторял Бабца напряженно, снова только себе, не замечая Пере, в голову ему пришла неожиданная идея.
– «Его право!» – злился Пере. – Никому дела нет… – Пере обидело пренебрежение Бабцы. А винил он себя, никак не мог совладать с презрительной ухмылкой на губах, она всегда выдавала его мысли. Последняя же была: «Об одном думает – как бы себя прославить!» И это о первом человеке на селе!
– Ну да, – продолжал Пере более мирно, – этот камень каждый знает. Один раз мой тесть чуть ногу на нем не вывихнул. Только и ждали, кто бы его…
– Да замолчи ты! – Бабца боялся, чтобы тем, внизу, кто-нибудь не помешал.
А Пере снова кипел, еще больше – понимал, что Бабца и на сей раз не принимает его в расчет.
– Если лоцману нет дела, и никому другому нет дела… так мне чего же, – сказал Пере запальчиво. Теперь он казался довольным, хотя чуть зубами не скрипел (а Бабце уже приходилось такое слышать), глядя, как Клин и его жена Дарка, не щадя сил, совершенно открыто, даже с видом мучеников, будто старались для общего блага и уж никак не противозаконно, не спеша тащили камень по носовой палубе. Искали, куда его положить, чтоб не нарушить равновесия катера. – Хм, – сказал Пере, – как бы днище не чиркнуло о дно. Ха, ха, ха… – Он, как и остальные, понимал – все решилось точно так, как и ожидалось. Камень прельстил Клина и Дарку, и на то были веские хозяйственные, рыбацкие резоны, на которые они и поддались.
Вот и я говорю, сотня лет прошла, как нанятые мастера вытесали прекрасные белые камни и уложили их один к одному. В те времена гордость творца и неприятие алчности были в такой же высокой цене, как сегодня жульничество. Честь труженика была высока, все делалось на совесть. Новая набережная противостояла ураганам и штормам, о нее разбивались коварные глубинные водовороты. В старину ходили на веслах и под парусом, на баркасах и шхунах. В ту пору лоцман кружил по заливу, как коршун, его и звать не надо было. Трудовые, рабочие традиции были прочные и крепкие, такие же, как у строителей и мореходов. А недавно, лет пять назад, моторный бот подхватило течение, понесло и ткнуло носом в причал, он и выбил камень, точно зуб, на глазах у многочисленных бездельников перед кафаной.
Вот Клин и погрел руки.
– Корму немного подымет, – повторил Пере, делая вид, что он тоже умеет говорить сам с собой.
– Он за это ответит, не бойся.
– Для сардин камень тяжеловат. Зато для пршуты в самый раз.
– Для пршуты, да, – произнес Бабца тихо, раздумчиво.
Перед кафаной еще восклицали: «Хороша! Другой такой не найти!»
Клин и не слушал, а Дарка, польщенная вниманием, время от времени бросала взгляд на зрителей.
Они знали, Клин и Дарка, что люди смотрят на их труды здраво. Никому и в голову не могло прийти помешать им. Отошли от берега, набрали ход, начадили, уселись поудобнее на корме, каждый на свое место и – в путь. Лук не ели, луком не пахнет.
Представление закончилось, Бабца деловито подвел итог. Повернулся, твердо посмотрел на Пере и сказал как отрубил:
– Заплатят они мне за этот камень, посмотришь!
– А что?
– Заплатят, не бойся!
Ну, пойдет писанина, испугался Пере, но выпрямился, вытянул руки по швам. А когда увидел, что шеф направился к выходу, осмелел и окончательно успокоился, услышав сказанные в дверях слова:
– Сегодня же вечером заплатят, я тебе говорю!
В кафане, глядя, как Дуйо тасует карты, Бабца сквозь зубы сказал Бидону, тощему верзиле, но так, чтобы слышал более важный Дуйо:
– После обеда – за поле!
– На задание! Ха, ха, ха, – захохотал Дуйо. Дуйо – перекупщик, заготовитель. Телефоном зашибает большие деньги, частным образом, конечно. Он толстый, но подвижный, всегда веселый. Вместо свечки рог продаст.
– На барбулю, – проворчал Бидон. Обиженно нахмурился, но возражать не стал. Знал свое место. На войне был недолго, только последний год. Ему оцарапало палец, и он носил особый напальчник из искусственной кожи. Его подвиги «на заданиях» сельские злопыхатели ни во что не ставили. Бабца все намекал ему на «стаж» – клок сена перед носом, как у осла на гонках. Потому-то у него, у Бидона, лицо было мученическим, словно он бежал до изнеможения.
Со стороны казалось, что эта троица дружно работает в каких-то весьма секретных сферах.
После обеда в село приехала комиссия, и ужин затянулся допоздна. Затем «срочная командировка» – Бабце удалось где-то достать дубовую бочку. И опять ужин с комиссией – прощальный. Только на третий день они выбрались за поле.
Бидон шел впереди по камням (такое это было поле!). Тощие руки и ноги будто полоскались на ветру вместе с рукавами и штанинами. Изображал рвение. Усердно прокладывал путь вперед. Обильная еда, которую он поглощал, не оставляла на нем никаких следов – не то что на двоих других. Он дорожил их дружбой. На заре отдавался горячей страсти к неводам и вершам, к тому же любил, чтоб, когда понадобится, было что вытащить из холодильника. Мало кто знал рыбацкие хитрости так, как он. И Дуйо человек полезный – ему известны все тайны базара и картежной игры, достать может, что угодно.
Бабца шел не спеша. Торопиться некуда. Голову нес гордо, возвышаясь над обыденщиной. Посмотреть, так подумаешь, что мозг у него напряженно, без остановки работает.
На повороте посреди поля Бидон, продолжая смотреть в землю, бесцветным будничным голосом произнес:
– А вон и Пастух! – И махнул рукой в сторону боковой тропинки под смоковницами, по которой медленно брел Пере.
Пере изогнулся, втянул голову в плечи, словно опасаясь наткнуться на что-то или стараясь избежать удара. Ему они не дали прозвища. Может, потому, что Пере – перо, говорило само за себя. Также, как и Дуйо, духовник. Вот Бидон – прозвище. В детстве он собирал по дворам помои для поросят. Да и само слово бидон – высокий, гулкий – имело свой смысл. А у Бабцы с детства лицо покрыто пятнами от лишая. Клин со своим длинным носом так и выискивал, куда бы его забить. Дарка – имя ласкательное, часто встречается.
– Далеко чует! – усмехнулся Дуйо.
– Не тронь его! – оборвал Бабца.
Когда они добрались до моря в другом селе, Дуйо подбежал к воротам в высокой каменной ограде. Ожидало их нечто удивительное.
– Гляди! – показал он на паутину в выбоинах стены и щелях дерева. – В старые времена строили крепко, чтоб от пиратов отсиживаться, а теперь пауки охраняют их от налогового инспектора, ха, ха, ха!.. – Дуйо обеими руками повис на ручке, уперся коленом, поднажал и вдруг поехал вместе с калиткой, загребая по земле ногами.
– Ха, ха, ха… – Бидон зол, как собака. – Срам один, и добрый день не скажешь, ха, ха, ха. – Смех деревянный, без веселья.
– Это ты, Клин, поставил мне ловушку! – загоготал Дуйо, заполняя своим смехом весь двор.
Перед ними открылось подворье старинного дома. Пожелтевшая вытертая брусчатка. В углу живой изгороди в таком же пожелтевшем вытертом круге растет старая, узловатая, причудливо изогнутая смоковница.
– Ну и ну! – поразилась Дарка, стоявшая посреди двора.
Бидон тут же направился к ней, окинул ее взглядом и быстро осмотрел то, что лежит у стены – остроги, верши, канаты, переметы, донки, щипцы, в углу большой ржавый якорь, корзинки, на шестах – сети.
Клин согнулся крючком, чтоб лучше видеть, как продеть челнок сквозь ячею, их будто не замечает.
Но когда Дуйо навис над ним, Клин, не подымая головы, протянул:
– Оооо… – И еще ниже склонился над дырой в сети.
– Дельфин, да? – Дуйо знает. – Как мы вошли, дыра сразу больше стала? Ха, ха, ха… – Дуйо на все лады смеется – и ха-ха-ха и хо-хо-хо, но вдруг продолжил серьезно: – Прости, если помешали, можем уйти. Хотя пришли, понятно, по делу… Так вот, – намеренно тянул Дуйо, – дорогой ты мой, давай не будем играть втемную. Все равно не спрячешь, нет. Найдем, все равно найдем, правда, Бидон?
Бидон удивился. Он и понятия не имел, о чем речь. Вообще никогда не задавал вопросов. Пошли в Дрниш! Пошли, и баста.
– Ищи, чего хочешь, мне-то что. Мне искать нечего.
Дуйо поостыл, умерил натиск. Перевел разговор на другое.
– Ух ты! Как у него ловко челнок входит! Как палец в… ха, ха, ха!
Бабца стоял посреди двора, полный достоинства, даже торжественности. Осматривал верха усадьбы – кровлю, траву на ограде, в глубине – стены нового дома Клина. Ждал, когда Клин придет на помощь, то есть, когда решит бросить свое занятие.
Дарка встала в углу двора у закоптелого очага возле груды хвороста. Руки на животе, покачивает ложкой. Переводит взгляд с одного на другого, хочет понять, какую на сей раз мужики глупость учинят. На лице, как всегда, «дума» – так называют в селе заботу.
– Боже мой, где ж наконец тот камень? – спрашивает Дуйо у Бабцы.
– Найдем, найдем, не бойся, – отвечает Бабца, все еще не спускаясь со своих высот. Этим он дает понять, что когда-нибудь Клин закончит-таки свою работу. – Не видишь, что ли, человек сети чинит? А камень вместе найдем.
– Что найдете? Что? – в голосе Дарки скорее удивление, чем вопрос.
– Камень! Камень. Иди-ка сюда, Бидон! – Дуйо направился к полуразвалившимся дверям стоящей посреди двора клети. Пнул одну створку, изнутри открыл другую, словно решил помочь Клину.
У Клина даже лицо перекосилось. Стерпит? И вдруг просветлело.
– О, да это ты, Бабца! Удостоил! – Он поднялся, отряхнул штаны. – Так что надо?
– Камень, что ли? – осведомилась Дарка.
– Вот он, на каменице![58] – раздался ликующий крик Дуйо из полумрака клети. – А зачем он его туда поднял? – Дуйо вопросительно смотрит на Дарку. – Зачем так вознес?
– Да что ты городишь? Какого черта? – Дарка в основном смотрит на выпученные в красных прожилках белки Дуйо. Рассмеялась, тряся животом, и тут же угомонилась, ждет, что дальше будет.
– Зачем ты его поднял на каменицу? А? Это ведь грех, хе, хе, хе. – Бидон принимает сторону Дарки.
Бабца вошел в клеть и сразу, от двери, дотянулся рукой до камня.
– Зачем поднял на каменицу? Затем, что красивый! Вот зачем. Он ведь не только хороший гнет для пршуты, но и украшение. – Погладил камень. – Красивый.
– Прямо как скульптор его вытесал, – говорит Бидон. – Дааа, знали, что делали… – И вдруг повернулся к Дарке. – Это Дарка его выдрала, чтоб никто не споткнулся. Эх… – Он уставился на Даркины груди.
– Прекрасный камень, – вышел на порог Бабца. – Дар божий!
– Ха-ха-ха! А как же! – Дарка почесала нос тыльной стороной ладони. Любопытство ее разгоралось. Левую руку она уперла в бок, а в правой все еще покачивалась ложка. – И что в этом такого, а? – обращается она к Бидону. Голос мягкий, воркующий.
– Ух! – У Бидона волосы зашевелились от восторга, мурашки пробежали по рукам. Он уловил запах Дарки. Особенно же проникал в душу ее дразнящий голос. Свирель, да и только. Он подошел поближе: – Где такую найдешь? Тут было бы за что подержаться…
– О, дьявол тебя побери!
– Гони, курица, что склевала, вот что! – вскричал Дуйо. – И шепнул Бидону: – За все ответит! – Потом Клину, серьезно: – Признайся, такого камня и в Риме не сыщешь! – разошелся Дуйо.
– В Риме? – удивилась Дарка. – Да что он несет? В Риме! – повернулась к Бидону, расхохоталась. Это его воодушевило. Он уже считал себя победителем.
– Подумаешь, камень! – Только теперь Клин снизошел вступить в разговор. – Ха, ха, ха. В Риме? Да камней кругом сколько душе угодно, всюду, куда не глянешь. Другого б чего-нибудь столько…
– Аааа… Другого чего-нибудь! Давай говори, чего! Чего тебе не хватает? Видали, видали! – ликовал Дуйо. – Сам не знает… чего. Эээ, дорогой мой, теперь не выкрутишься, нет. Это тебе так не пройдет, отломить кусок от нашего села! Брат братом, а деньги не родня, ха, ха, ха. Что, Дарка, не правда? За такое платить надо, не так, что ли?








