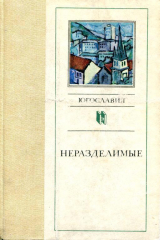
Текст книги "Неразделимые (Рассказы писателей Югославии)"
Автор книги: Славко Яневский
Соавторы: Леопольд Суходолчан,Мишко Кранец,Живко Еличич,Димитар Солев,Стево Дракулич,Векослав Калеб,Живко Чинго,Чамил Сиярич,Радован Зогович,Антоние Исакович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Перевод с хорватскосербского Т. Кустовой.
ПАВЛЕ ЗИДАР
П. Зидар родился в 1932 году в Словенском Яворнике (Словения). Прозаик. Драматург. Автор романов «Святой Павел» (1965), «Дым» (1970), «Гамлет из Доленьской» (1976), «Разоруженный пророк» (1981), «Чудеса» (1981) и др., а также многочисленных сборников рассказов: «Путешествие во тьму» (1965), «Я есть ты» (1971), «Кожа» (1974), «Пасьянс» (1978), «Вечная жизнь» (1979), «Ее глаза» (1980) и др.
На русский язык переведено ряд рассказов П. Зидара.
Рассказ «Моя родина» напечатан в журнале «Содобност», № 3, 1984 г.

МОЯ РОДИНА
«И зачем, – раздумывал я, – немцы хотят разрушить наш мост?»
Занятый такими мыслями, я услышал, как в кухню прокрались человеческие тени, одна из них спросила, уснул ли я. Это была моя бабушка с материнской стороны.
Мама не сомневалась, что сон давно меня сморил. Но я только зажмурился и настороженно улавливал все звуки, как гулкая пещера.
И слышал каждое слово.
Бабушка сказала:
– Наши солдаты отступили. Фронт будет проходить у Радовлицы.
Отец:
– Фабрику взорвут; дороги заминированы.
Бабушка:
– Вода с завтрашнего дня будет отравлена.
И так далее.
– Нужно закупить продуктов, – сказала мама. – Кукурузной муки, сахара, масла, ведь война может продлиться несколько месяцев, да и когда еще все снова будет по-старому…
Под эти разговоры я и вправду погрузился в туманные глубины сна.
На следующий день мы с мамой отправились в Кашту, в большой магазин, несколько напоминающий нынешние универмаги. Элицу мы по пути отвели к тетке. В Каште у магазина уже скопилось множество четырехколесных тележек, а в самом магазине народу было полным-полно. Люди покупали все, что только можно было купить. А в продаже оставалось еще немало всякого добра.
Простояв часа полтора в очереди, мы с мамой увезли из Кашты мешок кукурузной муки, несколько килограммов говяжьего жира, полмешка пиленого сахара да еще кучу больших и маленьких банок разных консервов.
По пути домой мы встречали родичей и соседей, также направлявшихся за покупками.
Из лавки шорника вышел человек с лошадиным хомутом на шее. Из хомута выглядывала и кивала нам большая голова Лагои, нашего кладбищенского сторожа. Никто не мог выкопать такую добротную, уютную могилу, какая получалась у него. Сейчас он пришел сюда, чтобы купить хомут, – возможно, последний – для своей кобылы Линды.
У этого шорника мне предстояло, когда подрасту, выучиться ремеслу. Так решила мама сразу же после моей неудавшейся конфирмации – я не был ее удостоен потому что сказал, будто у нас три бога. Но шорником мне надлежало стать не только по этой причине – в течение многих месяцев я не мог научиться считать до пяти. Мама была убеждена, что в гимназию мне все равно не попасть и что я, как и она сама, просто стану хорошим работником. И она преспокойно договорилась с хозяином шорной мастерской, чтобы тот со временем взял меня к себе в ученики. Поэтому, когда мы с мамой отправлялись в Есеницы[5], то обязательно заходили к мастеру, делавшему хомуты и седла. Поглядывая на меня из-за своего стола, заставленного вонючими лаками и мазями, мастер подмигивал мне и приглашал сесть на треногий стульчик, напротив него. А там так разило клеем и смолой, пылью и кожей, конским волосом и морской травой, что у меня перехватывало дыхание. И мастер это заметил. Он сказал маме, что я слишком чувствителен к сильным, неприятным запахам, так пусть она подумает получше, может, из меня выйдет неплохой садовник. «Это ведь тоже хорошее занятие, – утешал он маму, – все время на свежем воздухе, да еще запах цветов, солнце…» Но мама настаивала на своем: будешь шорником, и точка. Теперь, когда Лагоя выносил последний хомут, было похоже, что мастер закроет свою мастерскую, которая и так совсем захирела. Я вздохнул с облегчением: больше мне не нужно будет приходить сюда, чтобы научиться дышать вонью.
Немного позже, хотя еще вовсю шла война, родители то и дело спрашивали меня, кем бы я хотел быть. Я склонялся к тому, чтобы стать священником, – мне нравились молодые капелланы, служившие свою первую мессу, однако вопрос о том, сколько у нас богов, все еще не был мне ясен, а не разрешив его, нельзя было и думать о поступлении в люблянскую богословскую семинарию. Отчаявшись, я заупрямился и говорил, что не буду никем.
Для мамы и отца это было нечто неслыханное. Не быть никем!
– Хорошо, – сказали они. – Если ты никем не хочешь быть, придется тебе пасти свиней в Госпа-Свете.
Это меня вполне устраивало.
Когда мы вернулись с мешками из Кашты домой, пора уже было идти в школу.
Как обычно, я сделал себе яичницу из одного яйца, а мама в это время сходила за Элицей.
Я хотел убежать прямо так, с желтком, размазанным вокруг рта, но мама поймала меня и провела по моим губам носовым платком, который она смачивала своей слюной.
Большей пытки для меня не существовало. Слюна была вонючей, и я заявил маме об этом.
– Тьфу! – кричал я.
Наконец я кое-как от нее вырвался и, выскочив из барака, словно проводник из поезда, помчался к Ценчеку, которому мать в это время приглаживала черные вихры также с помощью собственной слюны. (Ценчеки были соседями Тэпли, которые, как теперь стало известно, с нетерпением ждали своих соплеменников – немцев.)
– А какого цвета дерьмо у этих Тэпли? – спросил я Ценчека, когда мы вместе с ним направились в школу. (У Ценчеков и Тэпли был общий нужник.)
– Такое же, как у нас, бурое.
– А может, особенное – гитлеровское, белое?
– Нет! Белого пока не видно. Может, боятся, ведь у нас еще Югославия.
Кое-где в окнах виднелись портреты или флажки, свечи уже нигде не горели: все погрузилось в тишину и было объято ужасом, люди двигались как стелющийся над землей боевой отравляющий газ иприт и были такими же зелеными.
Я сказал Ценчеку, что вчера в Есеницах выдавали «смерть» по два с половиной динара (цену я сам придумал). Ценчек возразил, сказав, что «смерть» стоила значительно дороже, каждый, кто хотел ее получить, должен был принести с собой вещевой мешок и еще сто динаров. Всех их потом ночью увезли на поезде в Загреб или Карловац. Брат Ценчека, Луц, не захотел идти за «смертью», хотя по возрасту мог бы. Он спрятался под кровать и наказал матери говорить всем, что его нет дома.
А многие, как сказывают люди, пошли за «смертью» с радостными возгласами.
По дороге в школу мы вспомнили моего покойного двоюродного братца Польдека, сына тети Каты, отравившегося белыми мухоморами, подошли к его маленькой ромбовидной могилке, а затем отыскали и могилку Андрейчека с его портретом, на котором он улыбается живым уже как ангелочек.
Андрейчек был лучшим учеником нашего первого класса. Глаза его в буквальном смысле слова блистали умом. Но в один прекрасный день он подхватил испанку, как тогда называли грипп, и никогда уже не вернулся к нам в класс. Мы, его школьные товарищи, несли потом на маленьких носилках белый гробик, а мама Андрейчека всю дорогу на кладбище без умолку звала сына, меня это просто допекло, – хотелось сказать Андрейчеку, чтобы он встал и вышел в конце концов из своего белого ящика.
Капеллан обильно окропил его святой водой, на прощанье изрядно покадил своим кадилом и даже сказал надгробную речь. Детский журнал «Ангелочек» напечатал потом портрет Андрейчека, точно такой же, как и на надгробном камне, а под портретом было написано, что, к общему сожалению, умер на редкость способный и прилежный мальчик, обладавший такими качествами, которые редко встречаются у детей его возраста. Эти строки мы потом много раз читали в классе – в память об Андрейчеке.
А я часами, когда удавалось, смотрел на портрет Андрейчека-ангелочка.
На этот раз не мы ожидали нашу учительницу Марию Банко, а она нас – со стопкой тетрадок на столе.
Мы сели на свои места и тихонько переговаривались в ожидании, когда зазвонит ее серебряный колокольчик.
Мария незаметно прислушивалась к нашей болтовне.
А голоса наши переливались, как половодье цветов. Мы вдруг заговорили во весь голос, споря о том, кто вчера в Есеницах получил «смерть», а кто нет.
Я не знал, что ее дают не всем желающим, а лишь самым сильным и здоровым.
Хотя мы шумели громче, чем разрешалось, Мария Банко слушала нас, не проронив ни слова. Теперь я знаю почему. Она хотела уловить настроение родины, понять по ребячьей болтовне, как далеко мы уже зашли и где окажемся через несколько дней.
– Ну, ладно, – сказала она, когда мы, нащебетавшись, сами почувствовали, что давно перешли все дозволенные границы, как переходят границы государств.
Она захлопала в ладоши.
– Вчера я вам сказала, что исправлю ваши сочинения. Некоторые мы зачитаем. А некоторые нужно просто выбросить…
Я покраснел до ушей – был убежден, что смертный приговор будет вынесен тому, что я написал о Прешерне[6].
– Вот, скажем, это написано словно в насмешку над всем тем, что я говорила вам о родине и о жизни.
Она открыла тетрадь и прочитала:
– Мы живем, чтобы умереть, а пока что испражняемся.
Тишина всколыхнулась – последовал неистовый взрыв хохота, неописуемого, неудержимого, захватившего и вечно холодную Марию Банко.
Конечно, это написал не я, и у меня вырвался вздох облегчения.
Вместо меня покраснел как рак Бинче Пиберник.
– Это написал… написал… Пиберник. Совершенно несерьезно! Пожалуйста, Бине!
Тот поднялся. Мы обрушили на него новый залп смеха, и учительница опять не могла удержаться, лицо ее так и расплылось в умильной улыбке, словно слезинка на пухленькой детской щечке.
– Садись, садись, – повторила она дважды. Скорее всего она поняла, что Бинче это просто-напросто где-то услышал, запомнил, а вчера использовал для своего сочинения, не подозревая тут ничего плохого.
– Ну, ладно, ладно, – сказала учительница, переставая смеяться, и выбрала еще чью-то тетрадку.
Мы снова замерли от страха.
– Другой, – заговорила она, листая тетрадь, – вместо того чтобы выполнить задание, занялся чистописанием и целых две страницы исписал – и, конечно, с маленькой буквы! – франце прешерн, франце прешерн, франце прешерн… Винцент, зачем это?
Поднявшись, Цене Малей пожал плечами, его горестный взгляд искал ответа на потолке.
Тут все мы сразу вспомнили, как завидовали Цене, когда он писал, писал, писал без конца, прикрывая написанное рукой.
И весело захихикали.
Лишь двое или трое из всего класса уразумели, что нужно было написать, у остальных были сплошные глупости.
– Вы, наверно, меня не поняли? – спросила учительница, переложив на столе еще несколько тетрадей и усаживаясь на свое место.
– Не-е-ет, – ответили мы хором.
– Ладно. За эту работу я не поставлю отметок. Зато давайте на память – мы ведь, может, долго не увидимся – запишем в тетрадки то, что я сама для вас придумала. И вы отнесете это домой. Попрошу вас только об одном: время от времени раскрывайте тетрадки и проглядывайте то, что я сочинила на память вам и самой себе. И еще кое-кому.
Взяв кусочек мела, она принялась медленно писать на темно-зеленом поле классной доски, мы слышали шум, с которым из белого мела рождались буквы, словно шипело закипающее на плите молоко.
Прежде всего она написала заглавие:
МОЯ РОДИНА
Родина – это как будто мать и отец со своими детьми, – одним или многими. Под кровом родины мы в безопасности. Но иногда из-за небрежности людей кров этот может сгореть. Выстроить заново дом очень нелегко, а тем более такой прекрасный, как наша Словения. У многих народов родина сгорела дотла. У одних она погибла в огне навеки, у других возродилась из пепла еще краше, чем была прежде.
Ваша учительница хочет вас предостеречь – возможно, сгорим и мы, но только не дотла! В такие времена дети тоже должны быть мужественны. Язык народа – это стены родины, крыша ее – песня. Когда вам будут насильно навязывать чужой язык, не пускайте его в свои души, туда, где, как белый, мягкий пух, тихо живет родная, материнская речь. Наступит день, когда чужеземцы уйдут, и стены родины мгновенно обновятся. Крышу синего словенского неба снова озарит радуга, вспоенная водами Савы, Сочи и Дравы…
Текст этот был слишком длинен для классной доски, и еще более – для наших пальцев. То и дело приходилось вытирать доску тряпкой, чтобы мы и дальше могли поскрипывать перьями. Наконец работа была закончена.
Мы спросили Марию, нужно ли приписать что-нибудь внизу – какая тут форма или что-то еще.
– Ничего не нужно, – ответила Мария Банко, – вы просто переписали мое сочинение, а я его написала для вас. Оценку ему поставит время.
На лице у нее появилась улыбка, сверкавшая перламутровым серебром, хотя за ней скрывались тревога и озабоченность.
Сочинение это мы трижды прочитали, сначала его прочел один, потом другой ученик, а напоследок – все вместе хором.
В тексте было нечто такое, чего я еще не понимал, но чувствовал, что буду все больше и больше вникать в его смысл, как, например, в странные слова, сказанные вчера вечером бабушкой.
И как раз с этого дня начали разворачиваться события, имевшие уже вполне определенные зримые признаки.
Над Петелином, то есть над скалой, торчащей, словно клык, на крутом склоне горы Можакля, взвился гитлеровский флаг. Мы все вышли на него посмотреть – все жители Яворника от Верхних до Нижних Боровель и из Заяворника.
Флаг был красный, с белым кругом, в середине которого что-то чернело.
Те, у которых был бинокль, утверждали, что это гитлеровская «фана»[7].
Как гнетуще подействовало это на всех! Молча расходились мы с луга в Сеножети, откуда лучше всего виден был флаг и на нем белый круг, будто одуванчик, на который кто-то помочился.
И ни один человек уже не осмелился крикнуть, что нужно сорвать эту проклятую тряпку, чтобы духа ее не было на нашей земле.
Все начали бояться чего-то невидимого. Вероятно, пятой колонны, которую я до сих пор представлял себе только в виде плотного кольца черных тараканов, атакующих наш барак. Но после случая с флагом я стал сознавать, что быть в пятой колонне – значит иметь еще и другое лицо, а не только то, которое все видят.
Под зримым обличием скрывается множество обличий, если понадобится – даже сотня.
Нечто похожее я в тот же день обнаружил и у себя дома. Кто-то из маминой родни вспомнил, что мы каринтийцы, а бабушка объявила даже, что она родом из самого святого Блейбурга (не из Плиберка, как называют этот город словенцы).
Время от времени мама с отцом, как старые попугаи, пробовали говорить по-немецки, припоминая забытое, например: «Йожа (так звали моего отца), das Kind versteht ja alles (ребенок ведь все понимает)», – это касалось меня, я и вправду навострил уши.
Постепенно у них стало получаться. Немецкая речь слышалась все чаще. Что ни день – на миллиграмм больше.
Возрастал также ужас перед бомбардировками. Каждый вечер мы в полном смысле слова дрожали от страха, укладываясь в свои убогие постели, и долго вслушивались в угрожающую темноту, в которой раздавались шаги и скрип песка под ногами.
Люди начали собираться по ночам и о чем-то сговариваться.
Из темноты мне стала являться нечистая сила, обдавая меня своим сернистым дыханием.
В кухне и в комнате у нас стояло множество посудин с водой, даже ушат и ванна, на случай, если завтра вода и вправду окажется отравленной или вдруг ночью загорится барак.
А днем с необыкновенной легкостью одна паника сменяла другую. Так, например, тетки строго внушали мне, чтобы я, не дай бог, не поднял с земли какую-нибудь брошенную вещь, особенно авторучку. Говорят, будто в Хрушице десятеро детей ослепло из-за авторучек, которые они подобрали. Это были немецкие адские машины. (Их что, в аду изготовляют?)
Близилось вербное воскресенье, и старый, добрый Пайер с куриным зобом пошел на Обранцу, где рос можжевельник и другие кустарники. Наломав и нарезав всяких веток, он принес их домой, потом сходил еще в Грабен за прутьями вербы и связал три больших букета – «боганцы» и два маленьких, игрушечных, величиною с вершок.
К большим боганцам мы потом привязали апельсины, яблоки, инжир, а на самую верхушку, словно хвост, водрузили оливковую ветку. Листья ее, сожженные вместе с можжевельником и ладаном, считались отличным средством против сильной грозы. (Молнии сразу уходили в землю.)
В вербное воскресенье, едва мы выбрались из своих гнезд, как тут же услышали новость: мы уже находимся в состоянии войны с немцами, и рано утром столица королевства Югославии подверглась бомбардировке. Ее бомбят и сейчас, прямо засыпают бомбами.
Это нам сообщила прибежавшая бабушка, одетая по-праздничному. Она потребовала, чтобы мы пошли к ней послушать радио.
И мы пошли.
Войдя в комнату, мы закрыли за собой двери. По радио кто-то так орал, что приемник чуть ли не трясся. Отчетливо слышно было лишь одно слово, протяжное и трескучее, словно испражнялась обезьяна: «Ausradieren, ausradieren, ausradieren»[8]. За этой трескотней следовал звонкий, легкий: «Хайль… хайль… хайль…»
Мы стали переглядываться. Поняли, что слушаем Адольфа Гитлера.
«Ausradieren» означало, что нас следует стереть с лица земли – меня, маму, отца, сестренку.
«Хайль, хайль, хайль» означало одобрение таких действий.
Затем бабушка покрутила пуговку на приемнике, и донеслось щебетанье из Любляны – нас уговаривали спокойно принять свою нелегкую участь и не противиться ей, как полтора тысячелетия тому назад поступил сам Иисус Христос. Как раз в это время года он и принял смерть. (И вроде был этому даже рад.)
Ничего другого нам не рекомендовалось – только радостно ждать своего часа.
Мама начала плакать:
– О моя дорогая Югославия, о… о… о! Наверняка убили нашего маленького короля, миленького Петра Второго[9], который еще ничего не успел сделать, только ласково поглядывал на свою добрую мамочку – королеву.
Белград, стало быть, разбомбили.
Армия бежит.
– А что делать с боганцей? – спросил я, чтобы хоть что-то сказать.
– В самом деле, – очнулись остальные и выключили большой, черный пластмассовый ящик. – С боганцей пойдем в церковь. Нашу пока не разбомбили. Слава богу.
Дело в том, что во время первой мировой войны итальянские самолеты, перелетев через Поклюку, первой же брошенной бомбой угодили в святого Альбуина (это наша церковь) – прямо в колокольню. Святой в обличий церкви загорелся, колокола сами зазвонили, так что было слышно далеко в деревне.
Грустные и подавленные, мы вылезли наконец из своих нор и со всех концов Яворника потянулись в Корошка-Белу, в церковь, где началась одна из тех долгих месс, из-за которых всякий раз еще с четверга меня распинали назидательными поучениями о том, как вести себя в церкви в воскресенье. Лишь после мессы я медленно воскресал из мертвых, то есть становился самим собой – живым и любознательным ребенком.
В церкви было много зелени. Всюду трепетали оливковые ветки, которые держали в руках пожилые женщины, а мы, дети, не могли удержаться от старой привычки – щекотать друг друга можжевельником. Случалось, мы даже дрались, так что фрукты отвязывались, разлетались по полу, и их нельзя было уже найти.
Мессу служил старый священник Жиганте, а из ризницы выглядывал Иван Доброволец, молодой учитель закона божьего – немцы его первым выслали в Сербию, в то время как хитрый Жиганте улизнул в безопасное место, в свой родной дом в окрестностях Лесце, где, затаившись, прожил как частное лицо целых четыре года.
Священник с кафедры объявил нам то, что мы уже знали, а именно, что с сегодняшнего утра мы находимся в состоянии войны с могущественными соседями и что есть первые жертвы. Значит, кровь уже пролилась. «И еще прольется, – продолжал он, – а мы, христиане, должны молиться и терпеть; воскресение нас не минует, если будем вести себя по-умному».
Он долго еще разглагольствовал о том о сем и, между прочим, просил прощения у рабочих за резкие слова, которые раньше отпускал на их счет, мол, теперь и им, и ему нужно поставить на политике крест, иначе она сама всех угробит.
Затем следовала служба с пением и обряд благословения наших боганц, которые кропили святой водой, затем сбор пожертвований, при котором зазвенели серебряные монеты.
Больше всего я любил смотреть на старого Лоренца, носившего белый галстук-бабочку, при каждом сборе пожертвований он давал Жиганте бумажку в сто динаров. За это ему дозволялось чуть помедлить, приложившись к дароносице.
И еще в это воскресенье на мессе присутствовали все учителя от нашей Марии до величественного Рабича, дирижировавшего детским хором, от таинственной госпожи Керн, одетой во все черное, до моей любимой Польдки Ухан, сидевшей на своей скамейке у столика с причастием, нарядной, в голубой шляпке с белой вуалью. Была она большая, сильная и характер имела соответствующий.
Когда нашу Корошка-Белу переименовали в Karner Vellach и к нам понаехали новые учительницы из самого фатерланда, Польдка стала портнихой в швейной мастерской своего брата. Если кто-то из нас с ней здоровался, она отвечала, но ей было куда приятней, когда дети забывали о своей первейшей святой обязанности – приветствовать учительниц. Только это и спасало ее от высылки.
После мессы мы со своими боганцами разошлись во все стороны. Многие из нас отправились домой через Застрану под Кресом. Оттуда открывался прекрасный вид на кладбище, школу и далее до самой Сотески.
Мы, детвора, почувствовали, что урокам и мессам настал конец, и были поэтому в неописуемо хорошем настроении.
А немцев все не было.
«Почему они разбомбили Белград и не тронули наши Есеницы, ведь обычно начинают с начала, а не с середины», – размышлял я про себя, а потом высказал это и своим товарищам. Но надо мной только посмеялись. Смехом был встречен и мой рассказ о том, как я утром слушал по радио вопли Адольфа Гитлера, грозившего нас «израдировать», то есть стереть в порошок.
Но веселье скоро кончилось. Наступила минута, которая должна была нас разлучить – за Седеевой мельницей мы вышли к мосту, откуда дорога ответвлялась на Требеж.
Здесь мы – я, Ценчек и Вик – попрощались с двумя братьями Польчевыми, несшими свою боганцу, лишенную украшавших ее апельсинов. В церкви они подрались с мальчишками из Потока и метлы их остались голыми, только оливковые веточки торчали из середины, словно сорочьи хвосты.
Остаток дня проходил в тягостном, напряженном ожидании оккупантов.
Дома мы жались друг к другу, сидя за столом, или навещали соседей по бараку, а иногда бегали к бабушке послушать радио, которое, к нашему великому ужасу, в течение дня еще много раз повторяло трескучие слова «ausradieren» и «хайль».
Только Тэпли, жившие в самом конце барака, запустили по своему радио бравурные немецкие марши с тирольскими модуляциями и таким камнедробильным ритмом, что, казалось, они могли бы трепать лен или перемалывать в муку пшеничное зерно.
Я стал просить маму, чтобы она разрешила мне выйти из этого оцепенелого барака и сходить хотя бы к двоюродной сестренке Фанике в Заяворник, где была и наша Элица, которую теперь звали Эльзой.
– Но смотри, больше никуда не ходи! – пригрозила мама. – Не вздумай зайти опять к бабушке!
– Нет, что ты! – ужаснулся я. – Получилось бы, что я тебя не послушался.
А сам подумал, что по пути и к бабушке заглянуть не мешает.
Приплясывая, пробежался я по нашему большому двору, на который падала тень от дома, казавшаяся заштрихованной карандашом тенью от геометрического тела.
Я мчался мимо трактира Мулея, торопясь выбраться на дорогу, которая вела прямо к дому моей крестной, затем следовало несколько поворотов, словно дорога играла в прятки, подкрадываясь то к столярной мастерской Поточника, то к домам Ковачича и Дроле, и вот я бежал уже по тропинке между дубами, липами и каштанами – это была усадьба Чопов.
Издали было слышно, что возле дома тетки шла перебранка.
Как раз в день нападения немцев на Югославию тетя Фани позволила себе вылазку иного рода, имевшую для нее и для дяди тяжелые последствия.
Что же случилось, из-за чего вышла ссора с такими нехорошими последствиями?
Теткины куры забрели на «немецкую сторону», то есть в огород и на луг соседки Баумгартнерши. Собственно, они зашли только в кусты красной смородины, пощипали немного ягоды и в укромном местечке обнаружили сухую, теплую землю, которую и использовали для своего любимого купанья.
Баумгартнерша, завзятая фольксдойч, пребывавшая чуть ли не в трансе от гитлеровских воплей и обещаний «израдировать» словенцев, громогласно потребовала от тети Фани, чтобы та немедленно позвала кур домой, а то они наносят ей ущерб. В ответ моя тетка позволила себе позлословить. К величественной соседке в серьгах и с длинным серебряным мундштуком в зубах, в котором тлел окурок, тетя обратилась попросту на «ты» и сказала, что от кур нет никому вреда, а вот от нее – от Баумгартнерши – есть, и немалый, потому что она немка. Сказано это было в ту минуту, когда немцы еще бомбили Белград.
Баумгартнерша не ожидала такого решительного контрудара. У нее даже дыхание перехватило. Она смогла только пробормотать, что тетка за это дорого поплатится.
Когда я вдоволь наигрался с двоюродной сестренкой, было уже довольно поздно. Тетка отрезала мне кусок пирога и отправила домой. Я и вправду ушел, но не домой, а к бабушке.
Я брел вдоль берега мутной реки Яворник, слушал ее шум и вдыхал исходящий от нее горьковатый запах.
Солнце сползало за Петелин.
Бабушка следила за ним, полузакрыв глаза. Когда скрипнула калитка, она приподняла веки и, сощурившись, поджидала меня.
Прежде всего я сообщил ей, что тетя Фани поссорилась с Баумгартнершей.
– Из-за чего? – спросила бабушка.
Я сказал, что из-за кур.
– Хм, – пробурчала она и, опустив веки, обернулась к заходящему солнцу.
– Значит, важнее всего на свете играть на дудке? – спросил я кротко. Она снова подняла свои светлые, как сливки, веки и оторопело на меня взглянула.
– Ты осел, – ответила она. – Какая еще игра на дудке? Я говорила: краски и звуки пробуждают человеческое сердце. И то и другое создает ту зыбкую силу, которая делает нашу жизнь возможной или определяет ее конец. Если свой разум не напоишь сердечной добротой… Да зачем я тебе это говорю, иди-ка ты домой.
– А я не пойду!
– Что ж, тогда уйду я! – Она тяжело поднялась – лицо ее при этом болезненно сморщилось, – и ушла, прихрамывая и волоча толстую ногу, словно вернувшийся из Америки старик Малей свою вывернутую.
Делать было нечего, пришлось уйти в алый, как барбарис, вечер, в котором трепетали какие-то черные точки; по дороге я размышлял об этом догорающем дне.
Я подумал о том, что где-то действительно идет война со всей ее жестокостью, и вдруг вспомнил о сочинении, которое красивым, ровным почерком написала на классной доске – нам на память – Мария Банко.
И я почувствовал, что родина и вправду горит. Только здесь, на реке Яворник, этого еще не видно.
Мне стало грустно. Все вокруг меня было проникнуто тем же чувством. Даже собака Кейжаров, которая всегда на меня лаяла, молчала как побитая.
На перекрестке против барака, под огромным орехом Левара, стояли какие-то мужчины. Когда я проходил мимо, они замолчали. Они были такие мрачные, словно явились в отпуск с того света. Никого из них я не знал.
Я свернул к дому, собственно говоря, прошел за бараком, где был узкий зеленый газон и рядом дорога, на которой мы, ребята, каждый год хотя бы разок устраивали канонаду – вытаскивали из забора Светины доску, ставили ее вертикально, словно ракету, и ударяли по ее нижнему концу ногой. Шум от падения доски напоминал выстрел из пугача, а пыль, вырывавшаяся с обеих сторон из-под нашего орудия, вздымалась большим, густым облаком. Пальба эта засыпала наши комнаты, особенно мебель, превосходной пылью, на которой можно было рисовать или писать пальцем.
К дому я подошел с того конца, где жили Тэпли, победители югославского королевства. В своей квартире они уже буйно веселились – пили, ели, кричали, визжали и, бог весть, может быть, даже дрались.
Лишь в эту минуту, когда я услышал ликование, вызванное крахом моей родины, которая до вчерашнего дня была и их родиной, я полностью осознал, что такое пятая колонна. Это были предатели всего самого святого. Внешне они вели себя, как и мы, а на самом деле были такими двуликими!
Как могло случиться, что я раньше их не раскусил?
На следующий день мы шли в школу совершенно подавленные. Мама сказала, что, возможно, я иду в словенскую школу последний раз.
Солнце роняло золотые слезы на луга и поля. Молча входили мы в старое школьное здание, пожелтевшее, словно пергамент.
Мария Банко, бледная, как восковая свеча, уже поджидала нас.
Рассаживались мы так тихо, словно в комнате лежал покойник.
Пришли все, кроме Ханзи Окия.
На учительской кафедре лежали стопки наших тетрадей и рисунков, а также разные поделки – выпиленные из дощечек или связанные из шерсти. С самого края лежали наши табели.
Мария поднялась – белая как свеча – и сказала, что школе пришел конец, при этом в глазах у нее дрогнули линзы слез.
– Больше, – продолжала она, сложив руки, как учитель закона божьего Доброволец, – мы с вами не увидимся, а если и доведется встретиться, то бог весть где. Как вы знаете, у меня тоже есть мама и папа, сегодня я к ним уезжаю. Занятия окончены, все вы перешли в следующий класс.
При этих словах нас охватило теплое, радостное чувство – особенно меня и Цене Малея. Если бы югославское королевство устояло, нам обоим грозили бы плохие оценки.
– Ну, а это мы раздадим, – сказала учительница, кладя руку на тетради по чистописанию и прочее добро.
И тут же девочки ловко принялись раздавать наши поделки и тетради, лишь табели Мария вручала нам сама своей белой, пахнувшей мылом рукой и каждому говорила что-то задушевное.
Мне, например, она сказала:
– Звонко, Звонко, ты всегда был молодчиной, оставайся таким же, когда с тобой случится самое тяжкое.
(Эти слова, сказанные ею на прощание в 1941 году, я потом часто вспоминал.)
Я напрягал слух, желая услышать, что она говорит другим, и думаю сейчас, она каждому предрекла главное в его судьбе, даже то, что его сгубило.
Откуда у нее такой дар предвидения? Возможно, это проистекало оттого, что ее смерть тоже была близка. Она умерла, можно сказать, на пороге свободы, 1 мая 1945 года.
Раздав всем табели и предсказав судьбу, она обратилась к нам с последней своей просьбой – ей захотелось, чтобы мы спели словенский гимн, но не громко, а вполголоса, только для нее да четырех стен с потолком.
Но едва она взмахнула рукой, трое или четверо из нас, будто вырвавшиеся на свободу дикие звери, не запели – заорали во весь голос «Вперед, знамена Славы!»[10].
Думаю, в соседних со школой домах люди просто обмерли, услышав такое неистовое пение гимна, но тут же и сообразили, что это поют сорванцы, не просто ходившие в школу, а по пути еще лазавшие в чужие сады за грушами.








