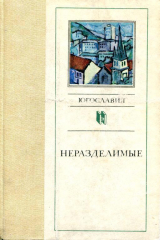
Текст книги "Неразделимые (Рассказы писателей Югославии)"
Автор книги: Славко Яневский
Соавторы: Леопольд Суходолчан,Мишко Кранец,Живко Еличич,Димитар Солев,Стево Дракулич,Векослав Калеб,Живко Чинго,Чамил Сиярич,Радован Зогович,Антоние Исакович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
– Нужно говорить «мама» и «папа», «отец», «папаша» или что-нибудь в этом роде, – поправила его Энн и принялась поучать: – Воспитанные люди не должны говорить, как в деревне. Мы ведь в городе живем…
В первую минуту он опешил, затем ответил мрачно:
– Мне кажется, тебе ничуть не интересно то, что я рассказываю. – Он обиженно усмехнулся. – А в грамматике я никогда не был силен. Словенскую грамматику мы раньше совсем не проходили, ну а воспитания я тоже нигде специально не получал, родители учили, что нужно со всеми держаться вежливо, а злыднем вообще никогда не надо быть…
На все это она твердо возразила:
– Что ж, рассказывай без грамматических правил, могу послушать даже о каких-то «стариках», если ты ничего другого не знаешь.
– С искусством я никогда дела не имел. Просто читал книги, словенские книги, которые старуха прятала от фашистов. Просто слушал музыку – мы все время крутили на старом граммофоне три пластинки, пока старики где-то не купили совсем уже ветхий радиоприемник, хрипевший так же, как и старый граммофон, только музыка была разная. А что касается картин, то на стенах у нас висели только фотографии. Зато однажды старик – когда мы с ним бродили по городу – затащил меня на выставку картин. Но его разочаровала уже входная плата, а картины – во всяком случае некоторые – еще больше. Понравились ему цветы, кое-какие пейзажи, «хотя здесь и не совсем так, как в жизни», – сказал он. Видели мы и несколько голых женщин. Разочарованный и раздосадованный, старик заговорил с каким-то человеком, который там околачивался, – скорее всего это был художник. «Что-то я не вижу тут ни одной девы Марии. Голые женщины, я думаю, не богородицы». – «Это не современно», – ответил тот. «А все-таки, – сказал старик, – неплохо было бы для нас, простых людей, нарисовать хоть какую-нибудь деву Марию, Христа, святого, святую. Цветы-то у нас и в саду есть, красивую местность я могу видеть из окна…» И когда мы потом шли домой, он грустно вздохнул: «Нет, это не для бедных людей… да еще так дорого!» Так мы и разделались с искусством. И для особого воспитания никогда не было времени, все передавалось по наследству из поколения в поколение, одни умели себя вести, другие были грубые и неотесанные. Но я не забыл и не забуду, что мои старики из-за меня день за днем рисковали жизнью, и, даже когда меня арестовали и посадили в тюрьму, они делали все ради моего спасения. И не будь они моими родителями, я и тогда был бы перед ними в вечном долгу.
– Мои родители не были героями, – сказала она насмешливо. – Нам пришлось жить в Штирии. Да и геройство не всякому дано…
– Это не геройство. Это любовь… они любили меня, – пробормотал Радо. – Они все готовы были для меня сделать… просто из любви…
– Не знаю, зачем ты тогда женился на мне, если их любовь для тебя так много значит, – поморщилась она.
– Пойми же, – попробовал он оправдаться и что-то ей объяснить. – Родители – это одно, жена – другое… становишься взрослым, женишься, это в порядке вещей. Они и тебя полюбят, когда увидят, – пообещал он.
– Ну зачем же, им тебя вполне хватает, ведь ты для них – все!
Несмотря на ее возражения, он повез ее к своим родителям, далеко на Крас, откуда открывался прекрасный вид на море и Триест.
Остановив машину, она долго смотрела на море, Триест, полукруглый залив.
– Жаль, – сказала она, – нет у нас заграничных паспортов. Я бы с радостью поехала в Триест, в Италию, куда угодно…
Он почувствовал, что она хотела сказать: лучше на край света, чем к твоим родителям. Но тогда Радо был еще без ума от своих стариков, хотя и влюбился в свою красивую компаративистку. Пришлось ей повернуть машину к его родному дому.
Дом был такой же, как все на Красе, – каменный, двухэтажный, крытый черепицей, на которую, чтобы не разворотил ветер, были положены еще каменные глыбы. Горячее красское солнце ярко освещало дом. Только вокруг был беспорядок, чему Радо сразу же нашел объяснение:
– Эх, старик сегодня опять не подмел перед домом!
Действительно, двор не был подметен, кроме того, всюду валялись разбросанные вещи. А у порога лежал поседевший, шелудивый пес Фигаро. Он грелся на солнце, изредка тявкая, когда его дразнили сорванцы-мальчишки или слишком близко подошедшая курица по ошибке клевала его в шелудивое ухо или в бровь. Он никогда ни на кого не бросался и лишь с ворчаньем ворочался на каменной плите, как и подобает старику.
Трудно сказать, что случилось на этот раз – то ли Энн заслонила ему солнце, то ли собака уловила ее недобрый взгляд, – только Фигаро вдруг зарычал и кинулся на нее. Радо строго на него прикрикнул, и он, поджав хвост, с рычанием попятился к стене.
– Проклятый пес! – воскликнула в ужасе поклонница запада и отскочила, но тут же пнула несчастного Фигаро ногой в грудь. Слова эти Энн произнесла нараспев, по-штирийски. – Я уезжаю, – решительно заявила она. – А ты возвращайся, когда захочешь. Ведь со мной ты не поедешь?
Ей хотелось уехать одной. Радо вынужден был долго унижаться и умолять ее, чтобы она осталась.
– Но этого пса вы должны прикончить! Я настаиваю!
Однако в тот день собаку никто не прикончил, поэтому собака угробила им вечер и вообще испортила всю встречу.
– Что делать, – сказал старик, когда они наедине с сыном заговорили о поседевшем, шелудивом пинчере Фигаро. – Ведь он попал к нам, когда тебя арестовали. Для нас он был единственной отрадой. А стоило в деревне появиться фашистам, он такой лай поднимал – не угомонишь. Теперь он старый, больной, запаршивел весь… Войко, здешний охотник, однажды увел его на веревке, чтобы пристрелить где-нибудь в кустах. Но старуха так плакала, что у меня сердце разрывалось, так бы и побежал вдогонку, вернул Фигаро назад. Да пока я раздумывал, пес вместе с веревкой был уже дома. Старуха обнимала его как ребенка… Мы и решили – пусть умрет от старости, как человек…
И добавил с горькой усмешкой:
– Знаешь, ведь мы со старухой совсем одни… почти всю жизнь одни…
Радо понял отца, у него защемило сердце. Но… у Радо была жена – интеллигентная, образованная, красивая, все восхищались ею, мужчины поглядывали на нее с вожделением. Испытывая болезненную ревность, он вынужден был все время быть начеку, чтобы ее кто-нибудь у него не увел. При всей своей самовлюбленности она не была бесчувственна к обожанию других.
«Вы, старики, меня поймете, – говорил он сам себе в отчаянии. – Вы всегда меня понимали, даже тогда, когда вас могли расстрелять из-за меня, так неужели сейчас… когда речь идет о старой, больной собаке…»
– Вы уж ее не обижайте, – попросил он родителей, когда они на какое-то время остались одни, имея в виду жену. – Ведь она хорошая… в сущности, хорошая женщина, правда, немного избалованная… единственный ребенок в семье, всегда ей во всем угождали. Многие мне завидуют.
И он грустно усмехнулся.
– Конечно, конечно, – закивал головой отец и взглянул на мать, затем снова на сына. – Как она красиво, нараспев, произносит по-штирийски «проклятый пес» – правда, старуха? – И прибавил со вздохом: – Главное, чтоб ты был доволен и счастлив. А мы уж как-нибудь. Ведь бывали и худшие времена, но ничего, обошлось. Верно, старуха?
– Обошлось, старик, слава богу, обойдется и сейчас, а почему бы и нет…
Однако утром перед отъездом Энн заявила мужу.
– Скажи этим своим старикам, если пес, такой облезлый и паршивый, останется у них и дальше, я больше не переступлю порога вашего дома.
– Ты так странно говоришь, дорогая, – «вашего»… это ведь и твой дом, твой и мой, наш общий…
– А зачем он мне? – огрызнулась она. – Чтобы приезжать и издали глядеть на море и Триест? И на паршивого, шелудивого пса?
Они на целый час задержались с отъездом из-за того, что Радо не мог собраться с духом, чтобы сказать родителям о ее требовании. Наконец он произнес нервной прерывистой скороговоркой:
– Думаю, Фигаро нужно пристрелить… старый он уже, чего доброго сбесится… Да и облезлый весь, шелудивый… Энн говорит, что больше сюда не приедет, пока он тут лежит и рычит… Что поделать…
Он беспомощно повел плечами и сморщился от душевных терзаний; жалкий и потерянный, простился он с родителями. А Энн только и сказала – как всегда нараспев – свое ханжеское «до свиданья, папа». И слегка махнула холеной рукой с длинными накрашенными ногтями.
Старый, поседевший, полуглухой, совсем запаршивевший Фигаро пролежал весь день на солнце, ни разу не тявкнул, не зарычал, даже есть не просил, словно чувствовал, что старики раздумывают о нем и решают его участь.
Долго думали они и решали. И лишь вечером, когда спала жара, мать сварила ужин и, налив черпак в миску несчастного пса, с любовью поставила перед ним еду. Ласково посмотрев на собаку, седую, шелудивую, она погладила ее по голове и спине, приговаривая:
– Ешь, ешь, Фигаро. Мы уж как-нибудь… все мы, старые, никому не нужны…
Чувствуя, что за ее спиной стоит муж, она, не оборачиваясь, добавила:
– Не убивай его, пока я жива. А потом…
– Потом… – повторил муж, подумав о чем-то неопределенном, и тут же, прищурившись, усмехнулся: – А как она красиво, по-штирийски певуче говорит: «проклятый пес»…
– Бедный Радо, – запричитала мать. – Красивая она, верно, красивая, но сердце-то какое холодное… я даже озябла возле нее. Боюсь, и он будет зябнуть. А это плохо.
Спустя долгое, долгое время, может быть, через полгода или еще позже Энн спохватилась и спросила мужа:
– Слушай, я все хотела тебя спросить – старики тебе что-нибудь пишут?
У Радо похолодело на сердце: сам он всегда произносил слово «старики» с любовью, с какой они и сами обращались друг к другу, а в ее устах это звучало холодно, отчужденно, пренебрежительно.
– Пишут, – ответил он сухо.
– Ну как они, пристрелили уже того шелудивого пса Фигаро или по какой там опере они его назвали?
– Не знаю. Скорее всего они и не подозревают, что есть такая опера. Отец пишет, что мать сломала ногу и было бы хорошо, если бы мы их проведали. А пес не упоминается. – Он выговорил это слово нараспев, на штирийский лад, как она, словно решил ее передразнить.
Казалось, компаративистка призадумалась. Но нет, это слишком утомительно и вообще ни к чему. Ответ у нее был уже готов, она лишь чуть помедлила, потом сказала:
– Так поезжай и проведай.
– Лучше бы вместе, вдвоем, – пробормотал он умоляюще и взглянул на нее: ему от всей души хотелось, чтобы все загладилось, чтобы жена подружилась с его родителями и старуха не думала, будто он со своей красавицей Энн несчастлив.
Ответ ему пришлось ждать добрых две недели, пока наконец Энн не пожелала проехаться на машине:
– Ты ведь сказал, что старуха сломала ногу? А что, если нам и вправду их навестить? Чтобы они не думали, будто ты не хочешь их видеть.
Так как машину вела Энн, они ехали вкруговую, то и дело останавливались и поэтому прибыли в деревню лишь вечером. Но и тут Энн кое-что придумала и ласково попросила мужа:
– Знаешь что, Радек? Старики наверняка едят сейчас свою мамалыгу. А мне ее совсем не хочется, сегодня особенно. Давай где-нибудь поужинаем? Ведь мы только введем их в расход, если приедем к ним голодные.
Он крепко сжал губы и, помолчав, превозмогая горечь, тихо сказал:
– Ну ладно, давай.
Получилось так, что они довольно поздно постучались в двери родительского дома, старуха уже собиралась ложиться спать.
– Ох, – разволновалась она. – А у нас и покормить вас нечем. Может, старик вам яички сварит?
– Не надо, – сказала компаративистка, – мы по дороге поужинали. Вы же не знали, что мы приедем, как же вы могли что-то для нас приготовить?
Затем она обратилась к муженечку – при людях она часто называла его муженечком:
– Ох, Радек, я так устала! Я бы сейчас легла, а вы еще поговорите. Поболтайте вволю.
Она собралась было улыбнуться, но вдруг вспомнила:
– Ах, скажите же – как ваша нога? Мы никак, ну никак не могли приехать раньше. И потом в таких вещах может помочь только врач, не правда ли? Ну, покойной ночи.
Она взялась уже за дверную ручку, как вдруг «вспомнила», то есть попыталась сделать вид, будто вспомнила просто случайно:
– А что тот пес – он еще у вас? Я его что-то не вижу…
Старики переглянулись и мельком посмотрели на сына, который сидел как на иголках. Затем отец сказал:
– Жив еще, жив, бедняга…
– И все такой же облезлый и паршивый?
Снова старики взглянули друг на друга и усмехнулись. А отец ответил:
– Все такой же паршивый… одни болячки подживут, появятся новые. Охотник Войко уже трижды брал его с собой, чтоб пристрелить, четвертый раз, говорит, не возьму, он мне в охоте несчастье приносит. Первый раз Фигаро сам вырвался и вернулся домой с веревкой на шее, а два раза его мальчишки вызволяли. Им бы только подразнить Войко, а Фигаро они любят, играют с ним; он рычит на них, иногда даже огрызнется, если уж очень надоедят, но не укусит, нет, такого с ним никогда не бывает.
– Но я же сказала – вы должны прикончить его. Больше я сюда не приеду. Видеть не могу таких облезлых собак! – и она сердито ушла в комнату мужа, которая всегда была прибрана в ожидании его приезда.
И как нарочно, едва она вышла, кто-то заскребся в дверь. Несчастный шелудивый Фигаро просился в кухню.
– Открой ему, – сказала старуха, но старику и говорить не надо было – он уже открывал двери, впуская бедного Фигаро в дом. Пес посмотрел на них, словно хотел пожелать им спокойной ночи, обнюхал Радо, узнал его и, завиляв хвостом, прижался к его ноге, и Радо не мог не погладить Фигаро. Затем пес пошел к плите, лег на свое место и опустил голову на пол, только глаза его следили за людьми, и время от времени он помахивал хвостом, словно соглашаясь с тем, что говорилось. Таким он и был весь вечер – тихим, спокойным, никому не в тягость.
Старику показалось, что следует хоть что-то сказать обо всем этом, и он начал, явно имея в виду невестку:
– Она все так же славно, по-штирийски певуче выговаривает слово «пес»… – и он грустно улыбнулся.
– Да, очень красиво, очень, – подтвердила старуха с такой же грустной улыбкой.
А старик продолжал:
– Что поделать… хоть кто-то у нас есть. Ведь он потихоньку умирает, сам себе уже стал в тягость, а умереть не может.
Они сказали о собаке «умирает», и сын усмехнулся еще более горько, чем старики.
Прошло еще два года – без особых перемен. Несчастный шелудивый пес почти ослеп, стал беззубым, а может, зубы у него болели, – во всяком случае есть он мог только суп или молоко. А что поделаешь, если и охотник Войко не хотел больше с ним связываться. «Сам подохнет», – сказал он, из суеверья не решаясь четвертый раз отводить его «куда-нибудь в кусты», чтобы пристрелить. Теперь он даже боялся ненароком попасть в лежащего пса – ему стало жаль собаку, так упрямо цеплявшуюся за жизнь. И деревенские сорванцы зорко следили за Фигаро, ведь они дважды его спасали, а один раз он ухитрился убежать сам, и мальчишкам он казался уже в некотором роде их собственностью. Они и имя ему изменили – он больше не был Фигаро. Ну какой из него Фигаро! Он стал просто Псом или даже Проклятым Псом. Бедняга изредка еще ворчал, когда к нему приближалась тень. Ничего другого он уже не видел.
И все же он жил и жил, о чем старик сообщал сыну, отвечая на его письмо, в котором тот осторожно справлялся о Фигаро:
«Живет себе и живет, не хочет умирать. Только имя ему мальчишки переменили – теперь он просто Пес или Проклятый Пес…»
И он продолжал жить назло прекрасной компаративистке.
Иначе обстояли дела со старухой. Она заболела. И начала быстро сдавать, отец отвез ее к врачу, тот после осмотра направил ее в Любляну в больницу – «на обследование»; название отделения, куда ее собирались положить, ни она, ни он, как ни старались, выговорить не могли.
Злополучное название отделения, которое никакими силами не выговоришь, само по себе не так и важно. Старики и без того догадались, что речь идет о раке. А рак означал неминуемую смерть. И все же их обоюдная внимательность и почти сорокалетняя совместная жизнь не позволяли им говорить о смерти, они только взялись приводить в порядок дела. Особенно старуха, она то и дело отдавала мужу распоряжения по хозяйству. И когда он обеспокоенно сказал: «Да ты и сама все сделаешь, как выйдешь из больницы», – она махнула рукой и ответила: «Не надо… я же знаю, что и как. Когда вернешься домой, смотри, чтобы все было в порядке».
В Любляне отец вспомнил о племяннике Борисе, который навещал их, когда еще был студентом, и позже, когда работал. Это был веселый, здоровый парень, любивший рассказывать что-нибудь смешное.
– Тетку твою я отвез в больницу, – сказал ему старик, когда разыскал его. – Название отделения не выговоришь, такое оно чудно́е. Но ты ее найдешь, если будет время и охота. У нее, у бедняги, верно, рак, уж я это чую. Понимаешь, что бывает с такими больными… – и дядя усмехнулся с горечью и глубокой печалью. – Ты знаешь столько веселых историй – припомни что-нибудь для нее.
– Ладно, дядя, я к ней схожу. Уж мы с ней как-нибудь… ты не беспокойся.
– Хоть бы, хоть бы… ты понимаешь…
В Любляне же старик написал сыну, что мать в больнице и, видимо, дела ее плохи. Лежит она в отделении, название которого он ни выговорить, ни написать не может, а попросту, по-нашему болезнь ее называется рак. Найти ее не трудно. «Она очень хочет тебя видеть».
Радо получил письмо после того, как Энн уже его прочитала.
– Нужно было бы нам мать навестить, – проговорил он робко и как-то заискивающе. Он сказал «нужно было бы», а не «нужно» или «мы должны».
Энн раздумывала, перебирая в уме какие-то свои планы, и наконец сказала:
– В воскресенье ничего не выйдет. Мы же договорились, что поедем в Загреб, и откладывать не будем. Ведь не так уж ей плохо… старик преувеличивает. В следующее воскресенье можем поехать в Гореньску и по пути завернуть к ней.
От своих решений Энн никогда не отказывалась и никогда их не меняла.
Но в «следующее» воскресенье она сделала все, чтобы попасть в больницу лишь за полчаса до окончания посетительского времени. Не станет же она торопиться и портить обед в ресторане, не правда ли? Она купила немного апельсинов, немного печенья и букетик цветов. «Чтобы не прийти с пустыми руками, – сказала она. – Ведь, конечно же, она там не голодная…»
Старуха была не одна. Она сидела на своей койке, а рядом на стуле восседал Борис. Лица соседок по палате были обращены к ним: парень рассказывал что-то веселое, все смеялись, одни в полный голос, другие тихонько. А на столике у матери стояла бутылка терана – «своего, домашнего, – как утверждал Борис. – Прямо-таки источает дух красской землицы». Матери очень понравилось, как он сказал.
– Что я говорила, – сдерживая злость, прошипела Энн на ухо мужу, когда они нашли нужную палату и остановились в дверях. – А ты тут же – рак, умрет…
К счастью, никто их не слышал, только Радо сделался еще более жалким и едва не рассердился на мать и отца, на обоих сразу за то, что они его напугали. Энн, конечно, права.
– О, – воскликнул Борис, увидев Радо и сообразив, что стоявшая рядом с ним женщина – его жена. – Гости! – И он бросился за стульями, которые нашел тут же в палате и поставил возле теткиной койки. – Пожалуйста, пожалуйста, садитесь.
– Ах, спасибо, мы постоим, – ответила Энн со своей очаровательной улыбкой, но на этот раз она была деланной, вымученной. – Вероятно, время посещений уже истекает. Мы опоздали – недостаток, от которого никак не избавишься… Я принесла немного апельсинчиков, а вот печеньице… вам ведь можно? И цветы.
Она подошла к тумбочке, положила на нее принесенное и снова отошла к мужу, наполовину даже спряталась за него.
– Разрешите предложить стаканчик вина? Красский теран, уродился на нашей земле. У нас тут всего один стакан, я сейчас его вымою, – и Борис направился к ванной. Но Энн его остановила.
– Ах, большое спасибо! Я не пью. И Радо тоже не будет – он за рулем. Еще авария какая случится.
– Правда, Борис, спасибо, – подтвердил Радо. Он вынужден был подтвердить, хотя его еще раз поразило, как Энн умеет красиво и убедительно лгать – ведь в компании она может пить вино целый вечер, а что касается машины, то она давно уже не подпускает его к баранке.
– Что ж, выпьем сами, верно, тетя? – сказал Борис и налил сначала ей, а когда она выпила, и себе. – В больницах не любят этого лекарства, мне пришлось принести его тайком. А нам оно напоминает Крас, верно, тетя? – продолжал весело болтать Борис.
– Я так испугалась, – сказала Энн, и всем могло показаться, что она говорит искренне – это у нее всегда прекрасно получалось, – я испугалась, что вам плохо. А сейчас вижу – вы хорошо выглядите, ну право же, хорошо, – проговорила она нараспев.
– В самом деле, – согласился Радо, испытывая мучительное замешательство, и добавил, чтобы хоть что-то сказать: – Отец меня совсем перепугал. А что говорят врачи?
Мать переглянулась с племянником, потом ответила:
– Да что они говорят? Обследуют, – начала она бодро, будто все действительно было в полном порядке. – Они еще не знают, но ничего плохого нет, так они сказали. Пробуду здесь день-другой, а то и целую неделю. А может, и целый месяц, верно, Борис?
– Может, и так, тетя, – подхватил племянник. – Сейчас все обследования делают по науке, в лабораториях. И это хорошо.
Женщины на койках отвернулись, будто отстраняясь от такого разговора: эти вечные вопросы «что говорят врачи?», когда и без того известно, как обстоят дела, и когда каждая из них про себя надеется, что она… и каждая судорожно цепляется за жалкие крохи оставшейся жизни. Тем более что врач никогда и не скажет больному правду, если он даже совсем плох. К чему же тогда эти постоянные вопросы и улыбочки: «А что говорят врачи…»
– Ну ладно, Борис, рассказывай, – и, обернувшись к племяннику, мать остановила на нем взгляд, полностью отрешившись от сына и невестки, словно уже попрощалась с ними. Так оно и было, и произошло это, может быть, еще раньше, но поняла она все лишь сейчас, и ей стало казаться, будто Радо, которого она когда-то беспредельно любила, уходит от нее со своей злополучной Энн все дальше и дальше. Оба они удаляются от нее вместе со своими апельсинчиками, печеньицем, цветочками.
– Выпьем сначала еще по стаканчику, тетя. Нас ведь могут в любую минуту выпроводить, время посещений кончается.
Он налил тетке, которая и вправду взялась за стакан и опорожнила его, затем Борис налил себе, тоже выпил и спрятал бутылку в свой портфель, а тем временем начал рассказывать новую историю:
– Не знаю, может, вы уже слыхали про черногорцев…
И он невольно рассмеялся, словно приглашая посмеяться и своих слушательниц, особенно тетку.
И тетка с готовностью улыбнулась.
«Ведь у нее рак», – ужаснулась Энн; в ее представлении рак означал некое загнивание, распад тканей. Сразу же в сознании у нее возник образ паршивого, облезлого пса Фигаро… может быть, и у него рак. А мать улыбается, даже смеется, слушая байки племянника и не обращая внимания на сына – ей интереснее остроты этого шумного парня, его шуточки. И женщины снова поворачиваются к постели матери, приготовляясь слушать, словно все они собрались тут на веселое чаепитие, а парень угощает их тераном, «источающим дух родной красской землицы». Энн видела, что он спрятал в портфель две пустые бутылки, очевидно, он угощал вином и других и пил с ними, очевидно, они забыли о смерти, которая уже их караулит, наверняка караулит хотя бы кое-кого из них.
– Но ведь это ужасно! – неожиданно застонала, почти закричала Энн, содрогаясь. – И эти пошлые шутки… Ужасно!
Она схватила за руку Радо и потянула его за собой:
– Пошли наконец. Ты же видишь, мы ей не нужны. Нет, не нужны… Я принесла ей и апельсины, и печенье, и цветы, а она едва взглянула на них, ни к чему не притронулась, «спасибо» сказала просто так, по привычке, из вежливости… А вино пьет… две бутылки опорожнили… ужасно!
Радо поглядывает на часы. В душе его что-то кричит, отчаянно кричит от мучительного сознания, будто Борис со своим тераном, «источающим дух родной красской землицы», навсегда вытеснил его из материнского сердца, закрыл ему все пути к матери. Он поглядывает на часы и решает как быть. Он вечно будет решать и вечно – в пользу Энн. И вот он с отчаяньем в сердце уже промямлил, обращаясь к матери:
– Мы ведь вам не нужны… уже три часа… Вон идет санитарка. Но мы еще приедем, если вы пробудете здесь какое-то время. Только ведь врач, кажется, сказал, что скоро выпишет вас? Нам нужно кое-кого навестить, а потом домой, утром мне на службу…
Мать кивнула им, но руки не подала. Может быть, они и не захотели бы прощаться с ней за руку?
Когда они вышли, Энн закрыла на миг глаза. Снова ей примерещился облезлый, паршивый пес, хотя она до конца не сознавала, какая связь между ним и посещением свекрови.
– И это называется – она больна! – сказала Энн с осуждением, но кого она осуждает, было не совсем ясно. – Пьет вино, слушает пошлые шутки. – И грубо добавила, обратившись к Радо: – Если ты когда-нибудь захочешь навестить мать… если, конечно, она вообще больна, можешь к ней съездить. Но я сюда больше не приеду и не смей меня заставлять!
Нет, Радо не станет ее заставлять… может быть, он и сам больше не поедет к матери в больницу. Ибо и он в глубине души разочарован, хотя и не отдает себе отчета, к чему относится его разочарование – к матери с ее племянником и тераном, «источающим дух родной красской землицы», или к «пошлым» шуткам, которые мать и окружающие ее женщины охотно слушают, стремясь забыть о своей беде и о самом страшном, что их ожидает.
– Удивительно, – сказала мать, когда стал прощаться и Борис, держа портфель под мышкой, – удивительно, что она не спросила про пса. Так певуче, по-штирийски произносит она это слово, красиво, приятно. – И мать горько усмехнулась, добавив с грустью: – Она никогда не научится говорить иначе. И Радек счастлив, что может ее любить. Хорошо, что тут нет старика, наверняка бы расстроился… он ведь его очень любил…
– Отец сына или сын отца?
– Ох, какой ты противный, Борис!
Затем Борис начал философствовать:
– Каждый кого-нибудь любит, кого-нибудь или что-нибудь. В этом главная беда. Но иначе невозможно жить – все становится пустым и бессмысленным…
– Да, невозможно, – закивала головой мать. – В том-то и дело, – нужно любить кого-то или что-то… все равно… Но ты ко мне еще как-нибудь загляни, может быть, завтра я еще не умру. Верно, Борис?
– Надеюсь, тетя, – засмеялся племянник. – Я приду с новыми байками. И с тераном.
После этого они оба тихонько засмеялись и пожали друг другу руки.
Скорее всего матери уже нет в живых, вероятно, нет в живых и проклятого пса. Возможно, жив еще отец, «старик», скорее всего жив и Борис. Наверняка живет себе и поживает Энн, ибо Энн в чем-то бессмертна. Бессмертен и Радо. Иначе Энн не могла бы существовать.
Перевод со словенского М. Рыжовой.
ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЧ
Д. Михаилович родился в 1930 году в Чуприи (Сербия). Прозаик. Драматург. Опубликовал сборники рассказов «Спокойной ночи, Фред» (1967), «Поймай падучую звезду» (1983), романы «Когда цвели тыквы» (1968), «Венок Петрии» (1975), роман «Люди в сапогах» (1983), несколько пьес.
На русском языке вышел роман Д. Михаиловича «Венок Петрии» (1978).
Рассказ «Чья это душа здесь бродит» взят из сборника «Поймай падучую звезду».

ЧЬЯ ЭТО ДУША ЗДЕСЬ БРОДИТ
1
Они уже легли, когда я пришел прошлый раз. А по тому, как встретили меня собаки, ничего хорошего ждать не приходилось.
Я знал, как было бы опасно, если бы Дияне и Мусе показалось, что я тайком пробираюсь во двор, а спустя год после последней встречи у меня не было уверенности, что собаки меня узнают. Поэтому, перекинув руку через невысокую калитку и отодвинув волчок, я вошел во двор и, закрывая за собой калитку, предусмотрительно позвал их.
Они немедленно отозвались из глубины темного двора и с лаем кинулись к калитке.
– Муса! Дияна! – крикнул я им навстречу. – Здравствуй, Муса! Здравствуй, Дияна!
Двухгодовалый Муса, крупный, головастый, почти черный лохматый пес, подбежал первым и быстро успокоился. При восковом свете лампочки на доме было видно, что он машет пушистым хвостом и пригибает голову в знак того, что узнал меня. Он подошел ближе, обнюхал мне ноги, и я погладил его, не снимая на всякий случай перчатки с руки. Это привело его в полный восторг, и, ласкаясь, он начал увиваться вокруг меня и тереться об мои колени.
Однако сука, низкая и злобная, с золотыми переливами на серой спине, остановилась, напружинив ноги, в двух метрах от меня, подозрительно приглядываясь ко мне. Потом шерсть на ее холке неожиданно вздыбилась, она ощерила узкую пасть с мелкими острыми резцами и сердито залаяла.
– Ты что, Дияна? – спросил я, лаская кобеля.
Ее это между тем совершенно разъярило, и, старшая по возрасту и полу, она внезапно набросилась на пса. Толкнула его грудью в бок так, что он свалился, щелкнула зубами возле моей руки и, осев на задние лапы, словно приготовилась к прыжку, стала оттеснять меня назад, к калитке.
– Дияна, пошла вон! – крикнул я, отступая. – Ты что, дура?
Муса смущенно заюлил вокруг нее. Будто хотел ей что-то объяснить, взлаивал, подняв морду, и, крутя хвостом, как флагом, загораживал меня от суки. Но она по-прежнему злобно наскакивала на него, все больше оттесняя меня к калитке.
– Пошла! Пошла, Дияна! – кричал я почти что в панике. Потом стал звать: – Дядя! Дядя Рада! Тетя Перса!
Под горящей лампочкой скрипнула дверь. В брюках и куртке от пижамы, в накинутом на плечи пальто появился мой дядя Рада.
– Кто здесь? – крикнул он. – Пошла, Дияна!
– Да я! Эта дура готова меня разорвать.
Дядя торопливо сошел со ступенек.
– Пошла прочь, Дияна! На место! Неужто не узнала, дура?
Дияна тихо заскулила и, упрямая, строптивая, отошла на несколько шагов. Затем присела, с любопытством оглядывая меня умными желтыми глазами. И только когда в дверях показалась тетка и мы начали здороваться, она, не меняя позы, замахала хвостом. Она мела им посыпанную щебенкой землю будто щеткой для сметания пыли.
2
Они снова оделись, тетушка Перса разворошила огонь в плите и поставила разогревать большую кастрюлю.
– Проголодался, поди, – сказала она и пошла в погреб за брынзой и соленьями.
Дядя Рада воспользовался ее уходом, полез в буфет за ракией. Быстро опрокинул рюмку по дороге к столу и протянул мне.
– На-ка, выпей. Чтоб согреться. Как дела в Белграде?
Мне не хотелось говорить о своих делах, да и пришел я не за тем. По городу ходили слухи, будто я стал известным математиком, хотя к математике я не имел никакого отношения и не совсем понимал смысла этой похвалы. Но видел, что дядя придает ей большое значение.
– Хорошо, хорошо, – ответил я. – Очень хорошо.
Вернулась тетушка с разной снедью и, поставив тарелки на стол, села напротив меня.








