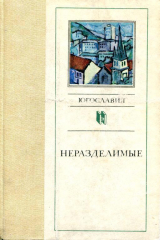
Текст книги "Неразделимые (Рассказы писателей Югославии)"
Автор книги: Славко Яневский
Соавторы: Леопольд Суходолчан,Мишко Кранец,Живко Еличич,Димитар Солев,Стево Дракулич,Векослав Калеб,Живко Чинго,Чамил Сиярич,Радован Зогович,Антоние Исакович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Не раз подавались кофе и ракия. Дважды приносил почтальон телеграммы с выражением соболезнования. Звонили в газету, в похоронное бюро и в цветочную лавку – заказывали венки. Приходил районный инспектор – оформил разрешение на похороны, но даже это не прошло гладко: утром, в ванной, Бошко Катич, падая, ударился головой о край умывальника, рассек висок, так что нам со светловолосой соседкой пришлось подтверждать, что у покойного было больное сердце; офицер этого без разрешения начальства сделать не мог. Получив еще несколько поручений, я собрался уходить: дома ждали неотложные дела.
Вдова проводила меня до дверей, еще раз предложив заглянуть в комнату, где лежал покойник – «Будто спит!». Я уклонился, сказав, что хотел бы сохранить его в памяти живым, и она тут же прониклась моими чувствами: оказывается, и по этим словам видно, какой я верный друг; она никогда не забудет, что в такую минуту я поддержал ее, жертвуя своим временем, к тому же в субботу, когда каждый имеет право на отдых. На пороге она вновь повисла на мне; я вынужден был прислониться к стене и набрать в легкие побольше воздуха, чтоб не задохнуться.
До обеда мне звонили еще несколько раз. Да и после обеда тоже – едва я прилег отдохнуть. Офицер, организатор погребальной церемонии, тоном, не допускающим возражений, отдавал приказы и проверял выполнение заданий; особое внимание следовало обратить на то, чтобы в сообщении о кончине и на траурных лентах не забыли написать, что усопший был офицером запаса. Он спрашивал меня о наградах, которых был удостоен Бошко Катич: их надлежало нести перед гробом на подушечках, а вдова, сраженная бедой, не могла вспомнить, где они. Она и сама звонила – просила послать за фотографией Бошко тех времен, когда они познакомились. «Это произведет такое впечатление! Он был видный из себя мужчина! – уверяла она. – Знаете, мы были так привязаны друг к другу, ведь я и улицу без него не переходила! Лишь сознание, что есть на свете такие люди, как вы, придает мне сил, а то б я просто руки на себя наложила».
Хоронили на следующий день. Спозаранку она позвонила и попросила быть с ней рядом у тела и в похоронной процессии, потому что близких родственников у нее нет, а идти одной – неудобно. И покойный Бошко – выгляни он из гроба – улыбнулся бы светлой улыбкой, увидев подле нее одного из лучших своих друзей, и со спокойной душой лег бы в могилу, зная, что и впредь у вдовы найдутся защитники. «Помните, – прибавила она, – как вы тогда, у ворот, о его здоровье спросили? И потом сразу отозвались, когда я к вам за помощью обратилась! Такое не забывается. И если я снова вас беспокою, это только подтверждает мою признательность, и в будущем, надеюсь, будут поводы не раз ее выразить».
И впрямь – поводов хватало. Не могла же она, в самом деле, предположить, что беда захватит ее врасплох, в дни, когда магазины закрыты, а поскольку подобающей одежды – шляпы под темной вуалью, черных перчаток, жакета – у нее не оказалось, моя жена, которая как раз сняла траур по своей матери, послала ей все, что у нее было и что вдова, Зорка Катич, женщина крупнее ее и выше, могла натянуть на себя.
– Были б вы пополнее! Платье коротковато и жмет, зато жакет подойдет, если подогнать, конечно, – сообщала она в трубку; в этом-то куцем жакете и прочем траурном реквизите она и стояла у смертного ложа мужа. Опираясь на мою руку, она шла за телом; с рыданьями обняла меня, лишь только я закончил краткое надгробное слово, которое было возложено на меня, и едва не столкнула в могилу, когда комья земли ударили о крышку гроба. «Спасибо, спасибо, друг!» – шептала она в самое ухо, поливая меня слезами, а потом, когда взвод солдат, приведенный на кладбище отставным офицером, дал залп в честь покойного, взвизгнула и упала мне на грудь, потеряв сознание.
Я на такси отвез ее домой, провел вечер все в той же комнате и в той же компании, и каждому вновь прибывшему вдова, упорно державшаяся рядом, представляла меня «как лучшего друга Бошко, который поддержал ее в беде, чего она никогда не забудет». Допоздна я не мог уйти и попал домой только глубокой ночью, когда воскресный день уже истек.
Пришлось принять снотворное, но едва сон стал брать свое, телефонный звонок поднял меня с постели. Люди только что разошлись, докладывала вдова, теперь она совершенно одна в бескрайней пустыне, окружающей ее после смерти Бошко; посоветовав ей успокоиться и попытаться уснуть, я узнал, что она не надеется пережить ночь, и я как верный друг, быть может, и ее помяну добрым словом, если ей не суждено будет дождаться рассвета.
Наутро я не стал проверять, жива ли она, поскольку был уверен, что с ней ничего не произошло. Я оплатил несколько внушительных счетов, присланных мне из цветочного магазина и магазина похоронных принадлежностей; она же не упустила случая упрекнуть меня: наверное, я уже забыл, бросил ее, списал со счетов, раз целый день не звоню и не спрашиваю, как она. Впрочем, она не слишком обижена и великодушно прощает мне мой промах. Другу, который так проявил себя в страшнейшей из бед, в роковой для нее час, все прощается заранее, изрекла она и еще долго держала меня у аппарата.
Вскоре я снова занимался ее делами: она хотела получать пенсию Бошко – в память о нем, а не потому, что его пенсия была больше ее собственной. Она имела на это право, и добиться в соответствующих инстанциях положительного решения вопроса не составляло труда, хотя улаживание формальностей – даже и через знакомых чиновников – отняло порядком времени. Едва я покончил с этим, она попросила помощи в деле посложнее: из-за боязни открытого пространства она не могла переходить улицу самостоятельно и в свое время выхлопотала себе на этом основании пенсию по инвалидности. Когда был жив Бошко, он сопровождал ее повсюду и приносил в дом все необходимое. Но как быть теперь, когда его больше нет? Ей так неловко вновь меня тревожить, но после всего, что я уже для нее сделал, она считает меня самым близким своим другом, так что – обратись она к другому – я был бы вправе обвинить ее в предательстве.
Нельзя ли сделать так, – спрашивала она, – чтобы служба здравоохранения или, скажем, социального обеспечения выделила ей человека или, на худой конец, какие-то дополнительные денежные средства, позволившие бы ей платить тем, кто приносит ей продукты и газеты, выводит из дому и помогает перейти улицу. Не может же она еще и этим обременять соседей, которые, впрочем, охотно помогали ей до сих пор, или меня, с моей неизменной самоотверженностью.
Выполнить это желание было куда труднее, а то и вовсе невозможно. И когда я опять обратился к своим знакомым, они, уже заподозрив невесть что, поинтересовались, что это за вдовушка, которую я так рьяно опекаю. Я объяснил, о ком речь и почему, собственно, я занимаюсь ее делами, и мой приятель, заведующий отделом, предостерег меня:
– Вы еще с ней хлебнете, помяните мое слово. Знаете, во время войны мне случилось однажды идти рядом с колонной, которая несла раненых. Какой-то человек попросил меня подержать носилки, пока он поправит обмотки. Я взялся за носилки, он пригнулся, мы прошли вперед, а его и след простыл. Бросить носилки я не мог, это было бы не только бесчеловечно, но и, по законам военного времени, преступно. И тащить бы мне их до конца войны, потому что никто не желал меня сменить, если б несчастный раненый не умер, когда мы взобрались на гору.
Казалось, она подслушивала нас.
– Не оставите же вы меня одну, как смертельно раненного на поле боя, – сказала она, объявившись в очередной раз. – Не убьете же во мне последние светлые чувства – веру в прочность дружеских уз.
Она искренне полагала, что в ее просьбе нет ничего особенного и что все быстро уладится, стоит мне взяться за дело и использовать свои связи.
– У вас горит свет? – спросила она, позвонив ближе к вечеру, когда стало смеркаться.
В ее квартире кромешная тьма. Ни чай вскипятить, ни письмо дописать. То ли какая мелкая поломка у нее, то ли ток отключили по всему району? Не мог бы я выяснить, в чем там дело, или прислать монтера? Монтера мне найти не удалось и пришлось отправляться самому.
У соседей свет был. Оказалось, что после смерти мужа Зорка Катич не оплачивала приходившие счета за электроэнергию, и поэтому утром в квартире отключили ток. Теперь я должен был тратить время, унижаться у конторских окошек и, главное, погасить задолженность; вдова не соизволила даже поинтересоваться суммой своего долга.
– Откуда мне знать, что и за этим надо следить? Это всегда делал Бошко! Откровенно говоря, я не понимаю, как можно так поступать с бедной, беспомощной вдовой! Как это некрасиво, как неразумно! Счастье еще, что у меня есть друг, который разобрался в том, что они там напутали. Иначе сидеть бы мне по сей день во мраке.
Были и другие «такие же пустяки» – я и сам называл их пустяками, отбиваясь от ее благодарностей. Я приводил стекольщика, когда у нее ветром разбило окно, мастера, когда испортился телевизор и нужно было поставить антенну, а однажды она разбудила меня в полночь, долго извинялась, что, быть может, нарушила мой сон, и попросила назвать «литературный термин из пяти букв», первая «с», последняя «т», без которого не могла решить кроссворд в последнем номере газеты и уснуть со спокойной душой.
Меня еще и пристыдили за то, что, сонный, я не сразу сообразил, о чем речь:
– Знаете, вы меня разочаровали. Признаться, я была лучшего мнения о вашем образовании. Какой же вы журналист и писатель, если не способны ответить даже на простейшие вопросы бедной, беспомощной вдовы?
Вообще мало-помалу причин для упреков находилось все больше, и она выговаривала мне все решительней и резче.
– Как же вы, будучи другом дома и коллегой Бошко, с таким равнодушием относитесь к невзгодам его близких? – возмутилась она, узнав, что, вопреки всем моим стараниям, вопрос о надбавке к инвалидной пенсии пока не решен. И почему, несмотря на заслуги ее покойного мужа, на медицинские справки о нарушениях в ее психике ей до сих пор не выделена лучшая, в более спокойном районе квартира, в то время как такие квартиры сулят – это не секрет! – и гораздо менее нуждающимся лицам, в том числе и кое-кому из коллег Бошко, ничем не проявивших себя и проживающих на той же улице, что и она?
Это был уже почти открытый выпад против меня и удобный случай рассердиться не на шутку, но не прошло и нескольких дней, как она появилась в моем доме, сияя улыбкой, бодрая, нарядная, благоухающая, словно только что из парикмахерской, и положила передо мной увесистую кипу бумаг, перевязанную бельевой веревкой.
– Литературное наследие Бошко, – пояснила она. – Начинали мы, знаете ли, одновременно, еще молодоженами, в провинции, тогда мы оба работали в школе. Он издал книжечку стихов, а меня убедил в том, что два писателя на семью – много. И хотя он занимался журналистикой, веру в свой писательский дар не терял и вечно записывал что-то в эти тетрадки и блокноты. Вот ведь и вы на похоронах отдали дань его способностям, а сами до сих пор не проявили ни интереса к его творчеству, ни желания заглянуть в его бумаги. Почему?
Она нависла над столом, опустив ладонь на принесенный сверток и глядя на меня искоса, вопрошающе, недоверчиво; так судебный следователь, приглядываясь к подследственному, кладет руку на материалы дела.
– Не завидуете же вы покойнику? И не ждете, что их просмотрит и приведет в порядок одинокая женщина, которая, кстати, не слишком и разбирается в таких вещах? К счастью, я не мелочна и не злопамятна, великодушно вам прощаю и – вот, пожалуйста, – награждаю вас правом первым, даже раньше меня самой прочитать то, что осталось после Бошко. Часть, видимо, можно дать в газету или в журнал, а все, достойное включения в книгу, отредактируйте и расположите так, чтобы в самом выгодном свете представить читателям. И хорошо бы со всем этим не тянуть, не то, боюсь, и эта моя просьба разделит судьбу остальных.
Я действительно делал все возможное и скоро известил вдову о том, что добился для нее новой квартиры. Более того, ей предложили несколько вариантов, оставалось только выбрать. Что касается провожатого, этот вопрос она, в чем я вскоре убедился, решила своими силами, в кратчайшие сроки и, надо думать, наилучшим образом. Однажды я увидел ее на Теразиях[60]: в светлом, легком платье, чуть похудевшая и словно бы помолодевшая, она быстро и уверенно переходила улицу в сопровождении молодого высокого брюнета – и, к слову сказать, в самом оживленном и опасном месте, где переход запрещен. Не исключено, что это был сын кого-то из соседей или оказавшийся под рукой дальний родственник – делать преждевременные, необоснованные выводы мне не хотелось. Сам же я проводил свои свободные, послеобеденные часы (в которые любил, бывало, вздремнуть), листая и просматривая истрепанные, выцветшие, кое-где в пятнах плесени страницы старых тетрадей и блокнотов, заключавших в себе полное собрание сочинений Бошко Катича, журналиста и писателя, пока не уверился: ничего стоящего в них нет. Кроме тонкой книжечки лирики, изданной им когда-то на собственные деньги, а также множества начатых, но так и не дописанных статей и очерков, я обнаружил там только несколько корявых стихотворных переводов с немецкого, который Катич преподавал, когда работал в гимназии.
Было грустно. Целая жизнь или, по крайней мере, важная ее часть со всеми своими мечтами и надеждами лежала передо мной в пожелтевших, ветхих, допотопных папках, перевязанных прозаической бельевой веревкой. По-человечески поняв драму Бошко Катича, я выбрал два небольших фрагмента и, по возможности, доработал переводы, намереваясь опубликовать где-нибудь хоть это немногое, а остальное вернул вдове.
Она уже довольно долго мной не интересовалась, во всяком случае – о рукописях не напоминала. Пришла, правда, открытка из Словении: привет с озера, «у которого так прекрасно отдыхать», напоминание о делах, известий о которых она ждет, и маленькая просьба: не мог бы я заглянуть в ее подъезд, взять из ящика накопившуюся почту и сохранить до ее возвращения. Мол, от меня у нее нет тайн, одному мне она доверяет безоговорочно. А если там окажутся еще и счета – за телефон, свет или квартиру, их, конечно же, можно оплатить. Заранее поблагодарив, она подписалась:
«С надеждой на лучшие дни – Ваша неутешная Зорица Катич».
Осенью я встретил ее на улице. На этот раз она была даже без темных очков, которые – как своеобразный символ скорби – носила после смерти Бошко Катича. И открытое пространство уже ничуть ее не страшило. В соломенной шляпке, украшенной по полям алой, спускающейся к щеке лентой, с прекрасной сумкой из блестящей крокодиловой кожи под мышкой, она шагала уверенно, почти весело и издалека помахала мне рукой.
– Меня два месяца не было в городе, отдохнула великолепно! Все расскажу при следующей встрече. Спешу: у меня свидание в «Касино», а я уже опоздала. А вы, гуляка, сделали хоть что-нибудь из того, о чем я вас просила? В бумаги покойного Бошко, разумеется, даже не заглянули?
– Как не заглянул? Я же вернул вам их еще до вашего отъезда!
– Вернули? Разве? Ужасно, если они потерялись! В этих папках все, что им создано, и с некоторыми из этих своих записок он не расставался даже в тяжелейших обстоятельствах военного времени.
Я чуть было не сказал «А жаль!», да и кое-что покрепче рвалось с языка. Но я сдержался, смолчал – потому что и впрямь испугался. А вдруг она не найдет сверток и объявит всему свету, что по моей вине утеряно, погибло литературное наследие Бошко, содержавшее и неопубликованные произведения исключительной художественной ценности! Или, пуще того, что я присвоил их, напечатал под своим именем! Вытирая со лба капли холодного пота, я корил себя за то, что так неосторожно согласился помочь ей и взялся за неблагодарный редакторский труд. Хоть бы расписку попросил, отдавая рукописи! Она уже сделала несколько шагов прочь. Не похоже было, что наш разговор обеспокоил ее; удаляясь, она помахала мне рукой и распорядилась:
– Поищите у себя! Я вам на днях позвоню.
Дома я перерыл ящики письменного стола и все свои бумаги. «Ты что-то потерял?» – спрашивала меня жена, а я спрашивал себя: дома ли уже Зорка Катич? Впервые я с нетерпением ждал ее звонка.
Она не позвонила ни назавтра, ни на следующей неделе. Однако забыть о себе не дала. Сначала я узнал ее на одном из снимков в воскресном выпуске иллюстрированной газеты: она была запечатлена в окружении нескольких молодых писателей на берегу известного озера в Словении. Потом на страничке для детей в другой газете я наткнулся на несколько рисунков, подписанных ее именем, и, наконец, к своему великому изумлению, увидел в солидном литературном журнале довольно длинное стихотворение под названием «Вторая молодость».
Когда она все-таки позвонила, я первым делом спросил ее о злополучном творческом наследии Бошко. Нет-нет, она звонит по совершенно другому поводу. Ей надо со мной повидаться, не буду ли я так любезен заглянуть точно в полдень в «Городское кафе», там можно присесть на открытом воздухе и перекинуться несколькими словами. Погода прекрасная, под тентом прохладно, а к полудню там собирается занятная публика. «Весь литературный Белград!» – добавила она.
– Вы нашли рукописи? – снова спросил я.
– Какие рукописи? Разве я теряла какие-то рукописи?
– Рукописи Бошко! Вы тогда не могли вспомнить, отдал я вам их или нет. Дома я все перерыл. Они у вас.
– Ах вот вы о чем! Я еще не искала, не было времени. Но не беспокойтесь, я посмотрю. Все обсудим при встрече, я звоню из автомата, нас сейчас разъединят.
Когда я пришел, она уже сидела за столиком. Нарядная, подмазанная, преобразившаяся в блондинку.
– Закажите мне мороженое, – велела она, а в спину официанту крикнула: – С двойной порцией взбитых сливок! – Как живете, как ваша жена, чем вы занимались все это время? – привычно строчила она, не дожидаясь ответов на свои вопросы.
На столике лежала белая сумка, под ней – папка с рукописями.
– Жарко! – Она облизнулась. – Я вышла пройтись, устала, а здесь так приятно передохнуть и освежиться.
– Это рукописи Бошко?
– Где? Нет, их я еще не искала. И незачем вам из-за них волноваться. Господи, неужели вы до сих пор не поняли, что в его бумагах ничего путного нет и никогда не было! Как писатель, впрочем, и во всем остальном, он был бездарен, годами обманывал и себя, и людей выдумкой о своих так называемых произведениях. Меня он отговаривал писать, все внушал мне, что я беспомощна, не приспособлена к жизни, я ведь и улицу без него перейти не решалась. Но однажды, когда его не было дома, я набралась храбрости и заглянула в его сочинения и сразу поняла, что в них ничего нет и никогда ничего не будет.
Она поднесла платочек к глазам, словно смахивая слезу, которая вот-вот сорвется с ресниц, и, точно лопатой, снесла языком большую часть сливок с поставленного перед ней мороженого.
– Впрочем, хватит об этом. Все уже позади. Я хотела поговорить с вами о другом.
Да, она принесла рукописи, но не те, другие. Речь идет о цикле стихов, которые она написала на отдыхе в Словении. Одно уже появилось в толстом журнале, вы, вероятно, заметили его, если, конечно, еще следите за современной литературой. При жизни Бошко у нее не было возможности печататься, муж подавлял ее своей индивидуальностью. Не исключено, правда, что неверие в себя, как и несуществующая боязнь открытого пространства, было пустой фантазией; теперь-то она убеждена, что за всем этим крылась неосознанная потребность во внимании. Сейчас ей кажется, что и покойный Бошко, узнай он чудом о ее решении вернуться к литературе, одобрил бы ее шаг. Она переговорила уже с одним издателем, который заинтересовался ее работой и обещал выпустить книжечку, если я возьмусь написать несколько рекомендательных слов и похлопочу, где надо, о финансовой дотации на ее издание.
– У меня нет сомнений, что вы, мой испытанный друг, бывший рядом со много в самые трагические минуты, одним из первых вставший у смертного ложа Бошко, сделаете все, что в ваших силах, посчитав это своим личным долгом. Особенно принимая во внимание ваши связи и знакомства в литературных кругах.
Она лизала мороженое – жеманясь, как школьница на воскресной прогулке с подружками; она ломалась, кривлялась, ерзала, то и дело задевая меня под столом ногами. Хотелось схватить мороженое и запустить его ей в лицо.
– И выбросите из головы эти рукописи Бошко, – сказала она, прощаясь. – Я их видела утром, когда уходила. И как можно скорее дайте знать, что вы сделали для меня.
Я не звонил ей. И ничего не предпринимал, понимая бессмысленность затеи. Она же звонила теперь и по нескольку раз на день. Надо набраться терпения, отговаривался я, такие дела скоро не делаются, хотя начало положено, кое-чего я уже добился, а потом я перестал снимать трубку, наказав жене отвечать ей, что меня нет дома. В конце концов она сообразила, что я избегаю ее, звонки прекратились. Однажды, около полудня, я, забыв о бдительности, шел мимо «Городского кафе» и увидел ее в центре многолюдной шумной компании молодежи. Она ела мороженое и едва кивнула мне.
– Госпожа Катич в обиде на тебя, – сказал как-то при встрече один из наших общих знакомых. «Вот она, людская верность и благодарность, он и пальцем не изволил шевельнуть, чтобы помочь, а ведь покойный Бошко был его товарищем и, можно сказать, умер на его руках». – Скажи, неужто ты и впрямь так обошелся с нею?
Перевод с сербскохорватского Н. Кореневской.
МИШКО КРАНЕЦ
М. Кранец (1908—1983) родился в Велика-Полане (Словения). Прозаик. Академик. Общественный и партийный деятель. Участник народно-освободительной войны 1941—1945 гг. Печатается с 1925 года. М. Кранец – автор романов «Предместье» (1933), «Ось жизни» (1935), «Залесье пробуждается» (1936), «Капитановы» (1938), «Повесть о добрых людях» (1940), «Песнь гор» (1946), «Приход святого Иоанна» (1947), «Канцелярия» (1949), «Под звездою» (1950), «Утраченная вера» (1954), «Земля движется с нами» (1956), «Лиственницы над долиной» (1957), «К светлым горизонтам» (1—2, 1961—1963), «Воробьи во дворе» (1962), «Красногвардеец» (1965), «Дядья мне рассказывали» (1974) и др., а также многочисленных сборников рассказов: «Счастье в деревне» (1933), «Три новеллы» (1935), «Южные ветры» (1937), «Натюрморты и пейзажи» (1945), «Я их любил» (1953), «Месяц живет на Бладовице» (1958), «Анкета маленького человека» (1974) и др.
На русском языке опубликованы избранные рассказы М. Краньца «Я их любил» (1965), роман «Лиственницы над долиной» (1977).
Рассказ «Проклятый пес» вошел в сборник «Анкета маленького человека».

ПРОКЛЯТЫЙ ПЕС
Чертовски красивая девочка и чертовски смекалистая. И то и другое, как любила говаривать Минка из Франова, особенно смекалистый ум, можно употребить либо на благо людям, либо на пользу себе. Совершенно естественно – такова уж была ее натура, – Анчика решила жить в свое удовольствие, ибо такой путь в жизни легче и во всяком случае выгоднее. Уже с колыбели начала она шантажировать родителей, а так как была единственным ребенком, неизменно добивалась, чего хотела. Все детские годы она занималась вымогательством и даже школу окончила с помощью шантажа. Еще до войны мамочка приплясывала вокруг учителей, убеждая их, как талантлива и прилежна ее девочка. В гимназии повторилось то же самое и с новыми преподавателями; со своей стороны, папочка обрабатывал всех учителей в трактирах и кафе – одном-единственном в их маленьком городишке где-то в Штирии.
В старших классах гимназии Анчика столкнулась с твердым и «грубым» преподавателем математики Земличем, – мама с дочкой просто состязались, кто больше очернит его в городке; учитель этот заявил дражайшей мамочке прямо в глаза:
– Нет и нет. Девочка достаточно способна, чтобы усвоить математику. А она решительно ничего не знает. Так вот: либо она все выучит, либо я завалю ее на экзамене. Подыщите ей со временем мужа, а можете это сделать хоть сейчас, и пусть она сколько угодно водит его за нос, а со мной такое не выйдет.
Тогда «достаточно способная девочка», спасая собственный престиж и честь своей семьи, вместо того чтобы приняться за математику, приняла яд. Ее вовремя привезли в больницу, сделали промывание желудка и спасли, как это бывает во всех комедиях. А в городке разразился настоящий скандал, «педагогический и политический», в результате «грубиян» Землич тут же куда-то исчез. Убрать его было тем легче, что он во всеуслышание пообещал вышвырнуть из гимназии всех детей состоятельных родителей, если ученики эти не будут знать его предмет. «Смешно! – сказали дражайшие маменьки с полного одобрения папенек. – И это из-за математики, которая решительно никому не нужна!»
Таким образом Анчика победила и даже обрела ореол героини. И в выпускном классе гимназии смогла целиком посвятить себя ногтям на руках и ногах – на ногах, естественно, лишь с наступлением весны, – нарядам, косметике, прическам, танцам и любовным похождениям. А получив аттестат зрелости несмотря на отсутствие знаний по многим предметам, она переделала свое имя сначала в Ани, а затем в Эн, так как обожала все западное. Осенью она подала заявление в университет, намереваясь заниматься компаративистикой, ибо поняла, что предмет этот не дает узкой профессии – компаративисту по плечу все виды искусств, более того, он как бы возвышается над ними и поэтому ему доступно все на свете. Компаративистам не приходится тянуть преподавательскую лямку в школах, а если уж нельзя обойтись без службы, нетрудно устроиться в редакцию или куда угодно. К тому же интеллигент в нынешних обстоятельствах лишь в том случае чего-то стоит, если занимается искусством вообще и умеет говорить о нем с максимальной неясностью. Ведь все прочие науки и политика стали сейчас такими ничтожными, пошлыми, массовыми и демагогическими! Впрочем, у Энн – она решила писать свое имя с двумя «н», узнав, что есть кинозвезда с таким именем – были самые лучшие намерения, ей хотелось поскорее выйти замуж и посвятить себя домашнему хозяйству, то есть нарядам, косметике, танцам, путешествиям, курортам, вообще светскому образу жизни.
А чтобы получить возможность служить сей высокой цели современных мещанских кругов, ей нужен был муж, какой – не трудно догадаться. Конечно, у него должен быть автомобиль, хороший автомобиль, настоящий лимузин. Потому что она не собиралась сидеть по вечерам дома в глухом, скучном штирийском городишке, целыми днями готовить, мыть, стирать, гладить, заниматься уборкой. Для этого существуют домработницы. А Энн посвятила себя компаративистике, искусству. Она хочет в Марибор, в Любляну, Загреб, Белград, за границу. Хочет ежегодно летом проводить месяц на море, а зимой – в горах, разумеется, в Швейцарии. Ее влечет еще дальше, вплоть до самой Америки. Хотя бы ради западной ориентации, которая незадолго перед тем вошла у нас в моду и весь восток вышвырнула на помойку. Молодые люди – парни и девушки – вырядились в ковбойские джинсы с гордой надписью «РИФЛЭ» на правой ягодице.
Она искала мужа, а потому и нашла его – мужа с приличной зарплатой и великолепной машиной – тогда машин у нас было еще не так много, как теперь, когда это вообще перестало быть проблемой. Парень служил в милиции, он пришел туда сразу из партизанского отряда и, к счастью, не был еще женат, в партизанах не успел жениться по молодости лет. Когда он познакомился с ней, она была вся «сахарно-лаковая», как кто-то о ней сказал. Но именно такие «романтические создания» способны очаровать человека с первого взгляда. Когда он начал за ней увиваться, а Энн проведала о его хорошей зарплате и отличной машине, она поняла, что это именно тот, кто ей нужен, и настолько вошла в роль, что он все больше в нее влюблялся и уже не мог без нее жить. Он так долго обхаживал ее и вел себя так неосторожно, что ему уже нельзя было сбежать, когда он разгадал ее истинную натуру. Но чуть только стало похоже, будто несчастный и вправду собирается от нее отделаться, она снова выпила яд.
Радо был тогда еще настоящим идеалистом и занимал такое положение, при котором обязан был дорожить чистотой своей репутации. Энн вскоре отравилась еще раз – прямо у него на глазах, во время поездки, когда он сидел за рулем машины, и ему пришлось тут же мчаться с ней в больницу – привез он ее туда «как раз вовремя».
Спустя две недели Радо женился на ней – «в последнюю минуту». Ибо понимал, что неделей позже уже не решится на это и не женится на ней никогда. Энн тоже сознавала, что долго своими комедиями его не удержит: в один прекрасный день он, разозлившись, просто-напросто бросит ее дома, в постели, с новой порцией яда в желудке.
Если ее попытки самоубийства подавались почти как национальная трагедия, то о свадьбе Энн возгласили как о величайшем национальном торжестве, и подвенечное платье будущему мужу пришлось выписывать из-за границы.
После первых же медовых недель она занялась устройством квартиры, подыскала себе прислугу и, кроме того, начала учиться водить машину. Тут она снова разыграла спектакль – все инструкторы оказывались никуда не годными. Но на экзамене комиссия была удивлена и ее теоретическими познаниями, и хорошим вождением.
– Слушай, – многозначительно сказала она мужу, – когда мы куда-нибудь поедем, машину поведу я.
Чуть ли не в тот же день, когда она впервые села за руль, Радо понял, что отдал жене не только баранку автомобиля, но и кормило собственной жизни. Однако в то время он все еще оставался идеалистом как в общественной, так и в супружеской жизни и поэтому очень дорожил своей безупречной репутацией.
– Навестим моих родителей, – сказал он через некоторое время после свадьбы и медового месяца, – им наверняка хочется с тобой познакомиться.
Правда, он приглашал их на свадьбу, но они отказались от такой чести, сославшись на болезнь матери. После свадьбы Радо был им благодарен за то, что они придумали отговорку: среди родственников жены, сплошь этаких вылощенных господ, они чувствовали бы себя неловко.
В первые дни супружеской жизни он то и дело пускался в россказни о родителях, о своем детстве и партизанских годах, тоже связанных с воспоминаниями о родителях, полагая, что жена будет восхищаться ими так же, как он сам.
– Во время войны, еще почти ребенком, я был послан с заданием в Триест. Город я хорошо знал, в детстве отец с матерью часто брали меня с собой, когда ездили гуда, а потом я там учился. Старик, – и Радо улыбнулся, вспоминая своего отца, говоря о родителях, он называл их «старик» и «старуха», так они сами обращались друг к другу, возможно, с первых же лет своего супружества, и сыну это очень нравилось, – старик стал моим связным и старуха тоже, хотя сначала она об этом даже не подозревала.








