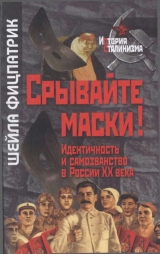
Текст книги "Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России"
Автор книги: Шейла Фицпатрик
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Новый интерес к сексу выражался не только в том, что люди учились говорить о нем. Проституция (с иностранцами за твердую валюту) в конце 1980-х гг. стала бурно развивающейся индустрией в крупных городах, и фильм П. Е. Тодоровского на эту тему «Интердевочка» (снятый в 1989 г. по одноименной повести В. В. Кунина 1988 г.), вызвал оживленные дискуссии{752}. На международный рынок торговли «живым товаром» в 1990-е гг. поступило большое количество молодых русских и украинок, работавших во многих странах Европы и Ближнего Востока{753}. Экономическая необходимость, конечно, играла тут определенную роль, и многие девушки, несомненно, были введены в заблуждение насчет характера «работы за рубежом», которую им предлагали. Но, кажется, в самой готовности молодых женщин ухватиться за эту возможность, наличествовал элемент постсоветского пересотворения себя. Так же как реклама и пиар, международная сексторговля стала одной из новых сфер трудоустройства в постсоветскую эру
Вновь открытые религия и духовность располагались на другом конце нравственного спектра, но для значительного числа бывших советских граждан представляли собой почти такую же экзотику. Постсоветские русские, обращавшиеся (возвращавшиеся) в лоно православия, тоже нуждались в помощи, поскольку мало кто из них знал достаточно о христианстве, православных обрядах, церковной иерархии и организации или о старообрядчестве. На рынке мгновенно появились пособия и справочники по православию, иконы и образки массового производства, духовные тексты и другие предметы православного культа{754}. Число присутствующих на церковных службах за короткое время резко возросло. Рассказывая о периоде перестройки, Рис отметила «массовый выход коммунистов из партии, который в 1990 г. напоминал безудержный поток, и одновременное принятие многими бывшими партийцами христианства и его обрядов; как будто они за одну ночь обменяли один символ легитимности на другой»{755}.
Пышным цветом расцвели народные суеверия, не говоря уже об особой науке под названием «культурология» – о возрождении русской души и ее духовной миссии{756}. Появились справочники, посвященные колдовству и демонам{757}, наблюдался «бурный рост спроса на “альтернативных” целителей: экстрасенсов, магов, колдунов, “астрологов-психоаналитиков”, биоэнергетиков, оккультистов всех мастей кое-кто из них работал под вывеской православной церкви, используя молитвы, иконы и кресты в ритуалах исцеления путем “изгнания злых духов”». Некоторые экстрасенсы, астрологи и самозваные колдуны приобрели немало приверженцев благодаря национальному телевидению. Рекламные объявления обещали «очищение от сглаза и снятие порчи», психоаналитики-самоучки предлагали «покупателям и прохожим на улицах Москвы и Санкт-Петербурга дать консультацию не сходя с места»{758}.
Возрождение «русскости» было в 1990-е гг. главной заботой, плохо уживавшейся с присвоением современных, западных идентичностей. Особенно острый конфликт вспыхнул в области языка. Засилье в журналистском лексиконе иностранных слов вместе с молодежным сленгом и лагерной феней вызвало резкую реакцию ревнителей чистоты русского языка, которые заговорили о его «извращении» и «насилии» над ним. «Разве наши города, где все улицы пестрят рекламой и вывесками на иностранном языке, нередко написанными латинскими буквами, не напоминают города, покоренные чужими странами?» – возмущенно спрашивал один критик{759}. Даже тинейджеры иногда отмечали растерянность старшего поколения перед лицом нашествия Запада. Один подросток сказал интервьюеру в начале 1990-х гг.: «Мои родители уже в шоке от того, что русской культуры больше нет… Все западное, ничего нашего не осталось»{760}.
Можно было, однако, попробовать возродить более старую культуру. В 1990 г. Солженицын опубликовал замечательный «Русский словарь языкового расширения», где перечислил слова, которые «преждевременно» исчезли из языка в советское время и еще «имеют право жить»{761}. Некоторые русские чувствовали такую же ностальгию по обычаям российского дворянства, и их желание больше узнать о нем (зачастую вкупе с притязаниями на дворянское происхождение) вызвало бум публикаций, посвященных его истории, традициям и представителям{762}. Те, кто желал приобрести «манеры русского джентльмена», могли проконсультироваться с книгой Ольги Мурановой «Как воспитывался русский дворянин»{763} или вступить в Английский клуб – прославленное заведение царской России, воскрешенное в Москве в 1996 г. и устраивающее балы, пикники и банкеты в традиционном стиле{764}.
Государство, как и его граждане, тоже решало проблему установления новой идентичности и/или возрождения старой. Начало 1990-х гг. стало периодом полной смены символики. Статуи Ленина и Дзержинского демонстративно убрали; Ленинград в результате народного голосования (правда, закрытого) вернул себе прежнее имя Санкт-Петербурга; государство получило новое название, новый флаг и новый герб (с двуглавым орлом и Святым Георгием, что подчеркивало связь с имперским прошлым). На этом, впрочем, изменения закончились: попытки вынести тело Ленина из Мавзолея не увенчались успехом, а советский государственный гимн, после долгих споров, при Путине был сохранен со словами, переписанными его первоначальным автором Сергеем Михалковым{765}.
Ельцин хотел найти новую доминантную «идею для России» и даже провел в 1996-1997 гг. публичный конкурс по ее поиску. Победитель, Гурий Судаков, подчеркивал, что России чужды материализм и индивидуализм: «русский национальный характер сформирован не на основе рыночной деятельности», благодаря которой в Западной Европе такое важное значение имеют свобода и право; для русского более значимы «общество, Родина, слава и власть»{766}. Но отголоски прошлого проникли и сюда, несмотря на ясные указания, что новая русская идея должна в корне отличаться от старой советской. Участники конкурса в своих поисках часто обращались к теме победы в Великой Отечественной войне, а мысль, что «России в предыдущие десятилетия приходилось справляться с несчетными трудностями и она способна преодолеть любое препятствие», чем-то напоминала старое сталинское изречение о том, что нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики{767}. Путин в 2001 г. открыто реабилитировал отдельные элементы советского прошлого: «…Неужели за советский период существования нашей страны нам нечего вспомнить, кроме сталинских лагерей и репрессий? Куда мы тогда с вами денем Дунаевского, Шолохова, Шостаковича, Королева и достижения в области космоса? Куда мы денем полет Юрия Гагарина?»{768}
Многим русским нелегко было вернуть себе ощущение, что они русские, а не советские, и еще тяжелее – смириться с требовавшей от них этого утратой империи. Как сказал один подросток: «Труднее всего привыкнуть говорить “Россия”. Первое, чему нас учили, – что мы живем в Союзе Советских Социалистических Республик, в СССР, в Союзе. А потом пошло: Россия, Россия, Россия…»{769} По словам политолога Ксении Мяло, «в советский период, казалось, мы все так перемешались и денационализировались, что перестали ощущать собственную идентичность и самобытность»{770}. Надо сказать, другие наблюдатели приходили к иным выводам: например, антрополог Дейл Писмен в начале 1990-х гг. обнаружил в Иркутске влиятельный и заметный дискурс об уникальности «русской души»{771}. Но «русский вопрос» 1990-х гг. касался общей идентичности особого рода – связанной с государством. Согласно результатам опроса общественного мнения в 1995 г., 75% граждан Российской Федерации сожалели об исчезновении СССР и не находили большого преимущества в том, что у них теперь независимое Российское государство. Год спустя только половина респондентов чувствовала себя «гражданами России», правда, к 2000 г. их доля возросла до двух третей{772}. В конце концов, быть гражданином Советского Союза означало принадлежать к одной из двух мировых сверхдержав; звание гражданина России такого удовольствия не доставляло. Обидно было видеть, что Россия, «которая раньше была таким великим государством… развалилась и… стала страной третьего мира. Ну, не на самом деле, мы на самом деле не третий мир, дела идут более или менее нормально, но мы и не Российская империя»{773}. Обижала и неблагодарность – как отделившихся бывших союзных республик, так и стран Восточной Европы («после всего, что мы для них сделали!»){774}.
Для миллионов этнических русских, оказавшихся после распада СССР за пределами Российской Федерации, идентичность представляла собой более конкретную и острую проблему. Они не по своей воле образовали новую этническую группу «русскоязычного населения ближнего зарубежья»{775}.[289]289
Ha 1989 г. за пределами РСФСР, но в пределах СССР проживало свыше 25 млн. русских, см.: Демографические перспективы России. М., 1993. С. 38.
[Закрыть] Если они пытались переехать в Россию, то сталкивались с огромными трудностями в поисках жилья и работы. Если оставались на месте, их, скорее всего, ожидала в лучшем случае маргинализация, в худшем – враждебность.
По мере того как прежняя советская жизнь уходила в прошлое, в народной речи укоренялось ироническое выражение «хомо советикус» (Homo Sovieticus){776}.[290]290
Заметим, что Александр Зиновьев, придумавший это выражение, писал «гомо советикус», см.: Зиновьев А. Гомо советикус. Лозанна, 1982.
[Закрыть] Это почти по определению всегда был не сам говорящий, а кто-то другой, ибо немногие теперь согласились бы признаться в искренности своих былых перевоплощений в Нового Советского Человека. В 1990-е гг. очистить язык от советизмов считалось не менее важным, чем в 1920-е гг. – усвоить их. Появилось даже специальное пособие – «Толковый словарь Совдепии», – помогающее выявить подлежащие забвению слова и обороты{777}.[291]291
Интересно сравнивать эти труды, работу профессиональных социолингвистов, с анализами послереволюционных изменений в русском языке, которые появлялись в 1920-е гг., например с «Языком революционной эпохи» Селищева. В наше время лингвисты внимательно изучают не только новый язык (как в «Толковом словаре русского языка конца XX в.»), но и прежний (как в словарях Купиной и Мокиенко, Никитиной).
[Закрыть] В то же время в этом словаре явно отражалась ностальгия по советскому языку, примерно такая же, как та, что в середине 1990-х гг. обеспечила популярность многосерийной телепередаче «Старая квартира», где с любовью демонстрировались артефакты советской материальной и народной культуры.
На противоположном полюсе от Homo Sovieticus находились «новые русские» (прозвище, прочно приклеившееся к постсоветским нуворишам). Эта группа имела очевидные и привлекавшие всеобщее пристальное внимание проблемы с идентичностью и самоформированием. С одной стороны, нарождающихся капиталистов можно было рассматривать как авангард российских преобразований; с другой – не один только Судаков (победитель конкурса «Идея для России») считал, что рыночные ценности, олицетворяемые «новыми русскими», враждебны самой сути русского человека. В народе «новые русские» вызывали смешанные чувства: «с одной стороны, это люди, поймавшие удачу за хвост… с другой стороны, они безнравственны, бесцеремонны и непростительно, непозволительно богаты», причем негативные тенденции преобладают{778}. «Новые русские» стали героями бесчисленных шуток, вдохнув жизнь в жанр анекдота, которому грозило отмирание, после того как рухнула его излюбленная мишень – советское государство. Остроты анекдотам о «новых русских» добавляли «намеки, что худшие из них – вообще не русские… постоянно фигурирующие здесь персонажи еврейского и кавказского происхождения… свидетельствуют, что слово “русский” в выражении “новые русские” часто имеет иронический подтекст, подразумевающий захват русских богатств представителями других национальностей»{779}.
«Новые русские» оказались новыми «не только для нас… [но и] для самих себя»{780}. Психоаналитикам повезло с ними не меньше, чем рассказчикам анекдотов. Им велели по новым глянцевым журналам учиться быть «настоящими карьеристами» – этим термином, инвертирующим отвергнутую советскую негативную характеристику, обычно называли своих читателей-бизнесменов постсоветские журналы «Карьера» и «Профиль»{781}. Их самосотворение (по словам одного антрополога) «требует бесконечных перформативных ритуалов – от телесных актов (внешность, одежда, жесты, движения, походка, манеры, голос, манера пить) до речевых (типы произношения, речевые жанры, использование английских и бранных слов)…»{782} Они «разглядывают страницы “Вог” и чувствуют, что должны вылепить из себя нечто лучшее, чем западные аналоги, ведь они русские, к тому же передовые. Отсюда такое пристрастие к салонам красоты и гимнастическим залам, где физически новые тела тузят и разглаживают, придавая им требуемую форму»{783}. Они строят – не обязательно действительно поселяясь в них – претенциозные виллы с фронтонами, башенками и башнями, «навязчивая вертикальность» которых поражает наблюдателя «одновременной целеустремленностью и готовностью к обороне»{784}.
Неудивительно, что образ нашего старого друга, афериста Остапа Бендера, всплыл в анекдотах и исследованиях о «новых русских»{785}. Как подразумевают анекдоты, «новые русские» – мошенники, потому что богатство их нажито нечестным путем: хитрость помогла им завладеть возможностями, которые всегда открываются при развале государства. Но позвольте: разве не были мошенниками именно старые русские? Разве не советская специфика, если верить Синявскому, выковала предприимчивый дух «пройдохи»?{786} Разве авантюры Остапа Бендера не служили «обязательной предпосылкой для постижения советской жизни», по словам информантов Дейла Писмена в Омске?{787}
Это не просто еще одно подтверждение французской поговорки: «Чем* больше меняется, тем больше все остается неизменным». Бендера от всех мошенников отличал особый талант схватывать на лету язык и правила нового порядка. Он изображал человека, который чувствовал себя как рыба в воде, в ситуации, когда никто не мог сказать того же о себе. «Новым русским» языком он сумел бы овладеть с той же виртуозностью, с какой в свое время научился «большевистскому»; в переходный период 1991-1992 гг. его образ проливал свет не только на советские нравы, но и, как это ни поразительно, на «нашу русскую душу»{788}. На пути к новой постсоветской идентичности самозванец, двуликий Янус, снова оказался впереди всех.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города, 1920/ 1930 годы. СПб., 1999.
Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: Картины повседневной жизни горожан. СПб., 2003.
На корме времени: Интервью с ленинградцами 1930-х годов / под ред. М. Витухновской. СПб., 2000.
Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России (1920-1939 гг.) / под ред. Т. Вихавайнена. СПб., 2000.
Осокина Е. Иерархия потребления: О жизни людей в условиях сталинского снабжения, 1928-1935 гг. М., 1993.
Письма во власть, 1917-1927: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / сост. А. Я. Ливший, И. Б. Орлов. М., 1998.
Письма во власть, 1928-1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям / сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов, О. В. Хлевнюк. М., 2002.
Тихонов В. И., Тяжельникова В. С., Юшин И. Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920-1930-е годы: Новые архивные материалы и методы обработки. М., 1998.
Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 1998.
Accusatory Practices: Denunciation in Modern European History, 1789-1989 / eds. S. Fitzpatrick, R. Gellately. Chicago, 1997.
Alexopoulos G. Portrait of a Con Artist as a Soviet Man // Slavic Review. 1998. Vol. 57. No. 4.
Alexopoulos G. Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926-1936. Ithaca, 2003.
Andrle V. Workers in Stalin's Russia: Industrialization and Social Change in a Planned Economy. New York, 1988.
A Revolution on Their Own: Voices of Women in Soviet History / eds. B. A. Engel, A. Posadskaya-Vanderbek. Boulder, 1997.
Ball A. M. Russia's Last Capitalists: The Nepmen, 1921-1929. Berkeley 1987.
Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass., 1994.
Bribery and ВЫ in Russia: Negotiating Reciprocity from the Middle Ages to the 1990s / eds. S. Lovell, A. V. Ledeneva, A. Rogachevskii. London, 2000.
Brooks J. Revolutionary Lives: Public Identities in Pravda during the 1920s // New Directions in Soviet History / ed. S. White. New York, 1992.
Brooks J. Thank You, Comrade Stalin: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, 2000.
Clark С. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass., 1995.
Clark C. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago, 1981.
Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940 / eds. C. Kelly, D. Shepherd. Oxford, 1998.
Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda, and Dissent, 1934-1941. Cambridge, 1997.
Durham V. S. In Stalin's Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction. Cambridge, 1976.
Edele M. Strange Young Men in Stalin's Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945-1953 //Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 2002. Bd. 50.
Etre communiste en URSS sous Staline / sous la dir. de N. Werth. Paris, 1981.
Figes O., Kolonitskii B. Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven, 1999.
Fitzpatrick S. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York, 1999.
Fitzpatrick S. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York, 1994.
Fitzpatrick S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992.
Gerasimova K. Public Privacy in the Soviet Communal Apartment // Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc / eds. D. Crowley S. E. Reid. Oxford, 2002.
Gorsuch A. E. Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents. Bloomington, 2000.
Halfin I. From Darkness to Light: Class Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000.
Halfin L Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass., 2003.
Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi, 1931-39 // Stalinism: New Directions / ed. S. Fitzpatrick. London, 2000.
Hellbeck J. Self-Realization in the Stalinist System: Two Soviet Diaries of the 1930s // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / eds. D. L. Hoffmann, Y. Kotsonis. Basingstoke, Hants., 2000.
Hessler J. A Social History of Soviet Trade. Princeton, 2004.
Hoffmann D. L. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1928-1941. Ithaca, 1994.
Hoffmann D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941. Ithaca, 2003.
Holmes L. Part of History: The Oral Record and Moscow's Model School No. 25, 1931-1937 // Slavic Review. 1997. Vol. 56. No. 2.
Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914-1921. Cambridge, Mass., 2002.
In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War / eds. S. Fitzpatrick, Yu. Slezkine. Princeton, 2000.
Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s / eds. V. Garros, N. Korenevskaia, T Lahusen. New York, 1995.
Kelly С Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford, 2001.
Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley, 1999.
Kimerling E. Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia, 1918-1936 // Russian Review. 1982. Vol. 41. No. 1.
Koenker D. Fathers against Sons / Sons against Fathers: The Problem of Generations in the Early Soviet Workplace // Journal of Modern History. 2001. Vol. 73. No. 4.
Koenker D. Men against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia: Gender and Class in the Socialist Workplace // American Historical Review. 1995. Vol. 100. No. 5.
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995.
Krylova A. Healers of Wounded Souls: The Crisis of Private Life in Soviet Literature and Society, 1944-1946 //Journal of Modern History. 2001. Vol. 73. No. 2.
Lahusen T Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, 1997.
Lemon A. Between Two Fires: Gypsy Performance and Romani Memory from Pushkin to Postsocialism. Durham, N.C., 2000.
Lovell S. Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000. Ithaca, 2003.
Lugovskaya N. The Diary of a Soviet Schoolgirl, 1932-1937 / trans. J. Turnbull. Moscow, 2003.
Making Workers Soviet: Power, Class and Identity / eds. L. Siegelbaum, R. Suny. Ithaca, 1994.
Models of Self: Russian Women's Autobiographical Texts / eds. M. Liljestrom, A. Rosenholm, I. Savkina. Helsinki, 2000.
Moine N. Passportisation, statistique des migrations et controle de Pidentite sociale // Cahiers du Monde Russe. 1997. Vol 38. No. 4.
Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology Princeton, 1997.
Nerard F.-X. 5% de verite: la denonciation dans l'URSS de Staline. Paris, 2004.
On Living through Soviet Russia / eds. D. Bertaux, P. Thompson, A. Rotkirch. London, 2004.
Osokina E. Our Daily Bread: Socialist Distribution and the Art of Survival in Stalin's Russia, 1927-1941 / ed. and trans. K. S. Transchel, G. Bucher. Armonk, N.Y, 1999.
Parler de soi sous Staline: la construction identitaire dans le communisme des annees trente / sous la dir. de B. Studer, B. Unfried, I. Herrmann. Paris, 2002.
Pesman D. Russia and Soul: An Exploration. Ithaca, 2000.
Petitions and Denunciations in Russian and Soviet History / ed. S. Fitzpatrick // Russian History 1997. Vol. 24. No. 1-2 (special issue).
Ries N. Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. Ithaca, 1997.
Rossman J. The Teikovo Cotton Workers' Strike of April 1932: Class, Gender and Identity Politics in Stalin's Russia// Russian Review. 1997. Vol. 56. No. 1.
Russian Cultural Studies: An Introduction / eds. С Kelly, D. Shepherd. Oxford, 1998.
Siegelbaum L. H. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941. Cambridge, 1988.
Slezkine Yu. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994.
Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents / eds. L. Siegelbaum, A. Sokolov. New Haven, 2000.
Stalinism: New Directions / ed. S. Fitzpatrick. London, 2000.
Steinberg M. D. Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910-1925. Ithaca, 2002.
Tomoff K. «Most Respected Comrade…»: Patrons, Clients, Brokers and Unofficial Networks in the Stalinist Musical World // Contemporary European History. 2002. Vol. 11. No. 1.
Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York, 1996.
Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton, 2001.
Zubkova E. Russia after the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945-1957 / ed. and trans. H. Ragsdale. Armonk, N.Y., 1998.









