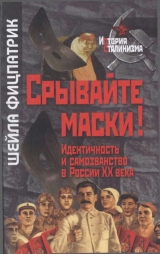
Текст книги "Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России"
Автор книги: Шейла Фицпатрик
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Шейла Фицпатрик
СРЫВАЙТЕ МАСКИ!
Идентичность и самозванство в России XX века

Памяти Майкла Даноса
ПРЕДИСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ
Большинство глав этой книги уже выходили раньше отдельными статьями. Исключение составляют главы 1 («Как стать советским человеком»), 12 («Истории жен») и 15 («Как стать постсоветским человеком»), которые печатаются впервые. Первые варианты некоторых глав написаны еще в начале 1990-х гг., и с тех пор вышло довольно много работ на эту же тему В новых главах я ссылаюсь на недавние публикации, однако в отредактированных старых текстах, как правило, не привожу ссылок на работы, которые появились позже или были мне неизвестны, когда писался первоначальный вариант, поскольку это могло бы нарушить логику изложения. Я делаю в данном случае исключение только для диссертаций, изданных впоследствии как монографии, и публикаций статей и докладов, которые на тот момент еще не были опубликованы.
В этой книге, как почти во всех трудах, создававшихся в течение длительного времени, прослеживается определенная эволюция перспективы, интерпретации и фактического материала. Возможно, читателю будет интересно взглянуть на даты появления статей и научных докладов, которые легли в основу той или иной главы: в начале каждой из них приводятся сведения о публикации более ранних ее вариантов или разделов.
Выражаю свою признательность за разрешение на переиздание отдельных глав:
Издательству Оксфордского университета (Oxford University Press) – The Bolshevik Invention of Class: Marxist Theory and the Making of «Class Consciousness» in Soviet Society // The Structure of Soviet History / ed. R. Suny. New York, 2002.
Издательству университета Индианы (Indiana University Press) -The Problem of Class Identity in NEP Society // Russia in the Era of NEP / eds. S. Fitzpatrick, A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington, Ind., 1991.
Издательству Чикагского университета (University of Chicago Press) – Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia //Journal of Modern History. 1995. Vol. 65. No. 4; Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s //Journal of Modern History. 1996. Vol. 68. No. 4.
Институту славяноведения в Париже (Institut d'etudes slaves) – Lives under Fire: Autobiographical Narratives and Their Challenges in Stalin's Russia // De Russie et d'ailleurs. Melanges Marc Ferro. Paris, 1995.
Фонду «Дом наук о человеке» (Maison des Sciences de l'Homme) – The Two Faces of Anastasia: Narratives and Counter-Narratives of Identity in Stalinist Everyday Life // Parler de soi sous Staline. La construction identitaire dans le communisme des annees trentes / sous la dir. de B. Unfried, I. Herrman, B. Studer. Paris, 2002.
Издателю Чарльзу Шлаксу-младшему – введение к публикации: From Krest'ianskaia gazeta's Files: Life Story of a Peasant Striver // Russian History. 1997. Vol. 24. No. 1-2.
Издательству Принстонского университета (Princeton University Press) – переработанный вариант введения («Lives and Times») к книге: In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War / eds. S. Fitzpatrick, Yu. Slezkine. Princeton, N.J., 2000. P. 3-17 (здесь гл. 8).
Журналу «Slavic Review» – переработанный вариант статьи: Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // Slavic Review. 1996. Vol. 55. No. 1; дополненный вариант статьи: The World of Ostap Bender: Soviet Confidence Men in the Stalin Period // Slavic Review. 2002. Vol. 61. No. 3 (здесь разбит на гл. 13 и 14).
Историческому колледжу (Historisches Kolleg) и мюнхенскому издательству «Р. Ольденбург» (R. Oldenbourg Verlag) – Intelligentsia and Power: Client-Patron Relations in Stalin's Russia // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Ansatze der Forschung / Stalinism before World War II. New Lines of Research / hg. von M. Hildermeier. Miinchen, 1998.
Многие люди делились со мной мыслями, которые в итоге вошли в эту книгу, но, поскольку это происходило не один год, мне труднее, чем обычно, назвать их всех поименно. Вначале моим самым главным и незаменимым собеседником был мой муж Майкл Данос, умерший в августе 1999 г. Много идей я почерпнула у своих чикагских аспирантов. Катерина Кларк, Рон Суни, Леора Ауслендер и Катриона Келли оказывали мне интеллектуальную и моральную поддержку и помогали в работе своей конструктивной критикой. Мне было очень приятно иметь дело с редактором издательства Принстонского университета Бригиттой ван Рейнберг. На последнем этапе неожиданный подарок в виде Премии за выдающиеся достижения от Фонда Меллона облегчил мне работу, позволив сложить с себя некоторые преподавательские обязанности. Я благодарна Бенджамину Зайичеку и Хайди Бертуд за научное сотрудничество при написании новых глав, а также Джун Фэррис, библиографу литературы, посвященной славянским и восточноевропейским исследованиям, в Чикагском университете – за самоотверженную помощь в розыске материалов.

Рис. 1. Карикатура Осберта Ланкастера (Daily Express. 1941. 18 July. P. 4).
Подпись под рисунком: «Каррузерс, а мы с вами кто – рабочие, крестьяне или интеллигенция?»
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.
КАК СТАТЬ СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ[1]1
Многие разделы этой главы взяты из моей статьи: Making a Self for the Times: Impersonation and Imposture in Twentieth-Century Russia // Kritika. 2001. Vol. 2. No. 3. Благодарю Леору Ауслендер, Катерину Кларк, Рональда Суни, Юрия Слезкина, Катриону Келли и участников семинара Чикагского университета по исследованиям России за глубокую, вдумчивую критику первых вариантов главы.
[Закрыть]
В большинстве обществ лозунг «Срывайте маски!» не пользуется особой популярностью, поскольку в основе их функционирования лежит допущение, что цивилизованность требует определенной доли маскировки. Однако революции подобное допущение отметают; одержав победу, они срывают маски, т. е. лишают силы все негласные соглашения о саморепрезентации и социальном взаимодействии, которые были достигнуты в дореволюционном обществе. Так случилось в России после Октябрьской революции 1917 г., заложившей фундамент Советского государства, то же самое произошло и в 1991 г., когда это государство развалилось. В такие переломные моменты отдельному человеку приходится «пересотворять» себя, находить или создавать в самом себе личность, подходящую для нового послереволюционного общества. Процесс пересотворения является одновременно процессом реконфигурации (новой организации сведений о себе) и открытия (новой интерпретации их значения). Он всегда включает стратегические решения (как мне представлять себя в этом новом мире?) и может побуждать человека к онтологической рефлексии (кто я на самом деле?). Те, кто занят пересотворением себя, как правило, не любят обсуждать происходящее, утверждая, что в глубине души они всегда были новыми советскими (постсоветскими) людьми, каковыми сейчас стараются стать.
Во время революции миллионы людей, составляющих общество, по необходимости приступают к такому пересотворению, однако воинствующие революционеры при этом одержимы стремлением к подлинности и прозрачности. Они ревностно выискивают и «разоблачают» «двурушников», пытающихся скрыть свою настоящую идентичность, «карьеристов и приспособленцев», щеголяющих мнимой революционностью в своекорыстных целях. В первые два десятилетия после 1917 г. «бдительность», позволяющая выявлять и разоблачать подобных врагов революции, считалась одним из главных достоинств коммуниста. Чистки, периодически проводившиеся в рядах самой коммунистической партии, в государственном аппарате и учебных заведениях в 1920-1930-е гг., выполняли ту же задачу искоренения затаившихся врагов. Спустя полвека постсоветская Россия постаралась не становиться снова на путь чисток и проверок на лояльность. Однако, по наблюдениям политолога Майкла Урбана, на первом этапе перехода к постсоветскому обществу (когда в политике действовали почти сплошь бывшие коммунисты) не одного, так другого политика постоянно обвиняли в том, что он «на деле» остается коммунистом либо в глубине души еще «не перестроился». Урбан интерпретировал подобные обвинения как способ, который позволял обвинителям придать достоверность собственному новому имиджу постсоветских демократов{1} и, mutatis mutandis[2]2
С соответствующими изменениями (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть], в самый первый революционный период отчасти давал плоды.
В этой книге рассказывается о переделке идентичности в обществе, брошенном в водоворот революции. Я исследую, как отдельные люди, оказавшись в такой ситуации, решают вопрос своей идентификации – главным образом, как они создают себе новый образ, подходящий к новым жизненным обстоятельствам, однако на протяжении довольно долгого времени остающийся ненадежным и уязвимым. Меня интересуют также социальные последствия этого: какие социальные практики (чистка, самокритика, доносительство) и особенности менталитета (подозрительность, забота о выяснении «подлинного лица» окружающих) развиваются в условиях, когда каждый человек старается пересотворить себя и отстоять свое заново изобретенное «Я», зная, что соседи заняты тем же самым. Моя работа, в отличие от многих исследований «идентичности», опубликованных в последние годы, посвящена в первую очередь индивидуальной, а не национальной или групповой идентичности. Как только в фокусе внимания оказываются индивиды, немедленно всплывает тема самозванства – в данном случае без нее при исследовании идентичности не обойтись. Самозванец – человек, который выдает себя за другого, претендует на идентичность, не принадлежащую ему по праву. В революционных условиях крайне важно разоблачать самозванцев, прикидывающихся революционерами. Но вместе с тем опасно тонкая грань отделяет самозванство от вполне похвальной практики самоформирования или перевоплощения, которого революция требует от всех граждан страны[3]3
Более подробно (в том числе определение «перевоплощения») см. ниже, с. 29.
[Закрыть]. Как разрешали это затруднение в Советской России, как отличали одно от другого в повседневной жизни – одна из тем моей книги.
В первые годы советской власти всех волновала главным образом проблема идентичности с точки зрения социально-классовой принадлежности. Большевики захватили власть от имени пролетариата и полагали, что именно пролетарии могут быть опорой советской власти, а «буржуи» (в 1920-е гг. этим словом часто называли членов любой группы, которая была привилегированной при старом режиме) – только ее противниками. В итоге причины и следствия до некоторой степени поменялись местами, и те, кто поддерживал революцию, считались «пролетариями», а те, кто выступал против нее, – «буржуями». Так или иначе, новые правители придавали классам достаточно большое значение, чтобы проделать в 1920-е гг. большую работу по статистическому анализу классовой структуры населения и различных учреждений страны, а также проводить политику дискриминации «классовых врагов» (т. е. людей, которые являлись врагами по определению, в силу своей принадлежности к особому социальному классу) и выдвижения тех, кого классовое положение делало естественными союзниками революции.
Категория «класс», увы, оказалась весьма неоднозначной. Классовую принадлежность не так легко установить по внешним признакам, как расу или пол, и гораздо труднее определить по имени и родному языку человека, чем национальность. Конечно, классы связаны с социальным положением, но во время революции (и как раз из-за нее) социальное положение и род занятий у многих людей изменились. Возможными критериями классовой идентичности оставались манеры, т. е. формы саморепрезентации, которые человек мог усвоить, а мог и не усвоить, и биография. Последняя приобрела ключевое значение для определения классовой принадлежности индивида в советском обществе. Изложение собственной биографии с ответами на вопросы и замечания слушателей стало обычной советской практикой в самых разных ситуациях, включая чистку и выступления с «самокритикой» на собраниях; во всех личных делах содержались автобиография и анкета, призванные осветить историю политической и профессиональной деятельности человека и выявить его классовое положение до мельчайших подробностей, учитывая и то, как оно менялось со временем. При наличии правовых и административных структур, которые осуществляли дискриминацию по классовому признаку, люди, естественно, стремились составлять автобиографии так, чтобы скрыть «плохие» с классовой точки зрения моменты, а сомнительные – представить в наиболее выгодном свете. Привычка к утаиванию и ретушированию тех или иных фактов, неразрывно связанная с общим процессом пересотворения себя, коего требовала революция, стала второй натурой советского гражданина, так же как и противоположная привычка к разоблачению и доносительству
Эта книга – исследование индивидуальных практик самоидентификации в Советской России. В ней не рассматриваются государственные практики формирования идентичности с помощью пропаганды, средств массовой информации и учебных заведений или групповая социализация среди сверстников в школах, пионерской и комсомольской организациях, хотя эти темы сами по себе небезынтересны. Мало говорится также об интеллектуальных дебатах по поводу идентичности или индивидуальных духовных исканиях философского плана. Я с радостью обратила бы внимание и на дебаты, и на духовные искания, если бы обнаружила таковые, но в действительности и то, и другое – удивительно редкое явление. Коммунистическая партия и Советское правительство вырабатывали свою политику по таким вопросам, как классовая дискриминация, почти не дискутируя об этих вопросах (если подобное все же случалось, я это отмечаю) и не подводя под них теоретическую базу Молчание Русской революции о ключевых проблемах социальной практики составляет яркий контраст с пылкими спорами и глубоким теоретизированием деятелей Французской революции на такие темы, как доносительство. Что же касается индивидуальных философских исканий, то мы и здесь сталкиваемся с красноречивым молчанием. Судя по дневникам и воспоминаниям, советские граждане прагматично заботились о презентации своей идентичности, возможно, добросовестно трудились над созданием «советского» имиджа, но редко задавались метафизическими вопросами бытия (кто я в этой бесконечной вселенной?). Может быть, это связано с чрезвычайными тяготами жизни в Советском Союзе 1920-1930-х гг., под влиянием которых складывались модели поведения, характерные для обществ военного времени. Живя под властью политического режима, постоянно руководившего своими гражданами и часто каравшего их, люди проникались фатализмом, который, как это ни парадоксально, по-видимому, избавил их от многих страхов и неврозов, широко распространенных в тот же период на капиталистическом Западе{2}.
Историографическая заметка
Эта книга написана социальным историком, который начал печататься в 1970-е гг. Однако тема ее ближе историкам советской культуры, особенно когорте молодых последователей Фуко, появившихся на сцене во второй половине 1990-х гг. и положивших начало исследованиям «советской субъективности»{3}. Такое сочетание автора и темы поначалу может смутить некоторых читателей – причем не тех, кто незнаком с предметом, а как раз тех, кто хорошо его знает. Поэтому имеет смысл сразу отметить, что речь идет не об атаке на школу «советской субъективности» по Фуко и не о присоединении к ней, а о чем-то совершенно ином. Наилучший способ объяснить, что это за «иное» и как я к нему пришла, – краткий экскурс в мою интеллектуальную автобиографию. Читатель, не занимающийся профессионально советской историей, может пропустить этот раздел.
Меня как социального историка долгое время не удовлетворяло понятие класса в роли аналитической категории для изучения советского общества и раздражали дискуссии советских и западных марксистов о «классовом», в частности пролетарском, сознании в советском контексте{4}. Я хорошо знала историю русских рабочих, чью «сознательность» превозносили советские авторы. Эти рабочие в основном жаждали порвать с рабочим классом или дать такую возможность хотя бы своим детям, и в первые пятнадцать послереволюционных лет легко добивались этого благодаря советской политике выдвижения пролетариев и беднейших крестьян{5}. Разумеется, социальные историки в СССР были вынуждены пользоваться в своей работе марксистскими классовыми категориями, и делали это в крайне статичной, грубо материалистической манере. Когда в 1970-е гг. социальной историей Советского Союза стали заниматься и на Западе, я выступила против тенденции принимать классовые характеристики за чистую монету и сосредоточиваться на вопросах, которые мне казались марксистской схоластикой (действительно ли русские рабочие обладали пролетарским классовым сознанием; были ли крестьяне, получившие от большевиков клеймо «кулаков» – деревенских эксплуататоров, – действительно кулаками или только «середняками»){6}.
Однако в конце 1980-х гг. я сама начала относиться к классам серьезно. Не потому, что уверовала в марксистскую аналитическую систему, а потому, что вдруг поняла довольно очевидную вещь: деление на классы служило критерием классификации[4]4
Рон Суни предположил, что так я косвенным образом отреагировала на знаменитый «лингвистический поворот», совершившийся в среде социальных историков-марксистов благодаря авторам, которые вновь обратили самое пристальное внимание на проблемы языка и восприятия (см., напр.: Jones G. S. Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982. Cambridge, 1983). Конечно, после «лингвистического поворота» я нашла больше общего с историками-марксистами, чем раньше.
[Закрыть]. Классы нужно принимать всерьез, поскольку классификация по классовому признаку была в советском обществе очень серьезным делом. Она не имела никакого отношения к реальной социальной структуре, зато имела самое прямое отношение к судьбе отдельного человека, его удачам и неудачам. Лично мне споры о том, были ли крестьяне «настоящими кулаками» или городские жители «настоящими пролетариями», могут казаться схоластическими, но для миллионов людей практические последствия таких дискуссий имели жизненно важное значение. Ярлык кулака означал гибель: если ты кулак, стало быть, подлежишь экспроприации и депортации. Ярлык пролетария означал, что ты можешь из наемного работника превратиться в начальника, что у твоих детей (и даже у тебя самого) есть возможность получить высшее образование и подняться на новую ступень, перейдя в класс служащих.
Это откровение легло в основу ряда статей, опубликованных в начале 1990-х гг. В них я рассматривала большевистские традиции наклеивания классовых ярлыков и классовой дискриминации, а также появившиеся в результате социальные практики маскировки и разоблачения классовой идентичности. Как раз в эти годы были открыты ранее закрытые советские архивы. Из всех архивных находок тех лет самой интересной для меня стали огромные кипы писем властям от отдельных граждан. Поначалу мое внимание особенно привлекали доносы, которые в 1920-1930-е гг. часто представляли собой попытки дискредитировать чью-нибудь классовую саморепрезентацию. Позже я добавила к ним ходатайства и просьбы, неизменно связанные с саморепрезентацией автора (в 1920-1930-е гг. обычно подчеркивавшего свое «хорошее» классовое происхождение). Претензии на «правильную» идентичность по необходимости сопровождались рассказами о своей жизни, и они меня тоже заинтересовали.
Так и получилось, что стезя социального историка привела меня на территорию, активно колонизируемую молодыми историками культуры, представителями школы «советской субъективности»{7}. Различия между нами очевидны. Их интересуют идеология и дискурс и увлекает в первую очередь теория. Меня интересуют социальная практика и повседневность, и я не слишком жалую тотальное теоретизирование, будь оно марксистское или «фукоистское» (разделяя, между прочим, вместе с Марксом глубокие подозрения в отношении идеологии как ложного сознания). Их внимание сосредоточено на «Я» и субъектности[5]5
Утверждение Йохена Хелльбека и других представителей школы «советской субъективности», что революция первоначально не подавляла, как считали раньше, а продуцировала у индивида сознание своего «Я» (см.: Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming. P. 341), в основе своей справедливо. Но Оксфордский словарь английского языка, давая определение «Я» («то, что составляет действительную внутреннюю сущность человека, в отличие от всего случайного и поверхностного»), отмечает, что это понятие «главным образом философское», а философия – такая область, куда историк моего типа заглядывает с осторожностью. В этой книге я постаралась по мере возможности избегать термина «Я» (кроме как в значении личного местоимения), чтобы не всплывали, например, ассоциации с «техниками», используемыми в «заботе о своем Я» (тема третьего тома «Истории сексуальности» Фуко), или с толкованием «Я» как морально-этической ориентации – «ориентации на добро» – у философа Чарльза Тейлора (см.: Taylor С. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge, Mass., 1989. P. 27-33).
[Закрыть]; мое – на идентичности и идентификации. Но, по-моему, различия в историческом подходе как раз и делают научную работу интересной. Появление на сцене новой когорты историков – один из главных факторов, способствовавших оживлению в области советской истории в 1990-е гг. Если бы меня попросили выделить два важнейших аспекта этого оживления, я назвала бы, во-первых, перенос внимания на человеческий опыт, а во-вторых, – решительное окончание «холодной войны» в советской истории (новое поколение, в отличие от своих предшественников-«ревизионистов», не нападало на стереотипы «холодной войны» прямо, но его равнодушие оказалось для этих стереотипов губительнее лобовой атаки). Пятнадцать лет назад еще живо было застарелое представление, будто «советская идеология» – нечто насильно скармливаемое режимом населению и пассивно потребляемое атомизированными представителями последнего. То, что у нас появился «сталинистский субъект» как «полноправный идеологический агент»{8}, – большой шаг вперед.
Идентичность: определение и теоретическая основа
Прежде чем двигаться дальше, остановимся на понятии «идентичность». В последние годы этот термин вошел в моду в общественных науках, им бросаются направо и налево, и в результате он сделался обескураживающе многозначным{9}. Меня интересует не столько персональная, сколько социальная идентичность, т. е. то, как человек позиционирует себя в социальном или групповом контексте, а не то, что он думает о себе как отдельной личности[6]6
Это близко к определению социальной идентичности у Дэвида Лэйтина: «Ярлыки, которые люди присваивают себе (или присваивают им другие), претендуя на принадлежность (или будучи отнесены другими) к социальной категории, по их мнению (или мнению других людей, как принадлежащих, так и не принадлежащих к данной категории), вероятнее всего соотносимой с их историей и характерной для них в настоящем моделью поведения» (Laitin D. D. Identity in Formation: The RussianSpeaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, 1998. P. 16). Определение Рома Харре см. ниже, с. 21.
[Закрыть]. Говоря «идентичность», я имею в виду самоидентификацию и/или самопонимание в соответствии с принятыми в данный момент категориями социального бытия. Конечно, между самоидентификацией (процессом маркирования, которое может рассматриваться только как средство для достижения определенной цели) и самопониманием (т. е. уверенностью человека, что он именно таков, каким сам себя представляет) есть разница. В моем определении эта разница намеренно затушевывается, поскольку я считаю, что самопонимание субъекта доступно историкам только благодаря таким практикам, как самоидентификация. В этой книге «идентичность» – сокращенное наименование результата комплексной ревизии самоидентификации, связанной с Русской революцией[7]7
Обращаю внимание читателя на то, что я использую выражение «Русская революция» в широком смысле: для меня это не только 1917 г., но и два десятилетия кардинальных сдвигов, начало которым положил Октябрь (или, если уж быть педантично точной, Ноябрь в соответствии с нашим западным календарем). См.: FitZpatrick S. The Russian Revolution. 2nd ed. Oxford; New York, 1994. P. 2-4.
[Закрыть].
В дискурсе первых лет советской власти ближайшим синонимом термина «идентичность» было «лицо». Слово «лицо» в смысле «идентичность» почти всегда употреблялось с двумя определениями: «классовое» и «политическое». Классовую (так же как и тесно связанную с ней политическую) идентичность следовало «выявить» (т. е., согласно словарю Ушакова, «разоблачить, показать в подлинном виде»){10}.[8]8
Мне кажется, Хархордин преувеличивает частоту употребления слова «проявить» в 1920-1930-е гг. Ушаков в конце 1930-х гг. назвал его «книжным», тогда как «выявить» – «новым газетным»; во всех примерах, которые он приводит, глагол «проявить» сочетается с существительными, имеющими положительный смысл («проявить героизм», «проявить храбрость» и т. д.). В дискурсе разоблачения главную роль играл глагол «выявить», а не «проявить».
[Закрыть] Разговор об идентичности был неотделим от проблем ее маскировки и утаивания, поскольку революция сделала определенные типы социальной и политической идентичности опасными недостатками, заставляя тем самым их скрывать. Замаскированную идентичность надлежало «разоблачить»{11} – весьма ходовое словечко в раннем советском дискурсе. Двойную идентичность – «двуличие», «двурушничество» («поведение человека, наружно принадлежащего к одной группе, но действующего в пользу враждебной ей стороны (газ. презрит.)»{12}) – регулярно обличала советская пресса.
В советском контексте под двойной идентичностью понимается заведомо ложное представление человеком своего реального положения на особой оси идентичности – классово-политической. Но в действительности, помимо социально-политической, существует множество возможных осей идентичности: например, этнонациональная, семейная, конфессиональная, тендерная. У человека всегда много идентичностей, т. е. способов самоидентификации, характеризующей его положение в мире и взаимоотношения с другими людьми. Если идентичность – место в определенной классификации, которое некая личность считает своим, ожидая, что и окружающие признают его за ней, то один и тот же человек может сочетать в себе, скажем, идентичности мужчины, рабочего, коммуниста, мужа/отца, русского.
Самоидентификация основывается на феноменах реальной жизни, таких, как родной язык, происхождение, род занятий, но при этом она подвижна и подвержена изменениям. Изменения могут быть вызваны обстоятельствами: например, когда Советский Союз в начале 1990-х гг. прекратил существовать как государство, идентичность «советского гражданина» моментально утратила жизнеспособность. Наряду со стечением обстоятельств может сыграть роль и личный выбор, как в случае с идентичностью «дворянина»: в советские времена иметь ее стало невыгодно и даже позорно, но в 1990-е гг. она воскресла из небытия после нескольких десятков лет неактуальности. Конструирование идентичности на основе реальных фактов биографии в зависимости от обстоятельств и выбора может давать очень разные результаты. Представьте только, какой широкий спектр возможностей этнической самоидентификации находится, к примеру, в распоряжении человека, говорящего по-русски, родившегося в России, но имеющего дедушку-еврея и бабушку-украинку. Кроме того, значение для самого человека различных типов самоидентификации (например, как жены, женщины, коммунистки, интеллигентки или еврейки) может радикально меняться на разных этапах жизни и под воздействием различных внешних условий.
Большинство современных социологов и философов полагает идентичность – социальную, национальную, конфессиональную и пр. – не врожденной чертой, а «сконструированной», т. е. воспитанной культурой окружающей среды. Исключение представляет персональная идентичность: она, отмечает политолог Дэвид Лэйтин, «твердо зафиксирована в изначальном, родовом дискурсе», и человек, придумывающий себе новые имя и репутацию, обычно считается мошенником{13}. Тем не менее и по этому вопросу полного согласия среди ученых нет. В своей работе, посвященной социальной психологии, оксфордский философ Ром Харрё утверждает, что персональная идентичность тоже, по сути, формируется человеком на основе культурных норм[9]9
«Мы творим наше личностное бытие, веруя в теорию “Я”, которая основывается на принятой в нашем обществе концепции личности»: Harre R. Personal Being: A Theory for Individual Psychology. Cambridge, Mass., 1984. P. 26.
[Закрыть].
Конечно, здравый смысл требует принимать положение о «сконструированности» социальной идентичности с известными оговорками. Как указывает Лэйтин, «социальная солидарность строится на реальном фундаменте»: «Определяя собственную идентичность, люди бывают ограничены своими генами, своим внешним обликом, своей историей, хотя и не являются их узниками»{14}. Если обратиться к советским примерам, – образованный горожанин, не имеющий деревенских корней, вряд ли сумел бы сконструировать себе идентичность «бедного крестьянина», зато сельский житель, чья семья, пусть в настоящий момент и бедная, принадлежала к духовному сословию или процветала когда-нибудь в прошлом, вполне мог получить от своих врагов ярлык «кулака».
Харре рассматривает два направления формирования идентичности: конструирование социальной идентичности, означающее отождествление себя с некой группой или категорией, и конструирование персональной идентичности, имеющее целью установить степень своей особости внутри категории. Первое, по его словам, является «главной задачей» для «маргиналов», которые изначально не имеют ясного социального положения и нуждаются в том, чтобы «слиться… с каким-нибудь фоном… приобрести защитную окраску». Второе – для людей, твердо стоящих на своем месте, «тех, у кого слишком много социальной идентичности, кто родился в лоне семьи, класса или нации, слишком детально задающих им способ социального бытия». Для них «проблема – выделиться из толпы», выработать сознание своей особости{15}. Психологов, лукаво замечает Харре, в основном интересует социальная идентичность, потому что они «сами в той или иной степени маргиналы». А как насчет революционных переворотов, когда происходит массовая дестабилизация социальной идентичности? Мне кажется, к таким условиям концепция Харре особенно подходит. В более широком смысле можно сказать, что социал-конструкционистский подход к истории дает наибольшие дивиденды в ситуации, когда огромное множество людей, лишившись социальных «руля и ветрил» (например, во время революции), испытывают величайшую потребность найти социальную категорию, к которой они могли бы прибиться.
Еще один способ рассматривать те же вопросы – обратить внимание на поведение людей, разыгрывающих (как актеры перед публикой) присвоенные себе роли и характеры (социальную и персональную идентичность)[10]10
Отметим, что приведенные ниже рассуждения о спектакле (performance) не связаны с понятием перформативности, сформулированным в 1960-е гг. философом-лингвистом Дж. Л. Остином (он главным образом рассматривал речевой акт, который совершает нечто, – например, когда священник объявляет венчающуюся пару мужем и женой) и позднее развивавшимся в рамках гендерной теории в некоторых сомнительных исследованиях (см., напр.: Performativity and Performance / eds. A. Parker, E. Kosofsky Sedgwick. London, 1995).
[Закрыть]. Это лейтмотив работ Ирвинга Гофмана, начиная с «Презентации себя в повседневной жизни» и далее: «Фреймовый анализ», «Клеймо» и пр. Гофман сделал большое дело, показав, что такое разыгрывание ролей – универсальное явление, не имеющее ничего общего с мошенничеством, т. е. развив шекспировское: «Весь мир – театр»{16}. Говоря словами Роберта Эзры Парка, цитируемыми Гофманом: «Вероятно, это не просто историческая случайность, что первое значение слова “личность” – “маска”[11]11
Англ. «person». Наиболее близкий русский эквивалент в данном значении, наверное, «личина». – Прим. пер.
[Закрыть]. Скорее, это признание того факта, что все всегда и всюду более или менее сознательно играют какую-то роль… В этих ролях мы узнаем друг друга; в этих ролях мы узнаем себя. В некотором смысле, поскольку маска показывает то представление о нас, которое сложилось у нас самих (роли, в которые мы стремимся вжиться), эта маска – наиболее истинное наше “Я”, “Я”, каким мы хотим быть. В конечном счете наше представление о собственной роли становится нашей второй натурой и неотъемлемой частью нашей личности»{17}. Таким образом, подчеркивает Гофман, нет четкой грани между «циничными» спектаклями (когда «индивид не верит своей игре и в конечном счете не заботится о том, верит ли ей аудитория») и «искренними» (когда актер «полностью находится под впечатлением от собственного исполнения»){18}. Фактически спектакль может начаться как «циничный» и под конец превратиться в «искренний» (по мнению Парка), или наоборот (если что-то поколеблет уверенность исполнителя, что личность, которую он представляет, «истинная»).
Разумеется, к гофмановскому тезису о повсеместной драматической саморепрезентации можно добавить оговорку в духе Харре: она, если можно так выразиться, более универсальна для некоторых людей и в некоторых обществах; маргиналы больше склонны к ней (и, несомненно, больше в ней заинтересованы){19}. Революционное российское (советское) общество, с его неустанным беспокойством по поводу классовой и политической идентичности и богатым набором практик маскировки и разоблачения, – именно такой случай. Осознание театральности жизни было не только широко распространено среди населения, но и проникло в официальный дискурс. Театральная метафора маски в 1920-1930-е гг. постоянно использовалась во всех уголках страны, и те же годы стали периодом расцвета особой формы политического театра – показательных процессов{20}. Образы театра, сценической игры появлялись в самых неожиданных контекстах, например, когда кто-нибудь эзоповым языком заводил речь о голоде 1932-1933 гг. (официально его не признавали): в газетах и бюрократических документах говорилось, что крестьяне «инсценируют» голод, «агитируют», моря себя голодом, нищие «выдают себя за разоренных колхозников»{21}.
Метафора спектакля не всегда употреблялась в отрицательном смысле. Сталина интересовало умение перевоплощаться, способность актера «стать» персонажем, которого он играет{22}. Глагол «стать» играл центральную роль в дискурсе социалистического реализма 1930-х гг.{23} Если перед обществом стояла задача стать социалистическим, а значит, совершить трансформацию самой своей сути, то задачей индивида было стать культурным человеком, т. е. трансформировать не столько суть, сколько поведение – все равно что выучить роль. Вряд ли будет большой натяжкой предположение, что постоянные призывы «учиться», «воспитывать», «овладевать культурой» в 1930-е гг. составляли часть дискурса спектакля – самого главного для довоенного сталинизма.








