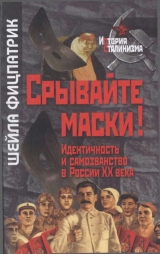
Текст книги "Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России"
Автор книги: Шейла Фицпатрик
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА 8.
ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ[106]106
Это переработанный вариант моего введения «Судьбы и время» («Lives and Times») к сб.: In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War / eds. S. Fitzpatrick, Yu. Slezkine. Princeton, 2000. P. 3-17. В первоначальной редакции введения говорится в основном о женских автобиографиях, опубликованных в сборнике; я расширила его за счет привлечения ряда других автобиографических и архивных источников.
[Закрыть]
Женские автобиографии (говорят нам современные исследователи{187}), как правило, сосредоточены не на общественном, а на личном, носят характер не столько свидетельства, сколько исповеди, показывают их авторов в отношении к значимому для них «Другому» мужского пола, например к супругу, и даже ставят под вопрос само их право говорить о своей отдельной, самостоятельной жизни. Но биографии, рассказанные русскими женщинами XX в., трудно подогнать под этот шаблон. Типичная автобиография русской женщины межвоенного периода (1917-1941 гг.) относится именно к жанру свидетельства – документа эпохи, а не исповеди; она в гораздо большей степени посвящена общественным делам, нежели личным, семейным[107]107
Слово «автобиография» я использую для обозначения разного рода письменных или устных рассказов о своей жизни, включая мемуары, а не только в узком значении «самоисследования», предложенном Карлом Вейнтраубом: Weintraub К. Autobiography and Historical Consciousness // Critical Inquiry. 1975. June.
[Закрыть]. Если в этих историях и присутствует достойный внимания «Другой», то это чаще государство, чем отец или муж. Русские женщины нередко пишут о себе как о жертвах, страдающих, однако, не из-за своего пола: они (вместе с мужчинами) – жертвы коммунизма, капитализма или просто Истории. Но среди них на удивление много таких, кто изображает себя и своих родственниц сильными женщинами – не зависимыми иждивенками, а борцами за выживание, стойкими и смекалистыми, которые и морально, и даже физически сильнее своих мужчин{188}.[108]108
О том, как женщины в революционную эпоху разрывались между «мужским» полюсом равенства / независимости и «женским» полюсом вспомогательных и воспитательных функций / зависимости, см.: Wood E. Baba and Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloomington, Ind., 1997. О весьма интересном, но исключительном примере Надежды Мандельштам, личности сильной и уверенной, представляющей себя в автобиографии в роли жены и помощницы, см.: Holmgren B. Women's Works in Stalin's Time: On Lidiia Chukovskaia and Nadezhda Mandelstam. Bloomington, Ind., 1993.
[Закрыть]
Эти женщины как будто не сомневаются в своей способности быть свидетелями и летописцами. Татьяна Варшер, которую вскоре после революции спросили, как она смотрит на новое правительство, вызывающе ответила: «Широко открытыми глазами историка»{189}. На тот момент Варшер действительно была профессиональным историком, но подобное чувство испытывала не она одна. «Я пишу только о том, как эти события воспринялись и отразились в скромном, глухом уголке России, станице Кореновской», – объясняет Зинаида Жемчужная. Рассказывая о бое в станице во время Гражданской войны, она замечает: «Меня удерживало на улице любопытство»{190}. У других женщин стремление засвидетельствовать происходящее порождалось жаждой справедливости и возмездия. «Очень хочется, чтобы мое письмо-повесть было бы опубликовано, хотя бы за все наши страдания и несправедливые мучения», – пишет крестьянка, жертва коллективизации Мария Вельская{191}.
Склонность к роли свидетеля характерна для всего спектра русских женских автобиографий: эмигрантских, советских, диссидентских, постсоветских. Русские женщины (как и мужчины) писали о своей жизни в контексте эпохи, поскольку чувствовали, что живут в необыкновенное время – оно затмевало собой личные заботы и его невозможно было игнорировать. Им, словно по китайской пословице, выпало несчастье жить в эпоху перемен, и это нашло отражение в стиле их рассказов: многие автобиографии напоминают военные репортажи. Они вспоминали свою жизнь и строили повествование, выбирая в качестве вех крупные общественные события – революцию, Гражданскую войну, коллективизацию, Большой террор, Вторую мировую войну, а не личные памятные моменты – свадьбу, рождение ребенка, развод или вдовство.
Хотя основная нить свидетельских показаний у всех общая, русские женщины очень по-разному смотрят на свою жизнь и свое время. Начнем с того, что некоторые из них писали воспоминания в эмиграции, и угол зрения у них, естественно, иной, чем у советских гражданок. Среди эмигранток тоже были свои различия, в частности между теми, кто эмигрировал вскоре после революции, и теми, кто уехал из Советского Союза во время Второй мировой войны. Что касается советских биографий, то одни сочинялись для советской же публики, в духе советского патриотизма, другие писались «в стол» или для неофициального распространения (через «самиздат») людьми, которые чувствовали себя чуждыми советской системе, так сказать, «внутренними эмигрантами». Для советских мемуаров очень часто имеет значение дата их написания. Например, Фрума Трейвас, рассказывая историю своей жизни, постоянно сравнивает свой взгляд на вещи в 1930-е гг. и во время работы над биографией (1990-е гг.). Если бы она писала биографию в 1936 г. (или в 1926-м, или в 1946-м), та, несомненно, была бы совсем иной{192}.
Важно понимать, какие ограничения стесняли авторов советских мемуаров. Воспоминания, написанные для печати, подвергались цензуре, степень строгости которой со временем изменялась{193}. В сталинский период цензура была очень суровой: на такие темы, как Большой террор, накладывалось табу, упоминать опальных революционных лидеров, например Троцкого, запрещалось. После смерти Сталина в 1953 г., в хрущевскую оттепель, лед немножко тронулся, стала возможной публикация не совсем стереотипного рассказа Анны Литвейко о революции глазами рабочей девчонки и воспоминаний Лидии Либединской о юности в интеллигентной семье с аристократическими корнями{194}. Однако даже в период смягчения цензура по-прежнему определяла, как люди должны рассказывать историю своей жизни. Взять хотя бы самый важный цензурный запрет: о родных и друзьях, сгинувших в годы Большого террора, можно было упоминать только очень бегло, с помощью эвфемизмов.
В середине 1980-х гг., во времена перестройки, советский идеологический контроль начал давать слабину и совсем исчез вместе с развалом Советского Союза в 1991 г. Впрочем, нельзя сказать, что автобиографии, публиковавшиеся в России в 1990-е гг., были свободны от внешних влияний: в ту пору и читатели, и издатели жаждали непременно рассказов жертв советского режима. Похожий диктат действовал и на западном книжном рынке в довоенные годы, когда живописание большевистских зверств стало главным признаком жанра в мемуарах русских эмигрантов. А в 1970-х гг. тема вольнодумства и противостояния советской власти являлась стандартным компонентом популярных на Западе воспоминаний советских диссидентов{195}.
В автобиографических повестях Евгении Гинзбург мы можем увидеть влияние и цензуры, и требований жанра, и читательских предпочтений. Гинзбург опубликовала воспоминания о своих школьных и студенческих годах в советском молодежном журнале «Юность» в 1965 и 1966 гг., прежде чем закончила две большие книги о ГУЛАГе, которые вышли за рубежом в 1967 и 1979 гг.{196}Повести, напечатанные в «Юности», написаны с легкой иронией и подчеркнутой беспристрастностью, в популярном тогда в СССР духе ностальгии по досталинской эпохе: «Сколько раз потом, в тяжелые времена, я вспоминала этот первый рассвет двадцатых годов и черпала силу в этом воспоминании! Великие, чистые, юные наши двадцатые годы…»{197},[109]109
«Тяжелые времена» – намек на выпавшие автору впоследствии испытания террора, единственный, который могла тогда пропустить цензура, но вполне понятный советскому читателю.
[Закрыть] Вспоминая об учебе в Казанском университете в начале 1920-х гг., Гинзбург рассказывает, как ревностно она и ее однокашники изучали марксизм. Первую книгу «Крутого маршрута» она еще надеялась напечатать в СССР, и эта надежда отражается в том, что автор придерживается правила осуждать исключительно «культ личности» и ратовать за возвращение к «великой ленинской правде»[110]110
Гинзбург Е. Крутой маршрут. Милан, 1967. С. 8. Здесь в прологе есть захватывающее описание того, как работал «внутренний цензор» Гинзбург, когда она надеялась на публикацию в Советском Союзе.
[Закрыть]. Во второй книге, которая создавалась, когда уже окончательно стало ясно, что в Советском Союзе «Крутой маршрут» опубликовать не удастся, Гинзбург больше не прибегает к имиджу «ленинца», и ностальгические нотки исчезают. Судя по замечанию: «Меньше всего я могла себе представить, что эту страстно вымечтанную свободу мы [жертвы ГУЛАГа] будем получать из рук все того же (выражаясь по-нынешнему) “истеблишмента”», – и сознательному выбору иностранного словечка «истеблишмент», незнакомого многим русским читателям, она в данном случае изначально рассчитывала на западную (или, по крайней мере, эмигрантскую) читательскую аудиторию[111]111
Гинзбург Е. Крутой маршрут. [Кн. 2]. Рига, 1989. С. 301. Все сказанное не означает, что Гинзбург в молодости не была настоящей марксисткой и коммунисткой или что ее авторская позиция во второй книге «Крутого маршрута» неискренна. Мы лишь развиваем ее собственную мысль, что история, рассказываемая человеком, меняется в зависимости от того, кто его слушает, а цензура усугубляет этот процесс.
[Закрыть].
Русские женщины рассказывали повести своей жизни в самых разных жанрах, и письменно, и устно. Среди советских биографий важное место занимали революционные, рабочие и стахановские. Биографии революционеров, продолжавшие дореволюционную традицию жизнеописаний замечательных людей, пользовались особенной популярностью в 1920-е гг.{198} В начале 1930-х гг. в рамках возглавляемого М. Горьким проекта «История фабрик и заводов» собирались биографии рабочих{199}. Еще одним распространенным жанром были рассказы участников революции и Гражданской войны, где акцент делался на героизме революционной борьбы.
Стахановки – работницы и крестьянки, которых награждали за выдающиеся производственные результаты, – иногда писали свои биографии, как, например, Паша Ангелина, но чаще кратко рассказывали о своей жизни на митингах, посвященных стахановским достижениям. Это был один из характерных типов советской «истории успеха». Другой – история женщины скромного происхождения, добившейся видного положения после (и благодаря) революции. Оба напоминают жанр, известный в Латинской Америке под названием «testimonios» («свидетельства»): там мужчина или женщина из рядов революционно-освободительных движений свидетельствует о своем участии в борьбе, изображая себя не столько как отдельную личность, сколько как представителя коллективного опыта{200}.
В 1960-1970-е гг. в СССР наблюдался наплыв публикаций рассказов участников коллективизации и индустриализации 1930-х гг., нередко посвященных какому-то конкретному региону{201}. «Участники» в данном контексте означало активистов, чаще всего коммунистов и комсомольцев, и повествование они вели в хвалебном тоне. Участникам-жертвам – например, крестьянам, подвергшимся раскулачиванию, – в советские времена слова не давали; даже в тех редких случаях, когда их рассказы записывались, о публикации не могло быть и речи{202}. Лишь в постсоветские 1990-е гг. начался расцвет устной истории, зачастую сфокусированной именно на жертвах. В Москве для сбора такого рода документов был создан Народный архив, сходные инициативы по сбору личных документов и свидетельств стали возникать по всей России{203}.
В годы советской власти у граждан вошло в привычку писать в газеты и политическим лидерам просьбы и жалобы, как правило, включая в такие письма краткую автобиографическую справку[112]112
О жанре писем во власть см. гл. 9.
[Закрыть]. Письма эти публиковались очень редко, но архивы советских учреждений и газет битком набиты ими. Открытые в последнее время советские архивы содержат другой небезынтересный автобиографический материал – автобиографии, хранившиеся в личных делах всех советских граждан вместе с анкетами{204}. Еще один жанр, обнаруженный в архивах – и особенно интересный в силу своей характерности для политических систем советского типа, – публичное изложение автобиографии с ответами на вопросы, например во время партийной чистки, когда достоверность рассказа могла быть оспорена{205}.
Вехи общественной жизни
Революции 1917 г. занимают центральное место во многих автобиографиях. Февральскую революцию мемуаристки из всех слоев общества вспоминают как радостное, беззаботное, бескровное время. Женщина, принадлежавшая к высшему классу, рассказывает о восторгах, которые вызвал казачий отряд, проскакавший сквозь толпу демонстрантов, вместо того чтобы разогнать ее: «Народ ошалел. Одни плакали, другие целовались с соседями… Революция! Что бы это могло быть еще! Революция! И она победит! Даже казаки с народом!»{206} Ей вторит работница: «Прибежали к нам мамаи [прозвище рабочих ситценабивной фабрики], шумят: “Останавливай фабрику”. Мы думаем: “Забастовка”. Выходим на улицу тут шумят: “Переворот”, дух поднялся у всех. На другой день нам говорят: “Царя поймали, царя поймали”, и мы пошли смотреть. Видим, двое мальчишек городового ведут, и он не бежит, пошел с ними в участок. Мы пошли по Москве с песнями. В ту пору очень было хорошо»{207}. Советские мемуаристки поневоле выдвигают на первый план Октябрьскую революцию, но тон их становится менее восторженным. Одна большевичка признается: «Той беспечной веселости, какая была у нас после победы Февральской революции, теперь уже не было. Тогда мы ни о чем не думали: свершилась революция, все хорошо. Мы ни за что не отвечали. Теперь мы взяли власть, и мы были в ответе за все»{208}. Работнице Прасковье Комаровой в октябре, по ее словам, «было очень страшно»: «Вскоре я уехала в деревню к мужу: страшно мне было после стрельбы»{209}. Мемуаристки-эмигрантки обычно не придают Октябрю статус великого события: они вспоминают наступление хаоса и зверства, вылившихся в Гражданскую войну, которая окончательно разрушила знакомый им мир.
Гражданская война почти для всех стала временем перелома, а для многих – временем беспорядочных скитаний и бегства. В одних воспоминаниях описывается бегство на юг или на восток и борьба за существование в районах, попеременно переходивших то в руки красных, то в руки белых{210}. Другие мемуаристки бежали к красным и отразили пережитое в героическом стиле рассказов участников Гражданской войны в СССР{211}. Солдатские вдовы рассказывают о своих невзгодах, как, например, М. И. Незгорова, которая, повествуя о тяготах Гражданской войны, между прочим лаконично сообщает: «Потом детей взяли у меня в воспитательный дом. Но, когда муж вернулся из Красной Армии, мы их забрали обратно»{212}. Некоторые мемуаристки потеряли родных и кров и влачили существование бездомных сирот, пока их не приютили добрые люди{213}. Молодые еврейские женщины перебирались из местечек в Москву, к новой жизни{214}.
Коллективизация занимает большое место в воспоминаниях как деревенских женщин, так и молодых горожанок, которых посылали ее проводить, но сами воспоминания и переживания по этому поводу сильно разнятся. Для Паши Ангелиной коллективизация представляла собой сражение между бедняками ее села во главе с семьей Ангелиных и кулаками; для Антонины Соловьевой и Елизаветы Никулиной, комсомолок-коллективизаторов, рассказавших о своей деятельности в те годы в советской публикации 1960-х гг., «кулаки» – люди, уложившие на больничную койку Валентина, убившие Марусю, сбросившие Елизавету с моста в ледяную воду и оставившие тонуть. Но одноклассник Валентины Богдан, Федя, наложил на себя руки, не желая оставаться коллективизатором, а жертва раскулачивания Ненила Базелева с горечью замечает: «Которые хозяева хорошие, тех и раскулачивали – забирали у них все». Мария Вельская уже в 1990-е гг. поведала душераздирающую повесть о раскулачивании своей семьи: выброшенные из своего дома, несчастные несколько лет скитались по России, пока не нашли где поселиться. Семья Анны Ганцевич тоже покинула деревню, но все же не таким печальным образом: «Мы… бумажки достали и жили в Красноярске». В судьбе Екатерины Правдиной, сироты, жившей в деревне у тети, «бумажки» также сыграли решающую роль, однако в другом смысле: «…Они меня хотели удочерить, но удочерить они меня не успели. Вот это меня спасло. Справок каких-то не хватило. А если бы успели удочерить – я тоже была бы раскулаченная»{215}.
Террор 1937-1938 гг. был запретной темой в советской литературе и в сталинскую эпоху, и долгие годы после нее, но в конце 1980-х гг. перестройка открыла шлюзы: хлынул поток воспоминаний выживших узников ГУЛАГа и их родственников, который не иссякал и в 1990-е гг. Желание поведать миру об увиденных и пережитых ужасах часто называли в качестве стимула, заставлявшего сесть за письменный стол{216}. Сами жертвы обычно сохраняли особенно яркие воспоминания о своем потрясении и смятении в момент ареста и в первые дни в тюрьме. Ольга Адамова-Слиозберг, отказываясь верить в случившееся, усердно трудилась над докладом начальству все четыре часа, пока в ее квартире шел обыск, и арестовывавшему ее офицеру пришлось напомнить ей, чтобы она попрощалась с детьми. Фрума Трейвас рассказывает, как за ней, бывшей на пятом месяце беременности, пришли работники НКВД: «Сына я оставила спящего, дура! Что бы позвонить сестре. Ну, как же, мне некогда, нужно идти скорее в тюрьму!» Когда арестовали 20-летнюю журналистку Хаву Волович, та «не верила, что ее будут держать долго». «И в то же время, – добавляет она с горечью, – я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена»{217}. И Хава, и Фрума поначалу считали своих соседок по камере настоящими преступницами. «Боже мой! Где я очутилась, с кем, в какой компании!» – первая реакция Трейвас по прибытии в Бутырскую тюрьму «Они, конечно, были виновны, но я-то нет». И все же многие пишут о почти сестринских отношениях между арестованными женщинами, тем более что жены представителей элиты часто содержались в заключении вместе. Директор театра Наталия Сац в своих мемуарах, опубликованных в начале 1990-х гг., описывает, как вошла в Бутырке в камеру, набитую «элитными» заключенными, – будто на светский раут попала:
«– Неужели сама Наталия Сац?
– Когда же она успела поседеть?..
– Если Наташку тоже свалили – удивляться нечему»{218}. Вообще у читателя женских воспоминаний о Большом терроре
порой возникает впечатление довольно тесного мирка: например, в одном товарном вагоне, везшем узниц через всю страну в Магадан, сошлись два будущих летописца этих событий – Катя Олицкая и Женя Гинзбург. Уцелев после десятка лет в ГУЛАГе, обе в своих мемуарах вспомнили друг о друге, правда без особой приязни: Катя была эсеркой, одной из сравнительно немногих подлинных противников режима среди заключенных, а Женя принадлежала к группе высокопоставленных коммунисток, чьи былые привилегии и нынешние иллюзии вызывали у Кати мало сочувствия{219}. О трениях, возникавших у коммунисток с эсерками и меньшевичками, говорит и Адамова-Слиозберг в своих воспоминаниях о Бутырской тюрьме: последние «давно ходили по тюрьмам», «умели отстаивать свои права, знали все законы», твердо определились в своей ненависти к режиму и пророчили его скорый крах. «Со скрытой радостью встречали они новые партии арестованных, особенно коммунистов, которые когда-то травили их, а теперь разделят с ними тюремные нары»{220}.
Однако многие женщины, которых террор прямо не коснулся, этот мир и вообразить себе не могли. В интервью, взятых в 1990-е гг., респондентки, не подвергавшиеся репрессиям сами и не имевшие репрессированных родственников, редко проявляли сильные чувства по поводу Большого террора. У некоторых, как у Хадычи Якубовой, татарки, учившейся в Ленинграде, «какого-то такого интереса к политике не было», но в основном они разделяли «общественное мнение» насчет «врагов народа»: «Мы считали, обязательно, что они должны быть наказаны, если они против народа». «Как-то это [террор 1937-1938 гг.] меня мало очень касалось», – признается Екатерина Правдина, хотя тогда арестовали нескольких ее заводских начальников, которые ей лично нравились. Она ходила на обязательные собрания по чистке, но… «Как вам сказать, я девчонкой была. У меня как-то все мимо ушей пролетало, потому что я не хотела, у меня никакого интереса не было…» Наталья Коло-кольцова, деревенская девушка, которая сначала служила домработницей, а потом пошла на фабрику, уверяет, что даже не слышала ни о каких репрессиях{221}.
Никто из участников этих интервью 1990-х гг. не вспоминал о какой-то сильной своей враждебности к «врагам», однако в биографиях другого типа подобная враждебность проглядывает. Воинственная доярка М. К. Разина, рассказывая о себе на собрании стахановцев в середине 1930-х гг., с удовольствием упомянула о падении директора совхоза, который ее преследовал. Похожим Schadenfreude[113]113
Злорадством (нем.) – Прим. пер.
[Закрыть] дышали слова одной уборщицы (подслушанные В. Богдан) по поводу ареста местного партийного начальника Евдокимова и самоубийства его жены:
«– А кто такой Евдокимов?
– Да как же, член президиума облисполкома и наш выборный в Верховный Совет, а его жена тоже была видная коммунистка.
– Собаке собачья смерть! – ответила уборщица»{222}.
Не у всех сохранилась память исключительно об ужасах. Многие женщины, в той или иной форме рассказывавшие свои биографии в послесталинский период, вспоминали детство и юность в 1920-1930-е гг. как счастливую пору, когда все казалось возможным. Отчасти это наверняка объясняется общей тенденцией оглядываться на свою молодость с ностальгией. По словам Ю. Слезкина, такую тенденцию только усиливало потрясение от ареста родителей во время Большого террора, которым для многих мемуаристок из семей элиты закончилось «счастливое мирное детство»{223}. Однако не все описания радостного детства неразрывно связаны с трагическим изгнанием из рая в конце 1930-х гг. В жизни Раисы Орловой печальную черту провели война и смерть любимого молодого мужа, и ее воспоминания о счастье юной «правоверной» советской девушки вряд ли можно назвать ностальгическими, учитывая, что она писала мемуары, будучи диссиденткой, которой такая «правоверность» стала совершенно чужда. «“Heute fuhl' ich mich so wunderbar!” (Как я счастлива сегодня), – напевали мы вслед за Франческой Гааль»[114]114
Актрисой, игравшей в фильме «Петер», который шел в 1930-е гг. в московских кинотеатрах.
[Закрыть], – рассказывает она и подчеркивает, что не только «была очень счастлива в юности», но и считала: «Так надо, так нормально, человек рожден для счастья. А несчастье, горе – это отклонение, аномалия»{224}.
Ленинградцы, которых в интервью 1990-х гг. расспрашивали об их молодости в 1930-е, тоже в основном сохранили очень хорошую память о том времени, объясняя это царившим тогда оптимизмом и достижениями страны. X. Якубова вспоминала веселую студенческую жизнь в Ленинградском университете, куда приезжали люди со всех концов страны (многие, как и она, благодаря выдвижению), «полное единение студентов, так сказать, по каким-то интересам духовным» и их идеализм; «Мы думали, что действительно всерьез будем строить самое человеческое общество». Ей вторила Бронислава Коган: «Мы все были молодые, тянулись в комсомол, тянулись к новому. И партийные тянулись к новому. Думали, что вот настает настоящая эра, свобода». Мария Шамлиян из Армении, тоже выдвиженка и сирота, описывала свою активную комсомольскую и партийную работу в ремесленном училище и на фабрике, которая приносила ей и вознаграждение, и большое личное удовлетворение: ее не только «все время… выдвигали», но и «народ» к ней «относился очень хорошо»{225}.[115]115
Отметим, что эмоциональная окраска интервью, взятых Энгель и Посадской примерно в тот же период, в целом совершенно иная. Вполне возможно, интервьюируемые в обоих опросах отчасти отвечали то, что, по их мнению, интервьюеры ожидали услышать. Не-большая группа опрошенных Энгель и Посадской состояла по преимуществу из женщин, которые в 1930-е гг. пострадали из-за «чуждого» классового происхождения. Они мало говорили о счастливой юности, хотя, судя по их рассказам, были все-таки больше довольны советской властью и сильнее идентифицировали себя с ней, чем, по-видимому, полагали интервьюеры.
[Закрыть]








