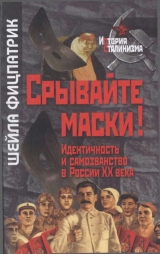
Текст книги "Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России"
Автор книги: Шейла Фицпатрик
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
«Свидетельствованию» в автобиографиях русских женщин XX в. придается такое большое значение, что моменты исповедальности там трудно найти. Пожалуй, к исповедальному жанру относится устное повествование Анны Янковской об искуплении преступной жизни, записанное в лагере на Беломорканале в начале 1930-х гг., так же как и драматичный рассказ Параскевы Ивановой о том, как ее соблазнил и вовлек в разврат начальник-коммунист{226}. Но настоящее исключение среди подавляющего большинства воспоминаний-свидетельств – автобиграфия Агриппины Коревановой, плод горьковского проекта публикации биографий простых людей:
«Что же заставляло меня писать? Я думаю, две причины.
Первая причина – моя неудачная жизнь толкала меня на самоубийство. И вот я решила записать все мои мученья, чтобы нашли люди после смерти мои тетради и узнали бы причину, заставившую меня покончить с собой.
Вторая причина – это злоба и ужас перед несправедливостью жизни, гнев за угнетение женщины и за ее бесправие, жалость к бедным и ненависть к тугому кошельку. Обо всем этом я писала, хотя и неумело, плохими литературными словами, но с жаром и горечью. Злобно высмеивала я своих врагов и обличала несправедливость. Толку, конечно, от этого писания было мало, но меня это как бы утешало…»{227}
Разумеется, во многих автобиографических повестях личная жизнь сосуществует с общественной. Иногда, например в трагическом рассказе бойца Гражданской войны Анны Анджиевской об утрате маленькой дочки, она громко заявляет о себе, резко нарушая «свидетельскую» тональность воспоминаний[116]116
Andzhievskaia A. A Mother's Story // In the Shadow of Revolution. P. 79-81. Отметим, что заголовок «Рассказ матери» дан составителями. Изначально эти воспоминания, как и весь сборник, откуда они взяты (Женщина в гражданской войне: Эпизоды борьбы на Северном Кавказе и Украине в 1917-1920 гг. М., 1938), написаны в жанре прославления женского героизма в годы войны и революции.
[Закрыть]. Но чаще, особенно у советских авторов, информация личного характера сведена к минимуму или опущена. «Неужели вам действительно интересны эти мелкие подробности моей жизни – мое детство, моя семья, как я примкнула к революционному движению?» – строго спросила интервьюеров в 1990-х гг. Софья Павлова. Она хотела рассказывать о своей общественной деятельности, о личных делах говорила неохотно и только при условии, что это не будут записывать{228}. Стахановка Паша Ангелина в своей автобиографии высмеивает американского биографа, который пожелал узнать дату ее свадьбы, и даже не упоминает о муже (видимо, бывшем?){229}. Конечно, личный материал из автобиографических текстов зачастую удаляли редакторы. Но его отсутствие – это также и следствие представлений авторов о том, какой должна быть автобиография{230}. «Я долго сомневалась, уместно ли писать о таком личном в книге мемуаров, посвященных нашей общей боли, нашему общему стыду. Но Антон Вальтер так плотно вошел в мое дальнейшее колымское существование, что было бы просто невозможно продолжать рассказ, не объяснив, откуда и как Вальтер появился в моей жизни», – писала Евгения Гинзбург о встрече со своим вторым мужем в ГУЛАГе. Она в конце концов решилась включить в текст эти воспоминания, потому что ей «хотелось на его [Вальтера] образе показать, как жертва бесчеловечности может оставаться носителем самого высокого добра, терпимости, братского отношения к людям»{231}.
Есть немало автобиографий женщин, претендующих на звание «сильных». Назовем в первую очередь княгиню Волконскую, совершившую во время Гражданской войны отважное тайное путешествие в Россию, чтобы спасти брошенного в тюрьму мужа. Ее двойник в лагере красных – санитарка Зина Патрикеева, которая, переодевшись мужчиной, сражалась в рядах конармии Буденного. Во многих автобиографиях, изданных в Советском Союзе, женщины изображают себя подчеркнуто независимыми, равными мужчинам, а то и превосходящими их, даже в традиционно мужских видах деятельности. Анна Щетинина, помощник капитана торгового флота, отвечая в 1930-е гг. на вопросы корреспондента советского женского журнала, сравнивала себя со своим коллегой-мужчиной, отнюдь не в пользу последнего: «Из двух помощников капитана я была тем, кого подчиненные больше слушали и уважали. Помощник-мужчина, мой сотоварищ, был франтоват, слабоват, порой ошибался. Цветочки носил в петлице». Самоуверенная молодая кабардинка Билия Мисостишхова, похваляясь на съезде стахановцев в середине 1930-х гг. своими достижениями в скалолазании, обещала: «И в парашютном деле я буду впереди мужчин»{232}. Энтузиазм революционной эмансипации женщин, вдохновлявший подобные заявления, особенно заметен в довоенных мемуарах, после войны он уступил место восхвалению женщин как сильного пола, обладающего большим запасом эмоциональной и физической прочности. «В тяжкие дни выявилась организующая роль женщины, которая притворялась дамой и птичкой, а на самом деле была домостроительницей и главным стержнем семьи. Богатые женщины, как и крестьянские бабы, строили дом. Чем богаче, тем энергичнее. Правда, именно обеспеченные в прошлом оказались более слабыми в борьбе с голодом и разрухой, но все же и они держались крепче мужчин. Сейчас это ясно всем», – писала Надежда Мандельштам в 1960-е гг. И крестьянка Анна Ганцевич, называвшая себя в устном рассказе 1990-х гг. «сильной, выносливой и бесстрашной», явно разделяла эту уверенность, несмотря на то что, как и Мандельштам, считала своего мужа выше себя в интеллектуальном отношении{233}.
Мемуарная литература изобилует портретами и других сильных женщин, встречавшихся авторам на жизненном пути. Один из классических примеров – Батаня, неукротимая бабушка Елены Боннэр, с ней живо соперничает внушительная аристократическая бабушка Лидии Либединской, а в автобиографии Шихеевой-Гайстер роль «неукротимой бабушки» после ареста родителей берет на себя домработница. Мария Вельская посвятила свои мемуары двужильной матери-крестьянке, Арине, которая не дала семье распасться после раскулачивания; Евгения Гинзбург изобразила свою свекровь как кладезь безыскусной мудрости и здравого смысла{234}. Другой тип сильной женщины, сексуально раскрепощенной революционерки, мы видим в нарисованном Валентиной Богдан портрете ее сокурсницы по училищу Ольги – своенравной, независимой, свободолюбивой, смелой в отношениях с мужчинами{235}. Женщины, в чьей жизни работа и общественные обязанности занимают так много места, что они с трудом находят время для детей, показаны в ряде воспоминаний их дочерей{236}. А несколько мемуаристок-эмигранток, со своей стороны, представляют нам образ сильной женщины-коммунистки – бесполой фанатички, еще более беспощадной, чем ее товарищи-мужчины{237}.
На противоположном конце спектра важной темой автобиографий русских женщин является их положение жертвы. Типичные для «жертвы» нотки звучат в словах крестьянки Ефросиньи Кисловой, которая в 1970-х гг. начала свою устную историю жалобой: «Я горя тяпнула больше всех». В народных песнях, спетых Кисловой для фольклориста, речь идет главным образом о страданиях от руки мужчины, но в ее рассказе и в интервью других крестьянок мучителем выступает государство: «Хлеб государству, а нам костер»; «А тады, милки, как уже стала ета власть, так тады нас раскулачили»{238}. – Мемуары Вельской – настоящая сага о том, как государство преследовало крестьянскую семью, написанная под влиянием перестройки, – в итоге превращаются в обвинительный акт против Сталина. («Наше ему “большое” спасибо за такое “счастливое детство”», – язвительно пишет она{239}.) Воспоминания эмигранток первой волны часто складываются в историю гонений и издевательств со стороны большевиков и советской власти, практически во всех воспоминаниях о Большом терроре также volens nolens[117]117
Волей-неволей (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] делается упор на это{240}. Вера Шульц писала о своем аресте в 1938 г.: «Невозможно забыть такой жестокий и бессмысленный удар, затронувший всю твою жизнь. Невозможно забыть, что человек в любой миг может превратиться в бессильную, униженную пешку»{241}.
Впрочем, Кэтрин Мерридейл, беседуя в 1990-е гг. со своими респондентами о пережитых репрессиях, заметила, что уцелевшие часто не склонны говорить о своей жизни исключительно с позиции жертвы: «Большинство людей рассказывали о том, как они выжили… Они нашли свои способы справляться с потерями – человеческими и материальными – и до сих пор гордятся своей стойкостью»{242}. То же самое желание показать себя не жертвой (или не только жертвой), а борцом очевидно и в записанных в 1990-е гг. устных историях крестьян. «Иной раз изругаешься и заплачешь», – сказала интервьюерам одна деревенская женщина, но даже такой кошмарный опыт, как кулацкая ссылка, кое-чему ее научил{243}. «Печальная у меня была жизнь, – рассказывала другая, вспоминая, в частности, коллективизацию. – И так трудно было, а сколько обид я перенесла… Но, какие бы ни были суровые времена, я все-таки всех детей вырастила, образование им дала…»{244}
Есть истории жертв, обвиняющие не советскую власть, а других мучителей. В советской автобиографии (особенно если речь шла о работницах или крестьянках) культивировался жанр testimonios, где основное внимание уделялось угнетению при царизме и сравнению жалкого дореволюционного существования с благоденствием и безграничными возможностями при советской власти:
«Я расскажу о своей жизни, о том, как жила раньше… С 11 лет осталась без матери, сиротой. С 12 лет меня уже отдали к деревенским кулакам в няньки, с 14 лет – в няньки на барский двор ухаживать за барскими детьми. Была я неграмотной, мне очень плохо жилось, я не знала, что есть другая, лучшая жизнь»{245}.
Есть, конечно, женщины, в чьих автобиографических рассказах главными мучителями выступают мужчины, хотя вообще для русской женской автобиографии XX в. это нехарактерно. Агриппина Кореванова обвиняет своего отца, свекра, мужа, не говоря уже о всевозможных советских чиновниках-мужчинах, обижавших ее в дальнейшей жизни. Кое-что из рассказанного ею укладывается в рамки сюжета о дореволюционной эксплуатации, однако ясно, что для Коревановой эксплуатация носила тендерную окраску. Даже когда на нее напали неопознанные лица, она не сомневалась в мужском поле нападавших и предупреждала: «Я оставлю после себя [в случае смерти] не одну, не две верных женщины [курсив мой. – Ш. Ф.] революции, а, может быть, сотни». Анна Литвейко описывает издевательства, которые терпела ее мать от пьяного мужа, и свое решение вышвырнуть отца из дому: «Это был мой первый самостоятельный поступок, и я им очень гордилась» (правда, ниже она задается вопросом, сделал ли ее поступок мать счастливее){246}.
Как правило, женщины в своих воспоминаниях весьма неохотно критиковали мужей, даже явно плохих, как, например, второй муж Р. Орловой{247}.[118]118
Е. Боннэр в своей автобиографии также лишь вскользь упоминает первого мужа как отца своих детей (Bonner E. Mothers and Daughters. P. 330) и даже не называет его по имени.
[Закрыть] Давая интервью годы спустя, респондентки ощущали заметную неловкость, когда от них добивались более подробных сведений о бывших мужьях, не желая говорить интервьюерам самое худшее. Подобная сдержанность чувствовалась даже в тех случаях, когда интервьюер прямо поощрял критические высказывания{248}. Женщины из высших кругов и представительницы интеллигенции, несмотря на свою образованность и профессиональные знания, судя по их рассказам, относились к мужьям с почтением; сообщения о сколько-нибудь значительных конфликтах в семье по поводу работы женщины вне дома у них встречаются редко[119]119
В сборнике «In the Shadow of Revolution» примерами образованных, но почтительных жен могут служить 3. Жемчужная и В. Богдан.
[Закрыть]. Лидия Либединская в той части своих мемуаров, которая посвящена ее жизни после того, как она в начале 1940-х гг. вышла замуж за писателя Юрия Либединского, рисует свой образ совершенно другими красками: почти ребячливо независимый персонаж первой части книги превращается в преданную супругу, чьи жизнь и работа полностью подчинены мужниным. Точно так же один из любопытнейших аспектов первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам – противоречие между изъявлениями почтения и покорности мужу-поэту и бесспорной силой ее собственной личности и уверенностью в себе, которые выдает каждая строка повествования{249}.
О семейных конфликтах, обычно вызванных попытками мужа ограничить или контролировать деятельность жены за пределами дома, гораздо чаще говорят женщины из низов; фактически тема вражды супругов является стандартным компонентом биографий женщин-активисток. Муж московской работницы Анны Балашовой через шесть месяцев после свадьбы «увидел, что жена ему не угождает». Их брак начал разваливаться. Когда Анна лежала в больнице после рождения ребенка, муж от нее ушел, не оставив даже записки, зато «захватив с собой много ее собственных вещей». Еще одна московская работница Анастасия Бушуева сбежала от мужа, который «один раз избил ее так, что она работать не могла»; партийная ячейка нашла беглянке временное пристанище, пока завод не предоставил ей постоянное жилье[120]120
Эти истории, впервые опубликованные в сборнике «Работница на социалистической стройке» под редакцией О.Н.Чаадаевой (с. 110-111, 150), были собраны в рамках советского проекта по устной истории начала 1930-х гг. – «История фабрик и заводов». Подборка Чаадаевой переведена на английский язык: In the Shadow of Revolution. P. 249-250. To, что у женщин-активисток часто были «серьезные проблемы с мужьями», подтверждает и Кореванова: Ibid. Р. 206.
[Закрыть]. Стахановка Анна Смирнова в беседе с корреспондентом женского журнала в середине 1930-х гг. также поведала о неразрешимом супружеском конфликте, возникшем, когда она стала активисткой-общественницей: «Начал он меня донимать, что “поздно домой прихожу”. А я все время то на митинге, то на занятиях, то на дежурстве в кооперативной лавке или в больнице… В конце концов, надоели мне его придирки. Мы развелись. Живу одна с 1924 года»{250}.
У крестьянок-стахановок тоже частенько были свои истории о мужьях-угнетателях, заканчивавшиеся разводом, который изображался как освобождение и начало «сознательной» советской жизни. Доярку из Башкирии Гадиляеву выдали замуж в шестнадцать лет: «Выдали по старому, тогда еще не отжившему, обычаю, против моей воли… Прожив с мужем полтора года, я с ним развелась и стала работать в колхозе самостоятельно». По мнению армянской крестьянки Будагян, подобные проблемы решались автоматически благодаря системе оплаты труда в колхозе, где вознаграждались те, кто лучше работал: «А когда зарабатываешь больше, чем муж, как же он сможет угнетать? Тогда у него язык короче»{251}.
Приведенные выше высказывания взяты из testimonios стахановок. Свидетельства жен стахановцев, естественно, звучали в другой тональности: эти женщины заявляли, что цель их жизни – поддерживать мужей. Некоторые замечали (весьма неожиданно, учитывая, как превозносился в СССР женский труд), что теперь выполнять эту задачу стало легче, поскольку мужья больше зарабатывают и это позволило им самим бросить работу. Тем не менее многие из них говорят о себе с явным чувством превосходства – они более культурны, мотивированы, организованы, чем их супруги, и призваны удерживать потенциально способных оступиться мужей на должной высоте. Власовская сердилась, когда ее муж «как-то опустился» и поначалу не сумел стать стахановцем. Незгорова отмечала свою роль в спасении мужа от пьянства и «дурного влияния». Полякова побуждала своего супруга стать стахановцем, заставляла его по вечерам слушать ее чтение вслух, даже когда тому хотелось спать, проверяла, не заснул ли он в театре или в кино. «Я же хотела, чтобы он был культурно развитым человеком, – объясняет она, – чтобы он шел вместе со всеми»{252}.
В автобиографической повести Аллы Кипаренко о пионерской жизни на Дальнем Востоке ее подруга из горкома комсомола рассказывает о том, как одного шалопая перевоспитала хорошая комсомолка: «Молодоженам дали комнату и пожелали счастья, решив, однако, не выпускать их из поля зрения. И вот произошло, как говорят, чудо! Хулиганистого парня словно подменили, он потянулся за женой, решительно догоняя ее по производственным показателям»{253}. Даже в рассказе княгини Волконской, безусловно преданной своему мужу, ощущается оттенок покровительственного отношения к нему: фигура князя Петра, выросшего под каблуком у матери, пассивного и чересчур рафинированного, чтобы выражать (а может быть, и чувствовать?) сильные эмоции, получается какой-то бесцветной рядом с энергичной женой{254}. Если бы он был паровозным машинистом, как муж Власовской, то, наверное, его тоже пришлось бы учить активной жизненной позиции.
Классовый вопрос
Классовый вопрос – различие между аристократкой княгиней Волконской и пролетаркой Власовской – оказывал такое огромное влияние на повседневную жизнь в СССР, что в автобиографиях он фигурирует на одном из первых мест. В глазах многих женщин классовая принадлежность служила предметом куда более острого интереса и беспокойства, нежели половая. Это и неудивительно, учитывая, какие она создавала угрозы и открывала возможности – и для отдельного человека, и для целой семьи. Зинаида Жемчужная в своих воспоминаниях отмечала приверженность большевиков «раз навсегда намеченному плану»: «Прежде всего, каждое общество разбито на классы. Есть буржуи, которых надо убивать и грабить, и пролетарии, которые должны пользоваться всеми благами жизни»{255}. По словам Ирины Еленевской, жильцы в ее петроградском доме в начале 1920-х гг. «сразу разделились на две группы: “буржуев” и “трудящихся”» (сама она относилась к «буржуям», поскольку происходила из среды интеллигенции и служилого дворянства){256}.
Мемуаристки видели, как сильно их жизнь зависит от приписанного им классового положения. Лидию Либединскую за «плохое» классовое происхождение чуть не исключили из пионеров, школьную подругу Валентины Богдан из-за родителей-«лишенцев» не приняли в училище{257}. Из восьми авторов устных историй, собранных Энгель и Посадской, четыре принадлежали к заклейменному классу и в результате имели множество неприятностей. Происхождение висело над ними «как дамоклов меч», по выражению одной из них{258}.[121]121
Эти четверо – дочери «кулаков» Дубова и Долгих, дочь священника Флейшер и дочь помещика Бережная.
[Закрыть] Описывая классово-дискриминационную политику советских вузов в 1920-е гг., Евгения Гинзбург, дочь врача, замечает: «Судьба пощадила меня – в “прочих” я не числилась. Но принадлежать к третьей категории, куда входили ребята из интеллигентских семей, тоже была не ахти какая радость. В правах это не ограничивало, но какой-то “комплекс вины”, нечто вроде сознания первородного греха, отравлял жизнь». А вот как отреагировала юная Раиса Орлова, когда ее по причине неподходящего классового происхождения не приняли в комсомол: «Тогда укрепилось, видимо, свойственное и раньше ощущение: есть что-то во мне неполноценное, недостаточно твердое. “Интеллигентка”. И надо с этим обязательно бороться, вытравлять»{259}.
Разумеется, классовая дискриминация имела и другую сторону. Пролетарии, как сказала Жемчужная, «должны были пользоваться всеми благами жизни», то есть плодами положительной дискриминации и выдвиженчества. Один из стандартных автобиографических жанров сталинской эпохи – описание славного пути наверх с благодарностью советской власти за предоставленные возможности. Трактористка-стахановка Паша Ангелина отметила особый тип советской вертикальной мобильности: люди вроде нее не «поднимались из народа», подобно капиталисту лорду Бивербруку, а «поднимались вместе со всем народом». Testimonios, предлагавшиеся широкой публике по торжественным случаям, например к Международному женскому дню, повествовали о преображении советских золушек – скажем, о превращении портновской ученицы Женьки, которую била злая хозяйка, в Евгению Федоровну, технического директора советской текстильной фабрики{260}. Полвека спустя женщины из той же когорты по-прежнему гордились тем, что стали из какой-нибудь «Симочки» «Серафимой Яковлевной» и, хотя больше не возносили благодарностей Сталину, тепло отзывались о своем фабричном начальстве, которое их обучало и продвигало в тридцатые годы{261}.
Хотя большевики часто считали классовую принадлежность самой что ни на есть очевидной и понятной вещью, судя по опыту многих авторов автобиографий, это далеко не всегда соответствовало действительности[122]122
Об этой проблеме см. гл. 2.
[Закрыть]. Жемчужная отметила, каких ухищрений стоило большевикам на казачьих землях втиснуть местные социальные группы в марксистские рамки (священников, учителей и казаков зачислили в буржуазию, крестьян, не относящихся к казакам, – в пролетариат). И у нее, и у Олицкой возникли проблемы из-за того, что на их родственников, дворян-помещиков, отныне смотрели как на эксплуататоров, а не как на просвещенных людей, старавшихся помочь крестьянам. Классовый вопрос представлял загадку и для юной Либединской, чья бабушка была одновременно дворянкой и пылкой поклонницей революции. Отца Прасковьи Дорожинской экспроприировали как кулака, несмотря на то что он входил в местный комитет бедноты. По словам Олицкой, «раскулачивание» в бывших поместьях ее отца во время Гражданской войны превратилось в чистый фарс: большевики заставляли сельчан выявлять у себя кулаков, а те попросту «выбирали» на эту роль кого-нибудь, не имевшего в деревне большого веса или не пользовавшегося популярностью{262}.
Классовая ненависть – очень модное понятие в первые послереволюционные десятилетия – в автобиографиях выражается редко. Несчастная Кореванова, писавшая в середине 1930-х гг., – исключение. Ее революционное крещение произошло, когда она услышала о зверствах белогвардейцев и ее сердце «сжалось от ненависти к белым». Десять лет спустя женская бригада Коревановой (за исключением одной «сердобольной» участницы) выгоняла классовых врагов из квартир с чувством жестокого удовлетворения: пусть, дескать, получают то, что заслужили! Анна Литвейко уже в послесталинскую эпоху вспоминала, как когда-то вела пропаганду в духе «классовой ненависти», но опосредованно (она пересказывала товарищам по работе памфлет под названием «Пауки и мухи», где хозяева изображались пауками, которые пьют кровь рабочих и присваивают плоды их труда, «как раньше рассказывала им про пещеру Лейхтвейса»){263}.[123]123
«Пещера Лейхтвейса» – один из рассказов о приключениях сыщика Ната Пинкертона, которые пользовались большой популярностью в России в 1910-1920-е гг.
[Закрыть]
В 1990-е гг. в рассказах пожилых женщин о своей жизни от классовой ненависти не осталось и следа. Выходцы из низов, как правило, говорили о представителях высших классов хорошо, о встречавшихся им в 1920-1930-х гг. «социально чуждых» (в терминологии сталинских времен) вспоминали с сочувствием, особенно если те были жертвами репрессий. По словам Ольги Филипповой, медсестры из рабочей семьи, в Ленинграде после убийства Кирова арестовывали «самых культурных людей, жалко их было». Мария Новикова, дочь кухарки, рассказывая о сосланных соседях – немцах-колонистах, замечает: «А какие добрые были!.. Мы все так плакали». Екатерина Правдина шила на свою соседку по коммуналке, единственную дворянку среди жильцов-рабочих: «Ну, она такая была хорошая, общительная». Выдвиженка Мария Шамлиян получила комнату в квартире, которая раньше принадлежала дворянке, вдове царского генерала Измайлова. Обе женщины так и жили вместе. «Меня в райком вызывали несколько раз – все-таки директор школы из бывших – я всегда давала положительную оценку. Как человек – только положительно. “О происхождении, – я говорю, – вы решайте сами, а как руководитель, как человек – заслуживает только положительную оценку”. Она очень долго и хорошо работала», – рассказывает Шамлиян{264}.
Измайлова принадлежала к тем «бывшим» людям, которые не старались скрыть свое происхождение. Отец Лидии Либединской, экономист из дворянской семьи, тоже продолжал пользоваться визитными карточками с надписью «Граф Борис Дмитриевич Толстой», утверждая, что «как до революции только подлец мог стыдиться пролетарского происхождения, так же после революции порядочному человеку не подобало отказываться от происхождения дворянского»{265}. Однако многие мемуаристки и люди, которых они встречали в жизни, чувствовали необходимость скрывать свое социально-классовое лицо – иногда в буквальном смысле, как прятала лицо в шарф переодетая скромной учительницей княгиня Волконская, когда ради спасения мужа совершала свою дерзкую вылазку на советскую территорию{266}. Чаще, впрочем, приходилось прибегать к более тонкой маскировке – создавать новую биографию, соответствующую новой идентичности, или, по крайней мере, вычеркивать из нее некоторые эпизоды прошлого. Квартирная хозяйка Валентины Богдан, у которой та жила во время учебы в училище, была вынуждена скрывать, что ее покойный муж в Гражданскую войну воевал за белых (дабы не получить клеймо вдовы «контрреволюционера»); такую же тайну хранили Жемчужная и ее муж, бывший белый офицер, после переезда в Москву в конце Гражданской войны{267}.
Тайна Натальи Колокольцовой заключалась в том, что она дочь царского урядника, казненного большевиками в 1919 г., хотя ей тогда был всего годик, а сама она стала фабричной работницей и по праву могла претендовать на пролетарский статус{268}. Анна Дубова, сумевшая во время коллективизации сбежать из деревни в город, держала в секрете факт раскулачивания своей семьи; Екатерина Долгих, дочь «кулака», которую отправили на воспитание к тете, была вынуждена отречься от родителей. Веру Флейшер тоже отослали к родственникам, спасая от клейма дочери священника, и заставляли порвать семейные узы: «Нам нельзя было даже переписываться с родителями. Это была связь с “чуждым элементом”. Но мы, конечно, продолжали с ними переписываться и изредка их навещали. Но это было очень трудно»{269}.








