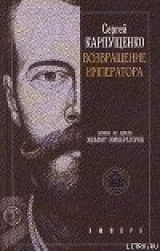
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
– Итак, Тарас Никодимыч, я вначале сделаю ваш снимок, а потом вы мне расскажете обо всем, хорошо? Устраивайтесь на этом диване, – или нет, на кресле, а шашку можно в руки взять. Хорошо, если бы вы оперлись на нее, вот так, только орден, прошу, рукой не заслоняйте. Лицо спокойное, но глаза, если хотите, можете сделать строгими – этакий соколиный взгляд. Так, хорошо, сейчас зажгу магний…
Вспышка магния, ослепившая героя, возвестила ему о том, что теперь история не посмеет вычеркнуть его имя из списка людей, прославивших российское оружие, а Николай, довольный тем, что удалось так быстро договориться с начальником тюрьмы по телефону, пройти через караульную, где его, конечно, тщательно проверили на предмет принадлежности к журналу и весьма бдительно прошлись руками по его одежде в поисках оружия, сложил штатив фотоаппарата, достал из кармана пиджака блокнот, и интервью началось.
Романову было крайне трудно сдерживать свое отвращение к этому ограниченному человеку, с упоением рассказывавшему ему, как он, коммунист аж с самого семнадцатого года, ходил в атаку на белых, как крошил их в капусту своей шашкой, как расстреливал собственноручно пленных "врагов трудового народа", сек их из пулемета со своей стремительной тачанки, как брал укрепления Перекопа, прорываясь в Крым. Николай хотел закрыть блокнот и заявить этому одноногому орденоносцу, что его обманули, и он боролся не за счастье своего народа, а ради того, чтобы защитить власть кучки авантюристов и предателей России.
– Все это очень, очень интересно, – прервал наконец Николай нескончаемый рассказ о сражениях. – Но интересно бы узнать, чем вы занимаетесь сейчас?
Книшенко решительно замотал головой:
– Нет, об этом писать не надо! Чего хорошего – тюрьмой командовать…
– Ну как же, читателям ведь интересно будет узнать, что стало с нашим героем? Да я к тому же уверен, что нынешняя ваша деятельность тоже весьма полезна для народа. Изолировать преступников, врагов рабочих и крестьян, очень нужно. Нет, я с вами не согласен, надо хоть две строчки написать. К тому же, слышал, у вас здесь подстрекатели к сопротивлению советской власти находятся – митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, другие церковники. Очень вредные для общества люди.
– Сидят, – вздохнул Книшенко. – Приговорены они, а значит, понесут заслуженное наказание.
– Расстреляют, получается?
– Факт, расстреляют. Митрополита и ещё троих…
Николай подчеркнуто демонстративно отложил в сторону записную книжку, с располагающей к себе улыбкой, чуть наклонясь в сторону начальника тюрьмы, спросил:
– А как же и где все это… происходит? Простите за вопрос, интересно как репортеру, совсем не для печати…
– Как-как, – было видно, что вопрос пришелся Книшенко не по душе, кого в Кронштадт везут, а кого и здесь, в тюрьме, стреляют. А стреляют просто – отделение солдат в шеренгу выстроят да и дадут команду.
– А Вениамина тоже… повезут в Кронштадт?
– Тоже повезут. Там и закопают. Но а вам на что все это знать? – вдруг насторожился Книшенко и запустил всю пятерню в копну волос, присматриваясь к репортеру.
Их взгляды соединились, и Николай, который уже узнал главное Вениамин здесь, в «Крестах», – тихо заговорил, пристально глядя прямо в узкие и мутноватые глаза Книшенко:
– Простите, я не журналист Касторский из "Новой книги", как это значилось в удостоверении. Моя фамилия Романов. Я владелец семи фотографических ателье в Петрограде, очень известных ателье. Знаете, какой доход они мне приносят?
– Какой же? – завороженный взглядом Николая, спросил Книшенко, тяжело сглотнув.
– Да чуть ли не по семи тысяч червонцами в месяц. А у вас какое жалованье? Не думаю, что больше ста рублей.
– Нет, сто десять, а только зачем вы об этом говорите?
– Я потому о своих доходах говорю, что они могут стать вашими, если вы окажете мне одну услугу.
– Какую же?
Николай немного помедлил. Сейчас он должен был предложить начальнику тюрьмы и коммунисту, ярому защитнику нового строя и врагу контрреволюции, сделку, которая могла стоить Романову жизни. Но он все-таки сказал:
– Нужно сделать так, чтобы Вениамин остался в живых.
Вначале Книшенко, узнав о том, что он битый час рассказывал о своем участии в гражданской напрасно и никакого очерка о нем не будет, очень огорчился, а потом новое чувство стало наполнять его зачерствевшее в боях сердце.
– А-а, подлюка, гадина подколодная, – прошипел он, и улыбка на его простом, крестьянском лице становилась все шире и шире, – так ты, контрик, обманом ко мне пробрался, старого красного командира на арапа взять хотел? Ан, гад, не выйдет, не получится со мной фокус такой!
Николай даже не повел бровью. Пасовать сейчас перед классовой ненавистью Книшенко, пугаться означало признать свое поражение.
– Да успокойтесь вы, успокойтесь, Тарас Никодимыч. Не нужно меня оскорблять. Ну чем же вы сможете доказать, что я вам что-то незаконное, контрреволюционное предлагал? Ничем! Да и если расстреляют меня, то что вам в том будет проку? Так и останетесь на своих ста десяти рублях жалованья, а вы, я знаю, на большее в жизни рассчитывали. Значит, так: я перевожу на ваше имя все свои предприятия под вывеской "Фотография Романовых", а вы, пользуясь моими работниками, только выплачивая им жалованье, стрижете, как говорится, купоны. Можете на подставное лицо мои ателье записать, а можете и открыто стать владельцем, как хотите. От вас же я прошу одного: Вениамин должен жить. Вы сами-то как православный человек рассудите – для чего митрополита убивать? Вы же за это никогда, повторяю, никогда Богом прощены не будете. Иное дело в бою врага зарубить, а тут старца, да и за что?
Книшенко молчал минуты три. Круто раздулись от напряжения его громко сопящие ноздри, по скулам бегали желваки, а кожа на лбу собралась в бугристые складки. Он, все ещё опиравшийся на шашку, то наматывал на руку шелковый темляк, то вновь распускал его. Минута была критической, и Николай не знал, чем закончится внутренняя борьба, кипевшая сейчас под невысоким лбом героя.
– Замену митрополиту найти надо… – наконец изрек он тяжело. Кого-то за него в Кронштадте кокнуть нужно. Вы, че ли, вместо попа пойдете? – и взглянул с усмешливой надеждой.
Мысль яркая, как вспышка молнии, озарила Николая: "А почему бы и не пойти за владыку? Приму этот крест, во имя церкви православной и Спасителя!"
– Да, пойду за него, – тоном решительным, но негромко произнес Романов. – Когда нужно будет занять его место? С родными успею попрощаться?
Бывший кавалерист взглянул теперь на Николая как-то по-особенному, точно желая увидеть, насколько искренен его собеседник, а потом без улыбки сказал:
– Успеешь. До расстрела, как я думаю, чуть меньше месяца. За это время перепишешь на меня все свои фотографии, но чтобы все законно было. Еще принесешь мне свидетельства, что ты большой доход имеешь, а не зубы мне заговариваешь. Потом таким манером дело пойдет: тех, кто под расстрел попал, вожу я в Кронштадт на паровом катере от нашей тюремной пристани, здесь, на Неве. Кого на катер сажаю, проверяют чекисты, а уж потом, мне доверяя, отправляют в Кронштадт, но сами не едут. Вот и нужно так изловчиться, чтобы где-нибудь в заливе ты с лодки своей ко мне на катер перешел, а уж митрополита потом мы в ту лодку и пересадим. Пусть, значит, кто-нибудь на этой лодке будет, чтоб старика к берегу доставить. Тебя же, раз ты такую дорогу для себя избрал, пихну к другим, а как расстреливать будем, так мешок тебе на голову, как и другим, надену. Принимай, значит, смерть, какую захотел, не жалься. Ты ведь тоже, вижу, враг народа, а мне так все равно, кого из врагов на тот свет отправить. Пусть старикашка Вениамин ещё маленько поживет, только ему скажем, чтобы никому свое имя не объявлял и на людях не показывался.
– Я уговорю его, он в монастырь уйдет, не беспокойтесь…
– Вот и ладно. Ну, будя, гражданин репортер. Приходи теперь ко мне, как сладишь документы. Тогда ещё поговорим. А сейчас, прости, надо мне вовнутрь горючего принять. Сильно удивил ты меня предложением чудным своим. Эй, караульный, зайди сюда! – прокричал Книшенко хрипло, и Николай, положив на плечо штатив, взял в руку аппарат и вышел в коридор.
Покуда ехал на автомобиле домой и уже потом, в своей квартире, в кругу семьи, Николай был сумрачен и молчалив. Он все размышлял о том, как же он мог решиться с такою легкостью дать свое согласие на замену митрополита при расстреле самим собой.
"Что за необдуманная поспешность? – с горечью размышлял Романов. Разве я, помазанник Божий, имею право разменивать себя на митрополита? Ну, пусть я благороден, пусть я борюсь с большевиками, как могу, пусть я предан православной церкви, но разве одинокий старик стоит меня, монарха? А мои родные? Ведь я обрек их чуть ли не на голод, потому что пообещал все свое достояние тюремщику. Пусть у Анастасии есть швейная мастерская, но без меня они не смогут совладать с трудностями жизни да и вряд ли узнают о том, что я принес себя в жертву. Нет, я поступил очень опрометчиво. Потом почему же я должен был спасать митрополита, забыв о трех его товарищах? Как я неосторожен!"
Так ходил он в раздумье целую неделю, но оформил между тем дарственную на имя Книшенко, что давало тому право пользоваться доходами от ателье. Справил и свидетельство о своих доходах, принес все эти документы начальнику тюрьмы, показал их, но тут же спрятал, сказав:
– Вы видели, что я не лгал. Теперь дело за вами. Вот номер моего телефона. Известите, когда я должен буду явиться к вам, чтобы договориться о последнем: день, час и примерный район в заливе, где я займу место митрополита, а он получит свободу.
– Не беспокойся, извещу, – сказал Книшенко и прибавил: – А по-нашенски, по-простому, псих ты чокнутый, гражданин Романов. За какого-то попа жизнь свою и все пожитки отдаешь…
И Николай тогда почему-то поверил в справедливость замечания начальника тюрьмы. Выйдя за пределы «Крестов», он сказал сам себе: "Нельзя".
Уже начался август, а Барковский и Штильман все не приходили за своей данью, и Николай начал было думать, что они попались на каком-то темном деле или их выследили политические противники. Но соратники Царицы Вари явились совершенно неожиданно в сопровождении все тех же громил в ателье на Невском, напомаженные бриолином, щегольски одетые, с тросточками в руках и с толстыми сигарами во рту. Закусив сигару своими лошадиными зубами, Штильман, шепелявя, спросил:
– Надо полагать, у нас дела идут отлично… – и прибавил: – ваше величество.
– Не совсем, – признался честно Николай, у которого не было свободных денег, чтобы дать выкуп вымогателям, – пришлось отдать немало за аренду помещений, на покупку новых материалов. – Рассчитаюсь с вами лишь через неделю.
– Как так? – удивился курносый Барковский, двигая своей мощной челюстью. – Мы и так вам дали время, больше месяца прошло!
Николай внезапно раздражился – какой-то хам смел помыкать им, командовать, не признавая его доводов.
– Раньше не получится, сказал же вам!
И тут случилось невероятное – Штильман и Барковский разом приблизились к нему и вдруг схватили Николая за оба уха, да так больно, что он вскрикнул:
– Что вы делаете? Отпустите! Сейчас же отпустите! Хамы, негодяи! Я не позволю!
– Позволишь, ещё как позволишь! – пыхая вонючим дымом сигары, говорил Штильман. – И знай, что мы не хамы теперь, не негодяи. Ты, Николаша, эти словечки теперь забудь, не то время, не для того мы революцию делали, чтобы какой-то полунемчик, называвшийся когда-то русским царьком, нас оскорблял. Помни, что не царь ты, не царь, а говно, говно, говно!
И, весь дрожа от наслаждения, получаемого от возможности мучить человека, который ещё недавно повелевал шестой частью суши, Штильман продолжал крутить ухо Николая, кусавшего себе губы от боли. И вдруг помрачневшее от боли и унижения сознание Романова озарилось надеждой навсегда расправиться с нестерпимым для самолюбия и чести положением быть зависимым от этих грязных людей.
– Постойте! – почти прокричал Николай. – Я согласен, не надо больше…
– Ну вот, наш повелитель исправился, стал паинькой, – сказал Штильман, отпуская ухо и вытирая пальцы о полу пиджака. – Ну, мы ждем с величайшим нетерпением и вожделением.
И он протянул руку ладонью вверх.
– Нет, подождите, – морщась и потирая уши, сказал Николай. – Я в этом месяце готов вам дать даже больше, но у меня нет на самом деле наличных денег. Я предложу вам одну прекрасную вещь, она стоит тысяч семь, не меньше, а возможно, все десять.
– Интересно, – пожевал Штильман свою сигару, – что же это? Бриллиант?
– Нет, яхта. Прекрасная, моторная. Я купил её весной, но сейчас она в ремонте. Закончат его через неделю, и я готов вам буду передать документы на право владеть этим судном.
Штильман поиграл бровями, словно раздумывая над предложением, и, обращаясь к Барковскому, спросил:
– Фима, ты когда-нибудь владел яхтой?
– Нет, не доводилось.
– Ну так доведется. Мы согласны. Когда зайти, чтобы посмотреть на нее?
– Укажите адрес, по которому я бы смог вас разыскать, – ответил Николай, немного поразмышляв.
Штильман улыбнулся, не вынимая изо рта сигары, и вынул из бумажника визитную карточку.
Николай, как и его великий предок Петр Первый, обожал морские прогулки, но теперь у него не было не только «Штандарта», но даже маленькой спортивной яхты, с парусами которой он сумел бы управиться и спустя столько лет после того, как оставил когда-то любимое занятие. Сейчас же, если удавалось разыскать свободный час, он шел к гавани Васильевского острова, к его протокам, где возобновил работу яхт-клуб, приглашавший всех желающих стать его членами. И даже в это полуголодное время он видел молодых мужчин и юношей в легкой спортивной одежде, которые с радостными улыбками, предвкушая удовольствие, проходили на территорию клуба. И Николаю хотелось пройти туда, но что-то удерживало его от этого шага, точно он не мог себе позволить, чтобы его напарником по плаванию на яхте стал какой-нибудь токарь или сапожник. Он лишь с завистью смотрел, выходя на взморье, как скользят по серой глади залива белые треугольники парусов, точь-в-точь как тогда, когда он ещё был царем, и ему казалось, что ничего не произошло, революция – это мираж, не было гражданской войны, а он все ещё носит корону.
– Послушайте, товарищ, – обратился Николай к обнаженному по пояс крепышу, подкрашивавшему выбоину на борту яхты, стоявшей у причала клуба, а не продаются ли здесь яхты?
Парень, поднявший на Николая насмешливые глаза, ответил:
– Да кто же вам клубную собственность продаст? Не туда обратились. А впрочем, здесь один судовладелец место у причала арендует, он вроде продает. Там, в конце причала. Кажется, «Олень» её название. Сходите…
Несколько обескураженный тем, что обобществленный парусный флот не дает ему возможности выполнить задуманное, Николай пошел туда, куда направил его яхтсмен, не надеясь, что застанет судовладельца. Когда он разыскал яхту под названием «Олень», то увидел вместительное суденышко с каютой приличного размера. Красивые обводы спортивной яхты порадовали глаз Николая, знавшего толк в парусниках. "Она бы подошла…" – с тоской подумал он и крикнул:
– Эй, на «Олене», есть кто-нибудь?
Никто не отозвался, и Николай, теряя надежду, крикнул снова, и тотчас чей-то сонный голос раздался из каюты:
– Ну чего тебе? Че разорался? И ходят, и шлындают тут всякие, спать не дают…
– Мне бы хозяина! На предмет покупки яхты!
– А, ну так бы и говорили, иду, иду! – изменился тон проснувшегося человека, и он мигом появился на палубе, точно черт из табакерки. – Вот, по трапику ко мне сюда идите, не споткнитесь, вот, еще. Ну и добро. Вам здрасте! – протянул он руку. – Корабль мой продается, а вы, я вижу, купить хотите? – заглядывал в глаза Николаю владелец яхты, и он тут же понял, что этот человек давно уже ищет покупателя и можно будет поторговаться.
Хозяин долго водил его по яхте, подробно и нудно рассказывал, из какого дерева она сделана, какой у неё киль, в каком состоянии борта, как оказалось, совсем нетронутые жучком, какой мотор (чуть-чуть подремонтировать, и будет работать как зверь), показал паруса, фалы, леера из самой отличной пеньки, и Николай внимательно слушал судовладельца, обратив особое внимание на двигатель и на состояние парусов, рассмотрев их парусину и качество швов.
– А зачем же продаете «Оленя», если так хвалите его?
Мужчина обреченно махнул рукой:
– Беда! Без работы я остался. Жена все пилит: денег дай мне, денег, а где я их возьму? Даже спать сюда хожу, чтобы не донимала. Да сдуру я её купил, правда по дешевке, у одного буржуя, драпавшего из России. Покатался малость – люблю, – но теперь продать придется. Я не много попрошу, две тысячи всего… новыми.
Николай, понимавший, что «Олень» стоит гораздо больше, достал бумажник, отсчитал червонцы, протянул их судовладельцу:
– Здесь три тысячи. Собирайтесь. Сейчас же к нотариусу пойдем и оформим купчую на яхту. Билет судовладельца не забудьте и, конечно, паспорт…
Перво-наперво велел шоферу-чухонцу перебрать мотор, что тот и сделал за день, и запустил его. Но мотора было мало. "Вдруг заглохнет в нужную минуту, что будем делать? Нужны ещё и паруса, а одному мне с парусами не справиться – потерял я-таки сноровку, уже не молод. Нужен ещё один помощник. Кто? Яхтсмена какого-нибудь попросить? Нет, он на такое дело не пойдет. Нужен верный человек. Ах, был бы Томашевский…" – И боль острого стыда за убийство молодого человека пронзила Николая.
Скоро Книшенко сообщил ему день и час, когда в водах Финского залива появится катер с красным флагом на флагштоке, в тесной каюте которого поплывут к своему последнему пристанищу митрополит и его соратники. В тот же день Николай известил Штильмана о том, что яхту можно будет посмотреть тогда-то, там-то и предложил приехать вчетвером, как и обычно, чтобы не было опаски, что готовится конфуз или западня. Сложнее было уговорить Лузгина…
– Право, господин Штильман, я бы и сам никогда не распрощался с «Оленем», если бы не финансовые затруднения, – живо и беззаботно говорил Николай, когда все такие же по-нэпмановски самоуверенные и пижонистые Штильман и Барковский в сопровождении своих телохранителей ступили на палубу яхты.
– Мы видим, все сами видим и понимаем, – говорил Штильман с неизменной сигарой во рту. – Проведите же нас по этому судну. Нам нужно убедиться в том, что вы предлагаете нам не какое-то корыто, а настоящую яхту!
– Конечно, пусть все пройдут, все, – говорил Николай, – чем больше людей войдет в каюту, тем вы скорее убедитесь в том, сколь она просторна, комфортабельна. Уверяю вас, яхта сделана в Швеции самыми известными мастерами. Вот трап, не споткнитесь, три ступеньки вниз…
Когда четверо ненавистных людей оказались в каюте, где посредине стоял изящный стол, привинченный к полу, располагались удобные диваны, штоф которых ещё не выцвел, Штильман восхищенно ахнул, развел руками и сказал:
– Ах, товарищ Романов, вы и после революции, после своего свержения все ещё играете в царя!
– А я и есть царь! – прокричал Николай, стоящий за спиной Штильмана, и свалил его на пол, ударив по затылку рукоятью выхваченного из кармана браунинга, затем приставил его ствол к уху Андрюхи.
И сию минуту распахнутая дверь, что вела в переднее отделение каюты, впустила в помещение Тойво и Лузгина, и стволы их пистолетов, наведенные на Барковского и другого бандита, мигом сообщили им, что их положение незавидно.
– Выньте оружие из карманов этой сволочи, – очень спокойно, будто и не прыгало его сердце ещё минут пять назад, как гуттаперчевый мячик, приказал Николай, и Лузгин проделал то, что ему приказал император, ловко и быстро.
А через минуту мотор яхты затарахтел, закашлял, синий дым застлался над водой, взбаламученной и кипящей под мощным винтом «Оленя», и яхта, повинуясь ему, дрогнула и отделилась от причала, беря курс на взморье. Когда миновали гавань и оказались в открытой воде, Николай при помощи Тойво поднял паруса, а Лузгин, держа в обеих руках по пистолету, принуждал к спокойствию четверых мужчин, что лежали ничком на полу каюты, так понравившейся им.
Мотор заглушили близ фарватера, километрах в пяти от Васильевского острова. Паруса трепыхались и хлопали, точно крылья подраненной птицы. Но ждать пришлось недолго. Катер с красным флагом держал курс прямо на Кронштадт, все быстрее приближаясь к «Оленю». Этот страшный, серого цвета катер, сопровождаемый шлейфом черного дыма, валившего из его высокой трубы, покачиваясь, подошел к «Оленю», и Николай, стоявший на качающейся палубе, увидел Книшенко, издалека напоминавшего черта. Начальник тюрьмы, облокотившись на фальшборт, смотрел и не на яхту, а куда-то в серую муть залива.
Пришвартовались борт к борту, и на катер взошли один за другим Штильман, Барковский и два их холопа.
– Вот – всех на всех, – сказал Николай Книшенко, когда оказался рядом с ним на катере. – А это – документы на мое имущество.
Книшенко, провожая взглядом четверых, которым Лузгин, идущий следом, приказал держать руки на затылке, усмехнулся и сказал:
– А ты, Романов, оказывается, не такой уж и псих, как я думал. Лады, оприходуем твоих рябчиков.
Через две минуты откуда-то из недр катера появились четверо бородатых, облаченных в арестантские робы людей.
– Куда нас ведут? – спросил тот, кто был постарше, глухим старческим голосом.
– На свободу, – шепнул ему Николай. – Спускайтесь на палубу яхты.
И сам помог отцу Вениамину спуститься, и скоро канаты, что связывали оба судна, уже не соединяли их, плавучая тюрьма с четырьмя смертниками, ещё не подозревающими о своем конце, окутав ненадолго яхту своим черным дымом и издав зачем-то протяжный гудок, проплыла в сторону Кронштадта, а Николай спустился в каюту яхты, где на диване в ряд сидели спасенные от казни люди.
Романов опустился перед владыкой на колени и с жаром поцеловал его узкую, сухую руку:
– Владыко, вы и ваши товарищи свободны. Не спрашивайте о том, кто вас спас. Скорее всего, Бог, который и меня когда-то не отдал на заклание вместе со всей семьей. Здесь, в каюте, вы найдете одежду, а потом мы решим, где вас высадить и куда сопроводить. Я вручу вам и паспорта, выписанные на другие имена. Мне лично кажется, что вам лучше было бы укрыться в каком-нибудь из монастырей, ещё не закрытых большевиками.
Отец Вениамин, тихо и пристально смотревший на Николая, сказал:
– Сыне, бывший правитель Руси, видно, ты, потерявший свой царственный жезл, ищешь утешения в том, чтобы и я потерял свой, святительский?
Николай, ошеломленный прозрением митрополита, промолвил наконец:
– Сохранив головы, обретем, владыко, потом и власть нашу прежнюю. Я в этом твердо уверен.
Отец Вениамин, обняв все ещё стоявшего на коленях Николая, поцеловал его.
***
Государь узнал об объявлении Германией войны, когда находился с семьей в Петергофе, узнал по телефону. Спустился в столовую к своим очень бледный и дрожащим голосом объявил, что немцами развязана война. Заплакала императрица, а вслед за ней и великие княжны. На яхте с членами фамилии незамедлительно прибыл из Петергофа в Петербург, у Николаевского моста пересел в катер, подъехал к набережной у Зимнего дворца. Здесь его уже встречал народ, с криками «ура». Когда шел от набережной к Иорданскому подъезду дворца, люди встали на колени и пели гимн. Сейчас, в предчувствии страшных событий, людям был нужен тот, кто один взял бы на себя тяжкую обязанность решить, что делать дальше.
Николай вошел в запруженный сановниками Николаевский зал дворца, и начался молебен, после чего император обратился к подданным, благословляя всех на ратный труд. Потом он вместе с Александрой Федоровной вышел на балкон, чтобы показаться народу, и толпа собравшихся на площади петербуржцев захлебнулась ликованием, приветствуя царя. Опустились на колени, склонили полотнища трехцветных знамен, запели гимн. И поклоны царя и царицы собравшимся людям сообщили об императорской признательности и о том, что теперь, в начале кровавой страды, каждый живет лишь единым чувством…
Он понял наконец, что нужен народу, и поездка со всей семьей в Москву в августе 1914 года вторично подтвердила, что настал его час и именно теперь он должен стать для России знаменем, символом всеобщего единения и надежды.
В Москве его встречали люди, заполнившие не только тротуары, но и крыши домов, люди, висевшие на деревьях, фонарях, лишь бы только увидеть своего государя. Звонили колокола всех церквей. Красная площадь, на которую вышел царь с семьей (Алешу, у которого сильно болела нога, несли на руках), была запружена народом. Николай был просто потрясен. Он увидел то, что давно стремился увидеть, – насколько он необходим стране. И Николай решил, что никогда не обманет ожидания своего народа.
Неуловимая, но прочувствованная тогда связь с подданными придала ему силы и уверенности в том, что войну с немцами можно закончить лишь победой. Прежде он не испытывал уверенности, вынося решения по разным государственным вопросам, – все это требовало специальных знаний. Теперь же сомнений быть не могло, ведь нужно было спасать Россию. Однако воодушевление народа, патриотический экстаз исчезли, как только русских стали убивать и калечить сотнями тысяч, миллионами, а русская деревня хирела без работников, город стал голодать, а император все не мог забыть того, как он был любим народом в августе четырнадцатого…








