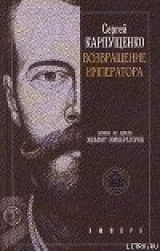
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Алеша понял, что настал самый главный момент. Сейчас он уже не думал о подземном мире, все оживилось в нем, встрепенулось, заволновалось. Он проверил завязки, что крепили пружины к его ногам, надел дурно пахнущую маску, сам как-то напружинился, готовый выскочить перед мешочниками, нарушавшими законы советской власти. И вот раздался не то длинный свист, не то протяжный вой Свиного Носа, и бродяги, страшно завывая, вскочили на пружины и выпрыгнули на аллейку кладбища, в конце которой маячила группа каких-то людей. Внезапно остановившиеся, оторопевшие, они глядели на то, как к ним приближаются высоко подпрыгивающие фигуры в белых одеяниях, воющие, с оскаленными мертвыми ртами. Крестьяне, прибывшие в Петроград из ближайших уездов с картошкой, салом, солониной, сушеными грибами и вяленой рыбой, с горшочками масла и крупой, знавшие о том, что до вокзала доезжать не стоит, а надо выходить раньше и идти по Митрофаньевскому кладбищу, но слышавшие между тем, что на кладбище нечисто, теперь, увидев перед собой ту самую «нечисть», крестились, падали на колени, бормотали молитвы, забывая о мешках с провизией, в которых собирались увезти назад в свои дома керосин и нитки, свечи и ситец, а если повезет – немного золота, выменянного на продукты.
Алеша тоже выл, и прыгать по ровной дорожке кладбища у него получалось ничуть не хуже, чем у заправских попрыгунчиков. Он приближался к мешочникам, уже собиравшимся бежать, чтобы только не видеть восставших из гробов мертвецов, не понимая, для чего это нужно лично ему. Поживиться добром Алеша совсем не рассчитывал, им владела лишь задача прыгать так же высоко, как его товарищи. Когда же он приблизился к оторопевшим людям почти вплотную, то увидел ужас, застывший на их лицах, услышал слова мольбы, какая-то нить, на которой держалась вся его удаль и желание быть таким же лихим, как беспризорники, внезапно лопнула, и чувство внезапного огорчения, боли сковало его. Пружины уже не подбрасывали – он остановился и смотрел на бросившихся бежать людей, одетых в поношенную крестьянскую одежду.
– Ну, неплохо поживились, такой атас! – сказал Яшка, когда они собирали свои трофеи.
– Да, подфартило! – соглашался Подкова, но Федька сомневался:
– Да брось ты! В прошлый раз и то больше было. Еще Царице половину отдать нужно будет…
И Алеша, молча сидевший в сторонке, уже снявший свой саван и маску, отвязавший пружины, увидел, как Свиной Нос при упоминании о какой-то Царице сделал Федьке страшное лицо и мотнул в его сторону головой.
Нагруженные мешкам, они возвращались домой по ночному Петрограду. Шли долго, часа два, стараясь держаться подальше от больших улиц, где можно было нарваться на патруль, по большей части молчали, прижимались к стенам домов, когда навстречу летел, громыхая, какой-нибудь автомобиль. Но Алеше уже не было приятно от сознания опасности, которую ему приходилось преодолевать. Какая-то грусть пела в груди заунывную, долгую песню. Ему стало жаль тех мешочников, потерявших, должно быть, значительную часть своего достояния, ведь не от хорошей жизни хотели продать они добытое своими руками. Он был сыном императора, часто говорившего ему, наследнику престола, что смысл верховной власти заключается в том, чтобы заботиться о благе подданных, а теперь получалось, что он, Алексей Романов, готовившийся надеть корону, лишил людей собственности, то есть стал вором, преступником.
"Но я же теперь не наследник, – пытался возражать Алеша упрекавшему его внутреннему голосу, – а поэтому могу делать то, что делают простые смертные". Но этот упрямый голос говорил ему: "Да, ты не наследник, но по происхождению – царский сын, а поэтому отнимать у людей их достояние не имеешь права". И Алеша понял, что никогда не сможет оправдаться перед собственной совестью.
В подвале беспризорники по случаю удачной вылазки устроили настоящий пир. Загорелось множество свечей, запылал огонь в печке-буржуйке, по жестяным кружкам расплескали самогон, найденный во фляжке, в одном из мешков горе-торговцев. Захмелевшие, не спавшие всю ночь беспризорники стали бахвалиться, описывая яркими красками, как они отличились, экспроприируя у мешочников их товар. Только Алеша молчал. От самогона он решительно отказался, да и к пище прикоснулся лишь едва-едва, считая, что не имеет права есть её. Когда Свиной Нос в живописании подвигов прошедшего вечера перед девчонками старался – дошел до самого пика событий и рассказывал, как молили мешочники «мертвецов», чтобы не трогали их, а с товаром поступали как угодно, Алеша вдруг поднялся и, глядя на Яшку с ярой ненавистью, заговорил:
– Гадкий ты человек, Свиной Нос! Не знал я, какими вы здесь делами занимаетесь, а то бы никогда не пошел за тобой! Все, не будешь ты здесь главным – я буду вами командовать, а уж я-то вам грабить и воровать запрещу навсегда!
Если бы в подвале аптекарского дома среди пирующей бродячей братии появилось бы настоящее привидение, начавшее подпрыгивать и корчить страшные рожи, беспризорники не так удивились бы, как услышав странную в своей безумной дерзости речь своего нового товарища.
– Чего, чего, – пошмыгав своим уродливым носом, спросил Яшка, – чего ты там протявкал, повтори?
– Я говорю, что я теперь буду командовать вами!
– Ну и ну, – после долгой паузы сказал Свиной Нос, – видно, ты, Костяной Кулак, совсем рехнулся. Наверно, пока сидели мы на кладбище, ты там белены объелся да и чокнулся маленько. А то с какой бы стати такое говорить?
А Алеша, в котором осознание царского происхождения вдруг выросло внезапно, встало во весь рост, впервые заполнив всю его душу, не робея, ответил:
– Это ты сам белены объелся! Ты, наверное, ничего, кроме белены да конины, и не ел в своей жизни! Знал бы ты, кому сейчас дерзишь, мерзкий холоп! Я – Алексей Николаевич Романов, сын государя императора Николая Второго!
Но не вздох удивления, не восхищенный шепот услышал Алексей, а безжалостный, громкий смех, взорвавший тишину подвала. Беспризорники катались по полу, держась за животы, хлопали друг друга по спинам, икали от восторга, просто визжали, потрясенные неожиданным признанием.
– Сын… импе… импе… ратора! Ой, уписаюсь! Урыльник скорей несите!
– Он – царевич… ха-ха-ха… а мы… холопы…
Но смех затих, когда прокричал Свиной Нос:
– Все, фраера, ша! Я говорить буду! – и рубанул по воздуху рукой. Вот скажу я вам, братцы! Раз этот… вонючий решил возвыситься над нами, холопами нас обозвал, то мы его должны по-нашенски нещадной казни предать через темную! Такие наши правила. А после, если жив останется, пусть катит отсюда подобру-поздорову да дорогу нам пусть никогда не переходит. Подкова, где мешок?
– Да вон их сколько! – с готовностью услужить главарю поднял мешок Подкова. – Надевать, что ли?
– Надевай скорей! Да лупите его, фартовые, почем зря! Пусть знает, как форсить перед нами!
И Подкова, нехорошо ухмыляясь, стал подступать к Алеше, растопыривая зев мешка, но вдруг Киска, смазливая девчонка, пристально смотревшая на Алешу, подбежала к Свиному Носу и что-то стала нашептывать ему, и Яшка, меняясь в лице, поднял руку:
– Ша, Подкова, повремени малость, разобраться нужно… – потом развалистой, пижонистой походкой подрулил к Алеше, смотрел на него минуты две, досадливо кривя рот и сдвинув брови, а затем сказал как бы сам себе: А хрен его знает. Отмутузишь такого, а потом он тебя из-под земли найдет. А что, Костяной Кулак, ты на самом деле не брешешь, что царский сын?
– Я Алексей Николаевич, цесаревич, – твердо и гордо сказал Алеша, невольно принимая величественную позу.
– Вроде похож… – провел Яшка рукой по носу-пятачку. – Отведу-ка я тебя к Царице нашей, спознаешься с ней. А она пусть и решает, что делать с тобой. Битье на этот раз отменяется, но, если Царица тебя царевичем не признает, не избежать тебе темной. Подкова, Федька, возьмите-ка этого хлопца под руки, чтоб не рыпался, да и идите за мной. Косой и Кривонос вон те мешки пускай захватят – дань нашу Царице. Да, повязку ему на глаза надеть нужно, чтоб дорогу не признал потом…
И как ни вырывался Алеша, как ни грозил оборванцам расправой, ему заломили за спину руки, и тотчас тугая повязка уже скрыла от него подвал, утыканный аптекарскими свечами. Его долго вели по каким-то лестницам, дворам, заставляли то подниматься, то опускаться, разные запахи, часто сменяясь, говорили, однако, Алеше, что ходят они по дворам и лестницам все того же огромного дома-замка. И вот остановились. Где-то за дверью, как показалось Алеше, звякнул звонок, мягко скрипнули петли, и чей-то грубый, хриплый голос спросил:
– Ну чего приперлись?
– К Царице, дань принесли.
– Так оставьте и валите.
– Дело есть еще…
– Какое?
– Ей расскажем, особенное дело…
Молчание, а после хриплое:
– Ну, проходите…
Потом Алеша долго сидел на стуле, наверное, в прихожей, а затем ему велели встать, взяли под руки и провели куда-то. Чьи-то руки, повозившись, развязали тряпку, закрывавшую глаза Алеши, и он увидел прекрасный зал с темными дубовыми панелями, шелковые обои, люстру, разбрасывающую в разные стороны яркий электрический свет, камин, а рядом с ним – кресло. В кресле, положив ногу на ногу, сидела очень красивая женщина, одетая с аристократической неброской элегантностью – белая блузка, черная юбка чуть ниже колен, серые чулки и низкие лаковые туфельки. Алеша так и обомлел, попав из темного подвала в гостиную приличного дома, а женщина, то и дело поднося к накрашенным губам длинный костяной мундштук, милостиво улыбалась, смотря на Алешу внимательно и испытующе.
– Здравствуй, мальчик. Так ты и есть сын Николая Александровича, последнего русского царя?
– Да, я Алексей Романов, – потупясь от долгого взгляда таинственной красавицы, сказал Алеша. – А вы и есть та, которую называют Царицей? спросил он вдруг смело.
– Да, я – Царица Варя, так меня зовут… мои хорошие знакомые.
– И те бродяги, что воруют и грабят торговцев, тоже ваши хорошие знакомые?
– Да, и они тоже, – продолжая улыбаться и все так же впиваясь в Алешу взглядом, сказала Царица и поднялась.
Величавой походкой она подошла к книжному шкафу красного дерева, вынула из него стопку журналов, молча полистала один, другой, замерла над какой-то страницей и перевела взгляд на Алешу. Теперь она смотрела на мальчика очень серьезно.
– Что ж, ваше высочество, я поздравляю вас с воскрешением. Я бы, конечно, поздравила с этим событием и весь мир, по крайней мере Россию, но, боюсь, здесь не оценят его должным образом. Вот снимок из «Нивы» за шестнадцатый год. Вы на нем, – она улыбнулась, – очень похожи на себя. А ваш батюшка, кстати, тоже жив?
Алеша подумал, стоит ли отвечать утвердительно. Он боялся этой загадочной женщины, которую называли так странно – Царица Варя. Но потом он кивнул, потому что говорить неправду было не в его привычках:
– Да, жив, мы все спаслись. А теперь я вас очень попрошу: разрешите мне пойти домой.
Женщина снова уселась в кресло, и опять костяной мундштук стал касаться её напомаженных губ. Казалось, она находилась в глубоком раздумье. Но наконец игриво вскинула голову, озорно улыбнулась и сказала:
– А вот домой-то я тебя, Алеша, и не отпущу. Пока не отпущу!
***
Хорошим или дурным правителем был Николай? И не теряет ли самодержавие в реальности свой смысл, когда речь заходит об управлении таким левиафаном, как Российская империя, имеющим сложнейшую бюрократическую систему, надзирающую за функционированием финансов, промышленности, торговли, образования, обороны, внешних сношений и многого, многого другого. Весь этот сложнейший, спутанный клубок нитей просто невозможно было бы держать в руках одному человеку, и каким бы компетентным, умным, даже мудрым ни был государь, он никогда бы не отважился на то, чтобы принимать самовластные решения, не желая единым росчерком пера причинить своей стране больше вреда, чем пользы.
А в первое время правления на молодого царя ещё и давили, подчиняли своему влиянию дядья, великие князья Владимир Александрович и Сергей Александрович. И как страдал Николай, когда в начале царствования великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал, вынудил царя принять решение строить очень нужный России большой порт не на Мурмане, а в Либаве. Николай был убежден в обратном, но пришлось уступить, чего долго потом он не мог себе простить.
Его самовластные амбиции были уязвлены и в 1899 году, когда по инициативе Николая в Гааге собралась мирная конференция, где речь шла о сокращении вооружений в Европе и запрещении варварских способов ведения войны. Но здесь практически ничего не удалось добиться из-за позиции германской делегации.
А как болело у Николая сердце, когда на прогулке в Петергофе с германским императором Вильгельмом он, то ли из ненужной вежливости, то ли по слабости характера, своим молчанием ответил утвердительно на вопрос, не будет ли он против, если немцы займут китайский порт Киао-Чао. В этот момент он не был императором, не был самодержцем, потому что не мог решиться сделать выбор, отказать Вильгельму без помощи советников.
Уговорить его было нетрудно. В 1901 году, когда в Петербург приехал князь Николай Черногорский, царь пообещал ему в виде помощи 3 миллиона рублей годовых из тех, что платила Турция России в качестве контрибуции, но Витте был против, и царю пришлось уступить. А в 1905 году в заливе Бьерке, что у Выборга, Николай заключил договор, по которому Россия обещала защищать Германию в случае войны с любой европейской державой. Заключая этот договор, Николай действовал как самодержец, не нуждавшийся в советах, но вскоре Романова убедили в том, что договор нужно аннулировать, потому что существует старое франко-русское соглашение, противоречащее ему.
Слабый, нерешительный, уклончивый, он так не походил характером на своего непоколебимого в убеждениях, верного слову отца, позаимствовав черты характера у матери. Не унаследовал он от Александра Третьего, сумевшего тринадцать лет процарствовать мирно, и отвращения к войне. В начале царствования Николая чуть было не вовлекли в авантюру по захвату Константинополя, а в 1900 году устоять не удалось – царя и Россию втянули в вооруженное вмешательство по усмирению восстания в Китае. Разбили боксерские отряды, но из Маньчжурии русские не ушли. А скоро при дворе объявится отставной ротмистр кавалергардского полка Безобразов, создастся партия, и на самодержавного правителя Руси снова будут давить, давить, убеждать скорее захватить Корею, не говоря про то, что это приведет к столкновению с японцами, которых, знали, император презирал. С одной стороны, Николай мог гордо заявить, что "войны не будет, потому что он её не желает", а с другой – не мог противиться давлению партии войны. И когда война все же началась, он ещё и не знал, что конец империи и его личное падение как императора имели начало в особенностях его характера, совсем "несамодержавного"…
Ступень пятнадцатая
ЦАРИЦА ВАРЯ
«Только бы найти его, только бы найти!» – металась единственная мысль, подобно ошалевшей от страха птице, попавшей в раскаленную печь. И этой печью было сейчас сознание Николая, весь день носившегося по Васильевскому острову в поисках пропавшего Алеши. Куда мог исчезнуть мальчик, которого не выпускали из квартиры и которого не нашли дома поутру, впрочем, так же, как и главу семейства? Но Николай домой явился, и совершенно пустыми были его глаза, и только Александра Федоровна знала, где он был.
– Ты мне вернешь сына, вернешь! – сказала она с едва сдерживаемой яростью. – Это ты во всем виноват! Алеша, я теперь понимаю, за тобой пошел, он все видел и не захочет возвращаться под один кров с отцом-убийцей.
На улице он подходил ко многим, сбивчиво, взволнованно рассказывал, как выглядел Алеша, опрашивал извозчиков, патрульных красноармейцев, просто идущих куда-то людей, но одни лишь пожимали плечами, другие долго выясняли какие-то ненужные детали, а большинство просто отмахивались – не приставай-де. Находились такие, что кивали, говорили, что видели похожего мальчика там-то и там-то. Николай бежал в указанном направлении, но никого не находил, и тоска, страшная, безысходная, замешанная на осознании собственной вины, греха, связанного с убийством человека, которого любил Алеша, начинала кромсать сердце Николая безжалостными, острыми зубами совести, и только новые расспросы прохожих, надежда, расправлявшая слабые, как у новорожденной бабочки, крылья, вновь и ненадолго прибавляла Николаю силы.
В тот день он возвратился домой ни с чем, но, странно, всю ночь проспал, точно и не было тревоги. Утром снова вышел в город, догадываясь, что Алеша шел вчера за ним, и возвращаться он должен был домой той же дорогой. Брел по Большому, подошел к Андреевскому рынку, спрятавшему куда-то внутрь своих стен обычную базарную суету. Чьи-то хриплые, прокуренные голоса долетели до него, и Николай увидел оборванных подростков, игравших то ли в бабки, то ли в битку, горланивших, бранившихся скверными словами. Он подошел. Не надеясь на успех, монотонно и безысходно стал объяснять, кого он ищет.
– А как его зовут-то? – подозрительно посмотрел на него наглый с виду, веснушчатый парнишка с расплюснутым носом, имевшим вывороченные ноздри.
– Алешей, – ответил Николай и сразу понял, что этим оборванным, источающим мерзкий запах мальчишкам что-то известно. – Вы, я понимаю, видели его?
Мальчишка с носом-пятачком долго чему-то улыбался, а потом, цвинькнув длинной струйкой слюны, пущенной под самые ноги мужчины, насмешливо сказал:
– Слушай, дядя, а катись-ка ты отсель колбаской по Малой Спасской! Я тебе не городовой, чтоб за всеми приглядывать. Кокнули, наверно, сына твоего урки поганые, которых здеся, у рынка, видимо-невидимо!
– Да что ты такое говоришь! – испугался Николай, чувствуя между тем, что за грубостью подростка скрывается что-то важное для него. Он хотел было возмутиться, схватить этого звереныша, но что-то подсказало правильный подход к душе исковерканного жизнью мальчишки.
– Ну, голубчик, прошу тебя, скажи, что ты знаешь об Алеше? – заговорил Николай срывающимся от волнения голосом, залезая в то же время в карман пиджака, где у него лежал бумажник. – Смотри, вон сколько ты получишь, если скажешь хотя бы, как его искать и где ты его видел. Ну, ну, говори, чего тебе стоит? Сам, наверное, отца имел или имеешь, понимаешь, думаю, как отцы страдают…
Последние слова попали явно не в цель, потому что Яшка – а это был именно он – вздрогнул, скривился и сказал:
– Знаем мы ваше отцовское страдание! – Но вид пачки денег произвел на Свиного Носа действие благотворное – он просто не отрывал от них взгляда. Ладно, зайдем за угол, при них, – кивнул в сторону товарищей, – ничего говорить не стану…
– Пойдем, пойдем, голубчик! – торопил его Николай, и вот они уже зашли за угол рыночного здания, и Яшка, часто-часто сглатывая от волнения, заговорил:
– Много я тебе, дядя, не скажу, но знай, что жив твой Алешка, – у Царицы он, утром ещё его туда отвели. Обозлил он нас всех тем, что царским сыном назвался, главным в нашей кодле быть захотел…
– Говори скорей, кто такая эта Царица? – Николай схватил Яшку за плечи, но тот ловко вывернулся, оставив в руках Николая куски ветхой рванины.
– Эй, эй, дядя, ша! Со мной полегче надо! Деньги вперед давай, а потом и спрашивать будешь! – Но когда Свиной Нос схватил грязной лапой банкноты, он резко отпрыгнул в сторону и, кривляясь, гогоча, прокричал: – А не догонишь, не догонишь! Слабо тебе, дядя, с самой Царицей знаться, с Царицей Варей! Она, брат, тебе хребет в два счета перешибет, пискнуть не успеешь!
Он скрылся за углом рынка, а Николай, так и ничего не поняв, кроме того, что Алеша жив и находится у какой-то Царицы Вари, пошел прочь, унося в своей груди ноющее сердце, со скулящей обидой на самого себя.
Мысль пойти за советом к Лузгину явилась неожиданно, и теперь, когда речь шла о спасении любимого сына, который когда-нибудь мог бы возвратить себе титул наследника престола, стать повелителем России, никакие сомнения относительно визита к бывшему сыщику не тяготили Николая. Снова он переходил через мост над быстро бегущей свинцовой водой, снова бродил по дворам-колодцам, поднимался по вонючей лестнице. Та же ветхая старушка отворила ему дверь квартиры, но теперь он застал Лузгина не в каком-то затрапезном, домашнем виде, как раньше, а в порядочной тройке, с целлулоидными воротничком и манжетами, с галстуком в горошек, какого-то строгого и официального.
– Я готов выслушать вас очень, очень внимательно, – чопорно, без улыбки, с ощущением собственного достоинства сказал Лузгин, усадив гостя на ободранный диван и усевшись напротив с руками, сцепленными на коленях.
– Пропал Алеша… – без предисловий начал Николай и в двух словах описал обстоятельства пропажи и свой сегодняшний разговор с бродягой.
Лузгин слушал внимательно, но совсем без прежнего, заискивающе-довольного выражения на лице. Лишь при упоминании имени "Царица Варя" он быстро двинул бровями, но тотчас его лицо сделалось по-прежнему непроницаемым. Николай кончил, а он все сидел и молчал, смотря куда-то через плечо гостя.
– Ну, что скажете? – не вытерпел Романов.
– Скажу, что ваши дела неважнецкие, – скороговоркой произнес Лузгин, если, конечно, эта Царица Варя та, с которой и я был знаком когда-то, понятно, по служебной линии знаком.
– Так прошу вас, расскажите все, что вы знаете о ней, – чуть ли не взмолился Николай. – Какие у этой женщины резоны не отпускать Алешу, да и вообще, почему же беспризорник сказал, что она с легкостью может перешибить – так он выразился – мой хребет?
– Хорошо, постараюсь изложить вам историю этой… или предположительно этой особы более подробно, тогда-то вы, Николай Александрович, возможно, и представите себе ее… э, демонический характер. Итак, – поднялся Лузгин и вытащил из тайника какую-то папку, – итак, Варвара Алексеевна Красовская, дворянка, дочь обеспеченных, интеллигентных родителей, училась на Высших Бестужевских курсах, но революционный кружок, в деятельность которого она окунулась с головой, представил Варе иное, нежели наука, поприще. В девятьсот шестом году семнадцатилетняя Красовская становится членом партии социалистов-революционеров, её «левого» крыла и, точнее, боевого его ядра. Вам ли не известны многочисленные кровавые проделки этой группы?
– Да, да, конечно, я был осведомлен и помню. Но ближе к делу…
– Нет, не торопитесь, ваше величество, – впервые улыбнулся своей ядовитой улыбкой Лузгин, склоняя к плечу несуразную по форме голову. Чтобы представить мотивы теперешнего поведения Красовской, – если это она томит в неволе вашего сына, – то нужно знать этого человека. А ведь один раз, в начале седьмого года, я выследил её в одном кафешантане, где она сидела со своим соратником. Боже, она уже в семнадцать лет была ослепительной красавицей, какой-то царицей Савской, Клеопатрой, горячей, страстной, и в то же время по-девически нежной и культурной. Тогда я их упустил – ушли через оркестр, и вскоре последовала целая серия убийств. Террористы едва ли не каждый день расправлялись с видными должностными лицами государства, и я определенно знаю, что фон дер Лауниц и прокурор Литвинов пали от револьверных пуль, выпущенных Красовской.
– Господи, она такая… злодейка! – воскликнул Николай, представив, что его Алеша находится во власти женщины, которая ещё в юном возрасте проливала кровь людей.
– О, немалая! – с каким-то торжеством улыбнулся Лузгин и поправил целлулоидные манжеты, выглядывавшие из-под коротких рукавов его синего пиджака. – Теперь я могу вам сказать и то, что скрыли от государя в то страшное для России время…
– И что же скрыли от меня?
– А то, что во время вашего посещения военной эскадры на Балтике боевики-эсеры планировали и ваше убийство при помощи подкупленных матросов одного из кораблей. Красовская, я знаю, принимала самое активное участие в подготовке покушения на ваше величество.
Николаю стало ещё более страшно за Алешу. Он мог стать тем, кого не убили террористы в девятьсот седьмом году.
– Ну и что же эта Красовская? Чем прославилась потом? – поспешил спросить Николай, чтобы поскорей отогнать тяжкие раздумья.
– А потом – самое интересное. В тринадцатом году она с двумя напарниками, кажется, Штильманом и Барковским, экспроприировав для нужд партии кассу Кишиневского банка взаимного кредита, захватила два миллиона. По тем-то деньгам, – Лузгин вздохнул, – сумма, сами знаете, весьма, весьма приличная. Но, что любопытно, Штильман и Барковский были схвачены, во всем признались, а Красовская с деньгами испарилась – её не дождались ни кассиры партии, ни мои агенты. Знаете, тогда я второй раз восхитился этой женщиной…
– Право, мне безразличны ваши чувства по отношению к этому монстру, холодно и резко сказал Николай. – Лучше расскажите, куда она подевалась тогда, когда ещё я был царем. Почему же вы её не нашли? – В его голосе проскользнули нотки капризной обиды.
– Виноват-с, не сумел-с, – развел руками Лузгин. – Похоже, эта баба оказалась умнее меня, легавой собаки. Впрочем, мои агенты прознали, что Красовская, припрятав деньги, – то есть не соря ими направо и налево, как это сделала бы менее осторожная женщина, – затаилась. Были слухи, что поступила она в один из борделей, чтобы под размалеванной внешностью продажной женщины скрыться скорее не от нас, ибо правосудие наградило бы её только каторгой, а от своих товарищей по партии – социалисты-революционеры такой финт с партийными деньгами покарали бы неминучей смертью, и красота небесная Варваре Алексеевне не помогла бы…
– Дальше, дальше, что было дальше? – торопил Николай.
– А дальше все интересней, все интересней, Николай Александрович, воодушевлялся поначалу холодный Лузгин, точно красавица, с каждой минутой отвечающая все более пылко на ласки возлюбленного. – Варвара Алексеевна, узнал я всего полгода назад, будто бы дождалась своего времени. Конечно, никто бы её при большевиках не стал осуждать ни за экспроприацию банковской кассы, ни за то, что она стреляла из револьвера в царских прокуроров и бросала в них бомбы. Отнюдь. Но к большим деньгам у этой барышни отношение особое. Особое оно и у нынешних властей – могли забрать в свою казну. Не могу постигнуть, почему она осталась, почему не скрылась за границу? Возможно, ей не хотелось раствориться там в эмигрантском болоте, нудном, как говорят, ноющем, однообразном. Видно, ей были нужны острые впечатления. Такие, чтобы леденили душу, завораживали кровь. О, я представляю эту Варю. Но баловаться такой роскошью, как острые ощущения, в Петрограде небезопасно – их здесь не ищешь, да находишь. И вот Варвара Алексеевна заводит дружбу с главными тузами теперешней колоды – с депутатами Петроградского Совета, с шишками партийного древа. Только дружбу, спросите вы у меня, Николай Александрович? Нет, отвечу я вам, не просто дружбу. Отношения куда более теплые, чувственные, сердечные. Не знаю, правда, с чьей стороны они более сердечные, скорее всего, не со стороны Варвары Алексеевны, которой нужна сильная поддержка, опора, помощь и защита…
– Вы говорите так долго, так пространно! – прервал Лузгана Николай. Нельзя ли покороче?
Старая ищейка, казалось, был посрамлен – сник, огонек в глазах потух, и он негромко сказал:
– Так ведь, собственно, и все, что я хотел сказать. Где она живет, не знаю – возможно, под чужим именем квартирует, поэтому в обнаружении её жилья ничем помочь не смогу. Ятолько… только вот что вам ещё посоветую. Будьте с нею осторожны, очень осторожны. Главным вашим козырем здесь может быть лишь то, что она в прошлом левая эсерка, а на этих людей у большевиков с прошлого года, когда они в Москве мятеж устроили, зуб очень острый наточен. Другой ваш козырь – это то, что Варвара Алексеевна дружбу со всякой сволочью водит, кроме людей государственных, как я уже сказал. А третий ваш козырь – это то, что она к одним благоволит, а к другим и нет. Первые счастливы, направо и налево о её прелестях повествуют – а прелести-то немалые, достоинств великих, – а вторые им завидуют. Но не ведают первые, с кем водят дружбу да любовь. Партийная большевистская дисциплина – строга. Вот если бы на самом верху прознали об их сердечных привязанностях, о том, что благоволят к левым эсерам, да ещё к тем, кто замаран уголовщиной…
– А уголовщина какая? Неужели эта Красовская с ворами да убийцами водится?
Лузгин широко осклабился, точно удивлялся наивному вопросу:
– С чистой воды налетчиками тесные связи имеет, да и сама капиталец свой приумножила изрядно за счет интересного промысла.
– Какого же?
– А не догадываетесь? В период вашего, Николай Александрович, приснопамятного правления в столице империи Российской только официально учтенных жриц любви было тринадцать тысяч, а сколько белошвеек, хористок, модисток, цветочниц и прочих, прочих – тело свое на продажу пускали, и не счесть. А ведь теперь, хоть и война в стране, хоть и обезлюдел Питер, хоть и голод, холод, но мужской пыл удовлетворения-таки требует. Зато сколько молоденьких девчонок да бабенок без работы пропадают, не имея возможности честным трудом себя прокормить. Раздолье сейчас для тех, кто бордель устроить захотел, так вот Красовская Варвара, не довольствуясь экспроприированными банковскими миллионами, четыре тайных публичных дома содержит. Видно, пока скрывалась от возмездия закона и своих сотоварищей, сильно древнее женское ремесло полюбила – до сих пор оно Вареньке покою не дает.
– Я понимаю так, – потирая лоб, быстро заговорил Романов, – что Чрезвычайная комиссия имела бы все основания заняться этой Красовской?
– Еще бы! Только нужно доказательства сыскать, документальные, или верных свидетелей выставить. Да только что вам до этой Царицы? Иное дело взять да и скомпрометировать товарищей из Петросовета, из городской большевистской организации. Вот какую бы я цель поставил и ради неё постарался бы и обличительные бумажки отыскать.
Николай вспылил:
– За кого вы меня принимаете? Чтобы я унизился до козней по отношению к какой-то сволочи? Сейчас я надеюсь лишь на то, что Советы будут разгромлены военной силой контрреволюции, а ходить да наушничать Бокию про связи всех этих Гольцманов, Рабиновичей и Зеельдовичей с какой-то шлюхой не мое дело. Мне бы сейчас Алешу вызволить, вот в чем задача.
Лузгин неодобрительно покачал головой:
– Напрасно вы так, Николай Александрович. Не сволочь они – раньше их так назвать можно было. Сейчас эти, как вы выразились, Рабиновичи и Гольцманы – огромная сила, с ними считаться надо, обязательно. Снова вы не одобрили мои методы борьбы с большевизмом, а зря. Впрочем, вы же не отказались подвести под монастырь Сносырева? Чего же теперь-то об унижении говорите?








