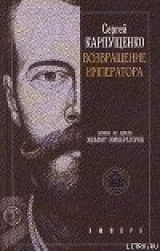
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Скажите, до границы мы дойдем при помощи проводника? – спросил я, не желая замечать сконфуженности героя.
– Я уже был на той заставе и мог бы взять на себя роль этого проводника, но необходимо вначале договориться с теми, кто примет нас в Финляндии: едва мы поднимемся на финский берег, там будут находиться сани, чтобы быстро доставить нас в любой их населенный пункт, где имеются органы власти. Им-то мы и должны будем сделать заявление, что являемся эмигрантами по политическим соображениям. Обычно для таких препятствий не чинят, напротив, проявляют всяческие знаки внимания и заботы.
– Хорошо, – немного подумав, сказал я, – а что, если именно вы, Кирилл Николаич, на финском берегу примете на себя заботу о моей семье и Анне Александровне?
– Я рад сделать все, что в моих силах, – был польщен Томашевский, но, несмотря на свою простоту и неуклюжесть, заметил, что я недоговариваю чего-то. – Ну а вы-то, Николай Александрович? Ведь вы тоже пойдете с нами?..
Я ничего не ответил, вначале покурил, а потом сказал, указывая на комод:
– Здесь – все наши драгоценности, на очень большую сумму. Их вам придется нести до границы… и дальше. В Европе вы, уверен, постараетесь распорядиться ими так, чтобы моя семья была обеспечена. Не забудьте и себя. Если захотите, чтобы мои родные имели со мной связь, установите её, но через человека, носящего фамилию… Лузгин. Потом я дам вам адрес. И успокойте их, пожалуйста, сказав, что наша разлука продлится совсем недолго. А ещё скажите им, что так надо. Впрочем, до границы мы пойдем вместе…
Мы собрались в дорогу тщательно. Запаслись теплой одеждой, кое-какой едой. Томашевский несколько раз пытался заговорить со мной, прояснить себе мой план, казавшийся ему каким-то чуть ли не безумным, но от вопросов я уклонялся. Вышли спустя полторы недели после того разговора. На поезде доехали до Белоострова, потом пошли лесом по тропинкам, известным лишь Томашевскому. Больше всех радовался этой ночной, в общем-то очень опасной дороге, Алеша, не представлявший себе степень опасности. А прогулка была на самом деле дивная. Стояла нехолодная мартовская погода, и деревья, молчаливые и сказочные, казались вылепленными из темно-зеленого воска, сверху обсыпанного сахарной пудрой.
После часа ходьбы Томашевский, все время мрачный и какой-то нервный, шепнул мне, что недалеко застава и ровно в час ночи его ждут в условленном месте, чтобы принять обещанную мзду за проход через границу. Так и случилось – на пересечении двух лесных дорог внезапно появился человек в шинели, принял от Томашевского пакет с деньгами, тщательно пересчитал их, повернувшись к свету луны, а потом махнул рукой, указывая направление. Я ещё слышал, как он сказал: "Там, метрах в тридцати от схода на лед будут наши, слева. Не бойтесь их, они предупреждены".
Вышли на берег неширокой речки, и я, находившийся неподалеку от Аликс, услыхал, как она, перекрестившись, со слезами в голосе сказала будто самой себе, сказала почему-то по-немецки: "Ну, слава Богу, прощай Россия!" Я же, подойдя к Томашевскому, ожидавшему нас у спуска на лед, сказал ему:
– Ну, Кирилл Николаич, не подведите. Главное, поддержите сейчас Анну Александровну и мою жену, а Алеша с дочерьми пойдет.
Вступили на лед, покрытый неглубоким снегом. Шли цепью, один за другим: Томашевский с Анной впереди, я же замыкал шествие и с каждым шагом отставал, даже останавливался порой. И вот уже Кирилл Николаевич с Вырубовой стали взбираться на противоположный, финский берег, где уже маячили тени каких-то людей.
"Очень хорошо, – подумал я, а сердце так и стучало, потому что именно сейчас должна была наступить моя минута. – Вот уж и сани для них готовы, но только не для меня…" Вытащил из кармана браунинг, снял шапку и, прикрывая ею ствол пистолета, стал стрелять в сторону того самого пограничного секрета, который стоял на берегу и следил за нашим переходом. Стрелял я, конечно, гораздо выше, по деревьям, и мои пули не могли задеть людей, однако панику, переполох в секрете я все же вызвал – что мне и нужно было. Оттуда, с берега, послышалась частая винтовочная стрельба, но пули, я ощущал, летели далеко от меня, и мне не составило бы никакого труда добежать до берега и скрыться в зарослях. До берега российского, понятно. Но внезапно я взглянул туда, где на снегу чернели фигуры моих родных, которым Томашевский должен был разъяснить, что внезапная стрельба помешала мне перейти через лед и нужно поскорее уезжать, покуда пограничники не начали палить и по финскому берегу. И вот, посмотрев назад, я увидел, что мои родные не только не спешат взойти на чужой берег, но, напротив, не обращая внимания на выстрелы, бегут ко мне. Впереди всех, как я понял, бежала, сколько было сил, Аликс. Она кричала истошно и длинно: "Ни-к-ки-и! Я к тебе, Ник-к-к-иии". Я же стоял у русского берега, кусал губы, едва не плакал, то ли сожалея о том, что мой план провалился и я недооценил глубину любви моих родных к себе, то ли будучи расстроган их преданностью. Скоро Аликс, и дочери, и Алеша, задыхавшиеся от бега, уже обнимали меня, а пограничники все палили в нашу сторону. Тогда я сказал:
– Кто-то нас предал, и мне не дали перейти границу. Зачем вы вернулись?
– Мы хотим быть с тобой, – припадая к моей груди, простонала Аликс. С тобой.
– Тогда придется возвратиться. Переход не удался, – сказал я и вывел свою семью на берег.
Мы углубились в лес, очень боясь повстречаться с секретом, но не пограничники, а Томашевский нагнал нас уже в ста метрах от берега.
– Где Аня? – бросилась к нему Аликс.
– Я посадил её на сани. Теперь Анна Александровна в безопасности, на свободе.
– Господи, ну хотя бы она… – с глубоким вздохом, полным неизбывной тоски, сказала Аликс. – Ладно, возвращаемся в Россию, чтобы погибнуть…
"Нет, чтобы возвеличиться вновь", – подумал я радостно, хотя тревога за семью не могла быть изгнана из сердца.
Через полтора часа мы были в Белоострове, а утром паровозик-подкидыш снял нас с холодного перрона, чтобы вернуть в Петроград".
Анна же Александровна Вырубова благополучно добралась на санях до одного тихого, но довольно крупного финского поселка, где её радушно приняли местные власти, где она была накормлена, где нашла приют. Она прожила в Финляндии долго, до самой смерти, и историю своих злоключений описала в воспоминаниях, в которых ни строчки не написала о судьбе царя и его семьи, потому что знала – их жизнь не закончилась в Екатеринбурге.
***
Ровно в половине одиннадцатого император, сопровождаемый двумя шотландскими колли, выходил на прогулку в парк, но совсем ненадолго. На обратном пути не реже, чем через день, он снимал пробу пищи, предназначавшейся солдатам Собственного его императорского величества конвоя, вахмистр или фельдфебель предлагали образцы блюд в особых запертых на ключ судках, и царь незамедлительно высказывал свое мнение о качестве солдатской пищи.
Прозанимавшись ещё некоторое время с докладчиками по государственным делам, Николай шел завтракать, и в столовой он встречался с родными. Иногда к столу приглашались сановники и генералы свиты.
Рабочий день возобновлялся около двух часов, когда царь снова принимал докладчиков, но, если их приходило мало, Николай до пяти часов мог посвятить время прогулкам, плаванию на байдарке, находясь в Петергофе, или катанию на велосипеде, но ровно в пять часов жесткий распорядок дня звал императора на чай в кругу семьи. За полдником могли продолжаться деловые разговоры, если этого требовала необходимость. Чаще же случалось, что именно в это время Николай предавался своему любимому занятию – чтению вслух. Но вот часы показывали шесть, и нужно было снова идти в кабинет, и от шести до восьми царь обыкновенно работал в одиночестве.
В восемь часов императора ожидал обед с семьей, который заканчивался общей беседой, чтением или играми. А ужина не было, и, побыв некоторое время с родными, Николай покидал их, пожелав всем спокойной ночи, не забыв поцеловать и перекрестить каждого из них. Но на этом рабочий день царя не заканчивался – после половины десятого он снова отправлялся в свой кабинет, где необходимость вновь заставляла его работать с бумагами, и уже совсем немного времени оставалось ему на лаконичную запись в свой дневник впечатлений от прожитого дня – не было ни досуга, ни, должно быть, охоты пускаться в пространные описания, но Николай фотографически фиксировал буквально все, что его так или иначе поражало. Он очень специфичен, этот дневник, – здесь все зашифровано, сокрыто, потому что Николай не мог не знать, что когда-нибудь эти записи станут достоянием читателей. Только он один за этим краткими сообщениями о погоде, прогулках, обедах, встречах и церемониях мог увидеть свое прошлое в настоящем восприятии, если бы явилось желание снова окунуться в него.
Ступень двенадцатая
ПОЕДИНОК
Сносырев, возвращавшийся из своей тайной поездки в Екатеринбург, был до предела обескуражен, причем ощущение того, что сломался какой-то логический ряд, что не сошлись концы с концами не то чтобы в силлогизме, а в простом, до идиотизма примитивном тождестве, не покидало его. Там, в театре на Среднем проспекте Васильевского острова, он видел живого царя, вернее, бывшего царя Николая Второго, но результаты поездки, тщательное изучение всего того, что ему удалось добыть нелегально, ведь город все ещё находился в руках белых, не оставляли камня на камне от уверенности в том, что Николай Второй жив и уральские большевики по какой-то причине не выполнили приказ правительства.
Прежде всего, приехав в Екатеринбург, Сносырев наладил связи с красными подпольщиками, хотя ни Белобородова, ни Голощекина, ни Юровского в городе найти не удалось. Подпольщики горячо убеждали посланца "революционного Питера", что царь с семьей убиты, водили Сносырева тайно на место казни, в дом Ипатьева, возили в деревню Коптяки, о которой говорил весь Екатеринбург, показывали прокламацию Уралсовета, газеты с извещениями о казни "коронованного палача". Но даже все эти аргументы не привели Сносырева к безоговорочному согласию с фактом расстрела самого Николая. Нужны были свидетельства его смерти, полученные с противоположной, вражьей, стороны, и тут уж Сносырев проявил все свои таланты – разузнал, кто проводил следствие, стал прощупывать кое-каких мелких сошек из членов следственной комиссии, будто очень интересовался судьбой царя как ярый приверженец монархии, и чекисту повезло – сняли-таки ему копию одной бумажки, где значилось, какие вещи были обнаружены в лесу у Коптяков. Сомнений она не вызывала – белые следователи свидетельствовали, что найдены обломки серег Александры Федоровны, стекла её очков особой формы, фрагменты украшений, корсетов великих княжон, искусственная челюсть доктора Боткина, его пенсне и многое другое.
"Конечно, – думал Сносырев растерянно, который раз уж перечитывая копию, – кому, как не белым, знать, что именно эти вещи и принадлежали государю, его семье и приближенным. Уж они-то лукавить не станут – кого им-то обманывать? А вдруг есть резон? Вдруг белым очень надо сделать большевиков убийцами царя? Но ведь и большевики-то сами не отказываются расстреляли, да и точка! Только о жене и детях ничего не говорят, но ведь мне семья и не слишком-то нужна. Я ведь царя живого видел, видел, как он вел себя на сцене, – живой, настоящий! Да и режиссер-то его признал, выходит, не болван же я и на лица память хорошую имею. Ах, не простую задачу задали вы мне, господа хорошие! Но, главное, неважно, как царь остался жив, – на свете всякое бывает. Я скорее не пойму, как этот человек, если б он на самом деле остался жить, вывернулся из-под расстрела, приехал в Питер, а не куда-нибудь в Орел или Тамбов и, не скрываясь, не боясь, не изменяя внешности своей принялся играть в театре, да и не какого-нибудь Гамлета или Чацкого, а самого себя. Что же это, или царь у нас совсем уж сумасшедший был, коль при красном-то терроре, когда и не за такие-то провинности перед трудовым народом посылают на расстрел, стал издеваться над чекистами, над большевистской партией. Нет, не постигнуть!"
Так думал Сносырев, перемалывая факты жерновами своего неслабого ума, пока поезд, подолгу останавливаясь у каждой станции, неспешно тащился к Петрограду. Но вот и Питер. Переоделся на своей вместительной квартире, надев шевиотовую тройку, пальто из габардина, велюровую шляпу, желтые американские штиблеты, и тотчас на Гороховую, 2. Спешил поговорить с сотрудниками, которых он просил сходить в театр, на премьеру того самого спектакля, где царя играл сам бывший царь.
– Да вы знаете, товарищ Сносырев, – виноватым тоном заговорил чекист, отвечая на вопрос князя красных сыщиков, – ведь похоронили мы и Збруева, и Ашкинда, и Филиппенко…
– Как… похоронили? – чуть не выпала папироса из задрожавших пальцев Сносырева. – Ведь и месяца не прошло, а похоронили? Убили, что ли, их? Во время операции? Уголовные или контра?
Сотрудник, знавший о привязанности Сносырева к Збруеву, Ашкинду и Филиппенко, тяжело вздохнул, точно в смерти всех троих был повинен лично, и сказал:
– Пошли они в театр, а там какая-то сволочь бомбу подложила. Вот в конце спектакля и шарахнуло, а товарищи-то наши в первом ряду сидели… наповал их… Немало зрителей там перекалечило.
– Ясно… – глядя куда-то в сторону, неопределенно заметил Сносырев. Ну, а актеры?
– Что… актеры? – не понял сотрудник, тщательно вытиравший перо фетровой перочисткой.
– Ну, актеры-то погибли?
Чекист, в глубине души очень удивленный тем, что самого Сносырева не столько тронула смерть товарищей, сколько интересовала судьба актеров, пожал плечами и сказал:
– Говорят, кого-то убило, кого-то ранило. Не знаю точно…
– А того, кто… царя изображал? Что с ним стало? – допытывался Сносырев, очень боявшийся того, что таинственный актер, носивший фамилию Романов, так и унес в могилу свою тайну.
– А черт его знает, товарищ Сносырев. Вы бы лучше у Егорова все выяснили, он там был, разбирался, а до меня только слухи одни дошли.
И начал Сносырев копать, потому что не мог распроститься с желанной идеей вывести на чистую воду человека, посмевшего играть убитого императора так достоверно, так правдиво и талантливо, что ни у кого, кто имел глаза, уши и хотя бы самый средний ум, эта игра не вызвала бы уверенности в том, что они видят настоящего Николая Второго. Потянув за кончик нити, Сносырев стал разматывать целый клубок: то, что человек, игравший императора, не был не только убит или ранен, а и вообще его никто не видел ни в зале, ни за кулисами после взрыва, Сносырев выяснил скоро, и этот факт сильно поразил его.
"Как же так могло случиться, что взрыв бомбы, подложенной, как выяснилось, под сценой, не задел гражданина Романова? – мучительно рассуждал Сносырев, заперевшись в самой дальней комнате своей большой, даже роскошной квартиры, обставленной богатой мебелью, вазами китайского фарфора, с полами, устланными дорогими коврами. – Не иначе, как он её и подложил, он или его сообщник, чтобы уничтожить театр, глумившийся над личностью царя, над его семьей. Если взрывал "Красную сцену" монархист, сумевший к тому же уберечь от бомбы этого Романова, то такое обстоятельство есть доподлинное свидетельство того, что Романов-актер – настоящий Николай Второй!"
– Ну, товарищ Сносырев, как съездили в белый Екатеринбург? – мягко ступая по ковру кабинета своими вычищенными до зеркального блеска ботинками, спросил с полуулыбкой товарищ Бокий, когда Сносырев вальяжно развалился в кресле, закинув ногу на ногу.
– Так, как я и ожидал, – вяло махнул рукой чекист. – Все говорит за то, что уральские чрезвычайщики выполнили приказ Свердлова, царь и вся его семья уничтожены. Вот мой отчет о командировке с приложением копии, снятой с реестра тех вещей, что были найдены белыми на месте захоронения Романовых.
И Сносырев жестом человека, исполнившего трудную и опасную миссию с успехом, просто-напросто блестяще, вынул из недр прекрасного английского портфеля несколько листков бумаги. О своих сомнениях Сносырев Бокию рассказывать не стал, потому что разоблачение инкогнито бывшего царя берег до поры, чтобы сделать его лестницей для своего быстрого возвышения над многими, и над товарищем Бокием в том числе. Но Сносырев не знал, что всегда улыбающийся ему товарищ Бокий давно уже боится авторитета этого молодого, хваткого и умного сотрудника, сумевшего возглавить контрольно-ревизионную коллегию ЧК, наделенную правами инспектировать работу высших начальников Комиссии.
– С интересом ознакомлюсь с твоим отчетом, – переходя на «ты», сказал Бокий, что означало у него не фамильярность, а подчеркивание особо деловой стороны в беседе. – А теперь, дорогой товарищ, поведай мне, какому такому Гольдбергу ты разрешил забрать из Выборгской тюрьмы гражданку Вырубову, бывшую фрейлину императрицы?
И Бокий, сняв со своего стола листок бумаги, подал его Сносыреву, который долго рассматривал мандат, найденный под мертвой головой тюремного коменданта, рассматривал и улыбался.
– Фальшивка! – сказал он наконец тоном снисходительного пренебрежения к чьей-то неудачной шутке.
– Ой ли? – воскликнул Бокий, в глубине души поражаясь невозмутимости молодого сотрудника. – А подпись-то твоя, и бланк из твоего отдела. Представь, мы, пока ты был в отъезде, специалисту кой-какие твои бумажки, с твоей рукой, и этот вот мандат показывали, и он нам заключение такое дал: мандат тобой подписан. Как же нам дальше говорить?
– А что там, собственно, случилось? – нахмурился Сносырев, доставая из серебряного портсигара дорогую папиросу.
Бокий вкратце рассказал о нападении на тюрьму, поведал о похищении Вырубовой, и Сносырев, окутанный ароматным папиросным облаком, сказал:
– Кто изготовил налетчикам эту бумагу, я не знаю. Никакому Гольдбергу её я не давал, но через некоторое время я вам скажу определенно, кто устроил взрыв в театре, кто совершил нападение на Выборгскую тюрьму и, возможно, кто на самом деле убил товарища Урицкого. Почти уверен, что Каннегиссер, этот нервный мальчик, сочиняющий стишки, в этом неповинен.
– Очень интересно, очень, – пробормотал Бокий, проводя пальцами по своим толстым губам и пристально вглядываясь в лицо Сносырева, на него даже не смотревшего. – Уж ты, пожалуйста, нам его имя назови, а то ведь, сам понимаешь, бумага эта как-то против тебя работает, а время сейчас такое сложное, война идет, разгул преступности, происки контрреволюции.
– Дайте недельку сроку, и вы получите такой подарок, который даже Москву, да что там, весь мир не оставит равнодушным, – сказал Сносырев и, щелкнув замками своего английского портфеля из гиппопотамовой кожи, пошел к выходу, сверкая желтыми штиблетами.
Нет, Сносырев не был напуган тем, что в нем могли заподозрить участника налета на тюрьму, имевшего целью освободить "ярую монархистку", «контрреволюционерку», да ещё и "германскую шпионку" Анну Вырубову, но было неприятно осознавать себя втянутым в какую-то историю, где фигурировало его имя, честное, не запятнанное прежде ничем. Сносырев почему-то был уверен, что человек, имевший фамилию Романов, игравший в "Красной сцене" царя, и был тем, кто освобождал заключенную Вырубову, но доказать это он не мог. Конечно, можно было разыскать этого Романова, отвести его в камеру, а там добиться полного признания, применив способы допроса, приносившие успех ещё тысячелетия назад. Но тогда бы пришлось привлекать других людей, делать их посвященными в тайну ожившего императора, а Сносырев хотел добиться лавров разоблачителя один, без соратников. Особенно его тщеславие согревала надежда, что в лице Романова он отыщет ещё и убийцу Урицкого, потому что в рапорт начальника охраны, представившего Каннегиссера единственным покушавшимся на председателя ЧК лицом, он не слишком верил. Свидетели утверждали, что слышали другой выстрел, а также видели человека в плаще, умчавшегося на велосипеде.
А между тем в Петроград уже пришла весна, и воробьи щебетали яростно, совсем так же, как до революции, до братоубийственной войны, и над городом неслись разлохмаченные ветром облака, все чаще обнажая небесную лазурь, вселявшую в людей уверенность, что Небо, Вечность, Мудрость переживут земные беды, покой восстановится, женщины будут рожать, а мужчины трудиться, радуясь детям, небу, собственной силе и здоровью.
Николай и его семейство переживали эту весну по-новому. Теперь, когда после неудачного перехода через границу надежда оставить больную, истерзанную смутой Россию надолго исчезла, они как-то сосредоточились друг на друге, на заботе о самих себе, но вместе с тем желание не только жить маленьким мирком, устроенным в удобной, просторной квартире, но и выйти за его пределы, найти занятие для души, для рук, истосковавшихся по какому-нибудь делу, мало-помалу увлекало каждого из Романовых, во всяком случае, молодых членов семьи. Раньше дети царя или жили учебой, развлечениями, или выполняли роль каких-то ритуальных статистов на официальных церемониях, находясь рядом с царственными папаi и мамаi. Теперь же, когда никто не обременял их этим, девушки и Алеша могли полностью отдаться какому-нибудь любимому ремеслу.
Ольга, например, хорошо игравшая на фортепьяно, нашла себе работу. На Первой линии Васильевского острова, где жили они, в доме Клифасу, как называли это шестиэтажное здание старожилы, работал кинематограф, и как-то раз девушка увидела объявление, повешенное рядом со входом: "Требуется аккомпаниатор-пианист". Показав директорше кинематографа свое мастерство, Ольга сразу же была принята на должность аккомпаниатора, да ещё с приличным хлебным пайком, выдававшимся ежедневно, и теперь по вечерам, если не отключали электричество, она в перчатках с отрезанными концами пальцев озвучивала немые фильмы, крутившиеся бесплатно для солдат и ревматросов, куривших в зале и часто отпускавших в адрес красивой пианистки плоские и сальные шутки.
Татьяна, узнав о работе своей сестры, тотчас заявила, что тоже подыщет себе местечко, и скоро её приняли в местную библиотеку, чтобы девушка сумела разобраться в куче книг, привезенных из квартир бежавших за границу богатых горожан. Маше тоже скоро повезло, и "Добрый Толстый Туту", как в шутку называли Машу сестры за её покладистость, стала преподавать письмо и арифметику малолетним детям красного командира, жившего на одной лестнице с Романовыми. А что касается Алеши, то он под руководством отца и матери, а также сестер продолжил прерванный курс обучения, пройти который раньше ему мешала болезнь, укладывавшая мальчика в постель довольно часто, а также отъезд в Тобольск и Екатеринбург. Даже Александра Федоровна, проплакав целую неделю после того, как ей пришлось расстаться с мыслью уехать за границу и со своим любезным, сердечным другом Аней, нашла себе занятие в приведении квартиры в надлежащий вид, соответствующий её представлениям об уюте, да ещё в частых посещениях конторы председателя жилищного комитета, где бывшая императрица, чья воля не могла проявиться по-царственному, с размахом, бранилась с председательницей из-за плохо налаженной уборки двора, лестниц, из-за нерегулярно доставляемых дров и плохо текущей воды из крана. Умея добиться своего, получив устное обещание от "женщины в крестьянском платке", как называла председательницу бывшая императрица, Александра Федоровна на самом деле получала сильное нравственное удовлетворение, точно вновь стала царицей. Один лишь Николай не смог обрести душевного покоя, потому что, обладая страстным желанием вернуть себе власть в стране, не находил пока реальных способов к осуществлению своей мечты, что делало его несчастным. Он любил гулять в одиночестве по Васильевскому острову, часто заходил на Смоленское кладбище, в часовню Ксении Блаженной, где истово молился, и только Бог знал, что он у Него просил.
Однажды, в конце апреля, когда деревья Смоленского кладбища успели подернуться зеленым налетом едва распустившихся листьев, Николай, выйдя из часовни и пройдя к кладбищенской конторе, что размещалась у самого входа, сел на скамейку, чтобы покурить перед обратной дорогой. Мимо него проходили на костылях безногие солдаты, нищие в отвратительных рубищах, горожане, несшие Ксении свои мольбы о заступничестве. Никогда прежде, до великой войны и революции, не видевший такого количества обездоленных людей, он ощущал какую-то вину перед ними, и его утешало лишь сознание того, что и он сам стал жертвой, и если бы все эти люди узнали, кто сидит здесь, на скамейке, а тем более, какой конец был уготован ему и всей его семье, то, наверное, эти нищие и калеки непременно пожалели бы его.
– Товарищ Гольдберг? – услышал вдруг Николай, погрузившийся в свои думы. Он медленно повернул голову в сторону человека, одетого щегольски, даже изысканно, – шляпа-котелок, легкий серый плащ, туфли с белыми гетрами, усики, тонкие и аккуратные, – и растерянно спросил:
– Это вы ко мне обратились?
– Ах, нет, я теперь вижу, что обознался, извините, – улыбнулся молодой мужчина, сидевший на другом конце скамейки. – Просто вы так напомнили мне одного человека. Его фамилия – Гольдберг.
– Нет, я ношу другую фамилию, – равнодушным тоном, не глядя на щеголя, сказал Николай, хотя что-то внутри шепнуло ему, что этого человека в котелке нужно опасаться.
– Я понимаю, что по паспорту вы – Романов, – продолжал улыбаться незнакомец, – но я знаю также, что в некоторых случаях люди из соображений практического свойства, так сказать, облекаются не только в костюмы, не свойственные их привычным вкусам, но и выступают под чужими именами. Мне недавно рассказывали, что на одну из тюрем города было совершено нападение. Так вот, налетчики изображали из себя чекистов, и один из них назвался Гольдбергом, комиссаром Гольдбергом. Представьте себе, этот комиссар со своим товарищем убил начальника тюрьмы, а потом вывел из камеры одну арестантку, очень опасную монархистку и контрреволюционерку. Отчаянно смелый тип.
Точно парализованный, Николай оцепенело смотрел на шевелящиеся усики незнакомца, который, казалось, наслаждался тем, что привел его в замешательство. Теперь не могло быть никаких сомнений, что человек в гетрах подсел к нему потому, что был уверен в том, что именно он, Николай Романов, не только является лицом, когда-то носившим корону, но и тем, кто нападал на Выборгскую тюрьму. Правда, на лице Николая сейчас не было бороды, которую он, по настоянию Томашевского, приклеил непосредственно перед налетом, а потом снял её на ходу ещё до того, как они с Вырубовой заняли места в экипаже.
– Ну и что мне за дело до какого-то Гольдберга? – постаравшись не потерять самообладания, холодно сказал он. – Вы-то сами кто такой? Я вас и знать-то не знаю. Вы психически нормальный человек?
"Усики" усмехнулись понимающе, как может усмехаться человек, способный оценить острое словцо собеседника и не обидеться в то же время.
– Вполне нормален, гражданин Романов, вполне. А фамилия моя Сносырев, я сотрудник чека, что же касается вашего отношения к комиссару Гольдбергу, то вы скорее не к этому мифическому лицу отношение имеете, а к гражданке Вырубовой. Только для чего же вы, Романов, меня-то подвести так хотели? Ведь я и обиду на вас затаить могу: состряпали документик за моей подписью, будто именно я решил помочь монархистам в деле освобождения из тюрьмы их соратницы. Ей-Богу, до глубин сердца обидно! А товарища Урицкого, моего бывшего начальника, для чего застрелили? Он-то что вам дурного сделал? Да к тому же обрекли своим отчаянным шагом на погибель поэта Каннегиссера, который и попасть-то в Моисея Соломоныча как следует не сумел. А для чего ваш соратник театр подорвал? Что дурного сделали ему три моих товарища чекиста? И, главное самое, как вам, Николай Александрович, удалось так талантливо сыграть покойного царя Николая Второго? Вот, видите сами, как много у меня к вам вопросов, но пока я вас официально вызывать не стану. Мне ещё и самому-то многое неясно, так вот вы, гражданин Романов, не потрудитесь ли, не проясните ли хотя бы некоторые вопросы, коими я сам себя и озадачил. Ну, договоримся мы с вами?
Николай, который по мере того, как Сносырев открывал перед ним все свои козыри, становился в душе все более спокойным, точно теперь и бояться-то нечего было, раз его инкогнито раскрыто, сказал, улыбаясь и закидывая ногу на ногу:
– Договоримся, ещё как договоримся, гражданин..? – он сделал вид, что забыл фамилию чекиста.
– Сносырев.
– Да, да, Сносырев. Так вот, начну с конца прояснять. Видите ли, вы, почтеннейший, не совсем точно выразились: я не талантливо царя играл, а просто верно его играл. Ведь «талантливо» можно было бы сказать по поводу игры какого-нибудь фигляра, лицедея, а я-то не фиглярничал и не лицедействовал, а изображал самого себя, да-с! Экий вы проницательный молодой человек, раз во мне самого помазанника разглядели, да ещё не испугались не поверить в то, что весь мир знает о расстреле царском. Эта смелость вам честь делает, юноша… Ну-с, дальше пойдем: не соглашусь с вами только в том, что имею причастность ко взрыву в театре, – нет, не покушался на жизни невинных людей и очень об убиенных плаiчу. Лично я хотел лишь в самом конце спектакля во всем народу признаться, открыться перед ним и разъяснить, что никакой грязи в царской спальне не было. Что касается нападения на тюрьму, то все верно – я этот налет организовал, и теперь Анна Вырубова уж далеко, за границей, но смерть молодого коменданта тоже не на совести моей. Он проявил излишнюю ретивость, ревность к службе, вот и поплатился. Зато Моисей Урицкий моей рукой убит, ибо мстил я ему за смерть моих милых, ни в чем не повинных родичей.
Николай замолчал, а Сносырев сидел ошеломленный, подавленный, не ощущая ни радости от этого неожиданного прямого признания, ни чувства облегчения от того, что проблема, терзавшая его последнее время, исчерпана, точно песок в часах. Не радовался Сносырев ещё и потому, что вдруг ощутил себя каким-то пигмеем, даже карликом, в сравнении с этим могучим по духу человеком, бесстрашным и презирающим тех, кто был бы рад расправиться с ним опять.
– Почему… вы мне все это так откровенно говорите? – стараясь выдавить улыбку, спросил Сносырев. – Ведь вас расстреляют уже за то, что вы – бывший царь, кровавый палач, угнетатель трудового народа. А теперь ещё Урицкий, Выборгская тюрьма, взрыв в театре. Может быть, это вы… сумасшедший? Яне могу вникнуть в вашу логику, постигнуть мотивы вашего поведения. Почему вы не за границей, а живете в Петрограде во времена красного террора, суетитесь, наряжаетесь царем, чекистом? Вам что, захотелось сыграть наконец какую-то значительную роль?








