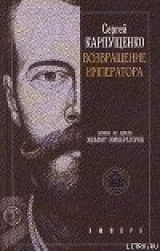
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Речь Трофима Петровича о ремнях, которые не худо было бы вырезать из спины русского царя, на всех Романовых произвела отвратительное впечатление. Каждый, включая и самого Николая, думал сейчас о том, что никак невозможно выдать этому страшному человеку свои настоящие имена.
– А кто же это в России поумнее русских был? – еле сдерживая волнение, спросил Николай.
– Как кто? Немало таковых находилось. Мне один дохтур городской рассказывал, что он на призывном участке работал, так хитрых немало находилось. Немцы русские, например, боясь призыва, так себя голодом изнуряли, что чистыми шкелетами на комиссию приходили – не брали их. Татары другую штуку любили: засунут себе в задницу на несколько дней махонький мешочек с горохом, а горох-то у них там и распарится, больше станет. Дернут они тогда за веревочку, что к мешочку заранее привязана, вот у них кишка-то и выпадет – бракуют таких. Но умнее всех явреи были. Они ни горохом, ни голодом себя не увечили. Просто договаривались с самыми больными людьми из своих, которые на участке-то своих болезней не показывали. Брали таких в армию, а потом они в скором времени все свои болезни открывали, и списывали их назад, – так у них и больные и здоровые целы и сохранны оставались. Русские, конечно, тоже стремились не идти служить – пальцы себе указательные по дурости отрубали, но мало таких было. Я же своих сынов сам в участок привел – и не вернули мне их, сожрал их полностью русский царь.
Если бы Трофим Петрович был проницателен, то без труда распознал бы на лицах своих постояльцев сильное замешательство, даже страх, но он, хоть обладал способностью лечить травами, на лицах людей читать не умел, однако заметил, что произвел на семью «ахфицера» впечатление своим рассказом.
– Ну, ты, полковник, вижу, глухаря убил – птица знатная. Только не по-нашему ты за неё взялся. Эх, руки бы тебе поотрывать за такую работу.
И знахарь, выйдя вначале за порог и принеся с крыльца за уши двух убитых им зайцев, бросил их рядом с глухарем, а потом принялся за ощипывание птицы. При этом он искоса посматривал на девушек, все ещё не сумевших оправиться от смущения, и говорил:
– Хорошие у тебя кобылки, ахфицер, нежеребые еще, да вот только сынок твой квелый. Чем болеет?
– У… Александра гемофилия, – ответила за Николая Александра Федоровна, изменившая имя сына, потому что боялась, как бы этот лесной человек не догадался…
– Что за болезнь такая? – нахмурился знахарь.
– Плохая сворачиваемость крови. Если ушибить, к примеру, ногу, то возникает внутреннее кровотечение, которое не остановить. Кровь давит на ткани и причиняет сильную боль, – сухо и деловито объяснил Трофиму Петровичу уже Николай.
– А, знакома мне такая болезнь. Кровоточкой её у нас называют. Ну так попользую вашего Сашку своими травами. Не будет больше болеть.
– Неужели вы на самом деле… сможете помочь моему сыну? – вся дрожа от волнения, спросила мать, ибо вдруг внезапно поверила в силы этого человека, глубокие, страстные глаза которого так напоминали глаза Распутина. Александра Федоровна даже на секунду допустила одну странную мысль, но тут же отогнала ее: "Нет, нет, не может быть, я видела тело старца…"
Не прошло и часа, а в котлах на очаге уже варился глухарь с травами и кореньями и тушилась зайчатина с картошкой и морковью. Романовы, привыкшие уже к присутствию человека, страшно ненавидевшего «их», переставшие стесняться своей полунаготы (потому что решили, что стесняться можно лишь ровни), ждали теперь лишь одного – еды, пусть грубой, простой, сваренной в каких-то грязных, закопченных котлах, но все же способной вернуть им силы, утраченные во время ночного странствия по лесу.
И вот уже дымящиеся котлы были поставлены на стол, но оказалось, что у хозяина всего одна миска и две деревянные ложки, причем одна из них с наполовину сломанной ручкой.
– Как же мы будем есть? – очень вежливо спросил у хозяина Николай.
– Ну как – по очереди! – ответил «старец». – Кто хочет, пусть в миску еду положит, а другие пусть прямо из котла хлебают. Мясо я мелко настрогал, ложкой цеплять можно, а то и руками ешьте. Э, ты, я вижу, ахфицер, к такому способу непривычен, но так что же делать будешь? Надо привыкать, коль в лес забрел своей охотой.
Николай чуть смущенно улыбнулся и протянул ложку своей жене, которая, незаметно обтерев её платком, с брезгливой миной на лице, явившейся совсем невольно, зачерпнула из котла, где была похлебка с глухарем, съела и, негромко почмокав, кивнула одобрительно:
– А это ведь довольно вкусно! Как это мне раньше не удавалось попробовать столь отменного блюда.
– Потому, мамочка, что тебе никогда ещё не приходилось так много ходить по болоту, – со вздохом заметила Ольга, а Трофим Петрович лишь полупрезрительно хмыкнул и полез рукой в котел с зайчатиной.
Спали они на следующую ночь на полу, на каких-то вонявших кислятиной и плохо обработанной кожей шкурах, постеленных хозяином. Лишь Александре Федоровне досталась сбитая из плохо оструганных досок лежанка, сам же знахарь пошел почивать в сараюiшку, где у него было сено, заготовленное с осени для пойманной им в лесу одичавшей козы, околевшей отчего-то зимой. Уже вечером Трофим Петрович дал Алексею отвар каких-то трав и прошептал над мальчиком заговор, чем сильно и приятно поразил бывшую царицу, забывшую тут же, какую кару уготовил бы этот человек для её мужа, да и, возможно, для всех них.
– Какой он странный, жутко странный, – прошептала Анастасия, когда Романовы, помолившись перед сном, улеглись на шкуры. – Ему, видно, человека убить – все равно что комара, а вот взялся-таки лечить Алешу, не прогнал нас, накормил.
– Они все очень странные, эти русские, – вздохнула Александра Федоровна. – Я прожила в России больше тридцати лет, да так и не поняла, что это за народ. Ну и Бог с ними…
Больше они ни о чем не говорили, потому что тяготы минувшей ночи навеяли на них скорый сон. Только один Николай долго не спал. Из его головы не выходили слова Трофима Петровича о том, что у такого-де царя, как он, ремни из спины вырезать нужно. Николай давно знал, что его в стране многие не любили именно как царя, но чтобы нелюбовь могла выразиться в такой безобразной форме, он не подозревал. "Ну отречение, ну ссылка, ну заключение в крепости, расстрел, в конце концов, но чтобы так жестоко расправиться с помазанником Божьим – поразительно. Я, управляя Россией, думал, что понимаю народ, но, оказывается, я не знал о его истинном отношении к себе". Перекрестившись, он вскоре заснул, будучи очень недовольным собой.
Наутро Трофим Петрович засобирался. Отдал Николаю браунинг, свою «драгунку» с пачкой патронов, дал наставление Александре Федоровне, как врачевать «Сашку», сказал, что идет в город, чтобы «пользовать» людей, велел дожидаться его возвращения и с мешком, в котором лежали его лесные лекарства, пошел по тропинке в направлении, только ему одному и известном.
Две недели Романовы жили в лесной избушке, и Николай уже начал беспокоиться о том, что их хозяин не придет. Во-первых, он ждал от него вестей о положении в Екатеринбурге, который вот-вот должен был перейти в руки колчаковцев. Во-вторых, если бы он надумал выбираться из леса, то без подсказки лесного жителя это было бы трудно совершить. Его уже не страшило то, что Трофим Петрович может раскрыть его секрет, – слишком уж диким казался он, но Николай не мог быть уверен в том, что знахарю не придет в голову мысль передать «ахфицера», полковника, в руки чрезвычайки.
Но вот Трофим Петрович появился. Надо сказать, что за время его отсутствия девушки и даже Алеша, который, к великой радости матери, на третий день уже спокойно стоял на своей больной ноге, а на седьмой даже бегал, привыкли к своему лесному житью. Свобода, истинная свобода, безо всяких дворцовых условностей, которыми прежде была опутана их жизнь, очаровала детей бывшего императора, и они уже почти не замечали неудобств их лесной обстановки.
Трофим Петрович, желая, как видно, проявить себя радушным и хлебосольным хозяином до конца, принес из города пшеничной муки, цибик чаю и сахар, врученные ему за лечение больных, и, когда вечером сели ужинать, знахарь, видя удовольствие, с каким его постояльцы уписывали свежевыпеченный хлеб, говорил, ухмыляясь в бороду:
– Теперь ты, ахфицер, можешь в город идти, не тронут там тебя. Белые в городе. Ох и шерстят же они народ! Стреляют направо и налево. Кто с красными лямку тянул, не щадят, а тем паче потому лютуют, что, как сказывают, расстреляли большевики всю царскую семью и их прислугу…
– Как расстреляли? – опешил Николай.
– Да как, обычно, – равнодушно заметил Трофим Петрович. – Привезли их в Екатеринбург из Тобольска, а незадолго до того, как ушли из города большевики, кокнули они в подвале одного дома самого Николашку, жену его немку, которая во время войны Герману сахар посылала да на него шпионила, всех царевен и маленького царевича. Никого не пощадили, да и правильно сделали. Если б мне такое дело доверили, и у меня бы рука не дрогнула. Всех бы прикончил без жалости.
– Отчего же это вы, Трофим Петрович, такой безжалостный? Разве Романовы не люди? А ещё людей лечите. Христос же прощать велел… – очень тихо, не поднимая глаз, сказал Николай.
– Почему безжалостный, спрашиваешь? – уперев руки в столешницу, заговорил Трофим Петрович. – А царь-то к нам жалостлив был, когда на войну отправлял?
– Не царь вас на войну отправлял, а сложившиеся в стране и мире обстоятельства. Нужно было отечество защищать, вот вас и посылали на войну, – с какой-то холодной решимостью, но все так же тихо промолвил Николай, в то время как его дети замерли в ожидании какой-то беды, перестали есть, а Александра Федоровна умоляюще смотрела на мужа, желая остановить его.
– Ах, обстоятельства! А какие же такие обстоятельства заставили нашего царя грязного мужика в свою спальню допустить, конокрада, который с женой царской да с его дочками каждый день на постели валялся? Ведомо мне, какие тут обстоятельства, – коли у самого плохо мужские дела ладятся, так нужно помощника сыскать!
– Никогда Григорий Распутин не входил в царскую спальню! – отчеканил Николай, и все увидели, как перекосило его лицо от ярости и ненависти к этому человеку.
– А ты откуда знаешь, ахфицер, что не входил? – с куражом спросил Трофим Петрович, которому доставляло удовольствие спорить с полковником. С фонарем стоял или Николашка сам тебе о том доклад делал?
– Нет, не делал, просто я… и есть тот, кого ты называешь Николашкой, а это – моя супруга, бывшая императрица Александра Федоровна. Рядом с ней сидят наши дочери, великие княжны Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия, а это – цесаревич Алексей, бывший цесаревич. Ты царского сына лечил…
Нет, не изумление, а какое-то раздумье нарисовалось на посконном лице Трофима Петровича. Его, казалось, не столько удивляло неожиданное превращение «ахфицера» в бывшего императора, сколько нерешенная задача: как же ему вести себя сейчас, после того как он так много посулил русскому царю.
– Выходит, врали люди, не расстреляли вас? – чуть ли не огорченно сказал хозяин.
– Получается, что врали, – кивнул Николай. – Спасли нас от расстрела.
Вдруг щеки Трофима Петровича раздвинула широкая улыбка:
– А не расстреляли, так и ладно, так и хорошо. Ешьте, пейте, да и спать ложитесь, а я на сеновал пойду, только «драгунку» свою с собой возьму. А то не ровен час…
И, сытно рыгнув, знахарь поднялся из-за стола да и вышел из избы.
– Ники, что же ты наделал, не мог сдержаться? Кого ты захотел разубедить, этого мужика? Я не пыталась возражать, когда меня поливали грязью великие князья, твои родственники, а перед этим быдлом ты решил раскрыть все карты. Как ты неосторожно поступил! – с плачем говорила Николаю Александра Федоровна, но он лишь сказал:
– Я защищал твою и свою честь, Аликс. Не мог же он в моем присутствии обвинять тебя и дочерей Бог весть в каких вещах.
– Папа, тебе нужно было его убить! – со слезами на глазах сказал Алеша, но Татьяна, отличавшаяся самообладанием, сказала так:
– Мы уже завтра утром должны будем уйти отсюда, покуда этот дикарь не попытался исполнить свою угрозу в отношении тебя, папа. Завтра же идемте в Екатеринбург, занятый Колчаком.
– Так мы и сделаем, – кивнул Николай. – А теперь давайте спать ложиться. Предлагаю завтра поутру подняться рано. Я оставлю деньги на столе, и мы будем считать, что сполна расплатились за постой, лечение Алеши и за еду.
И Романовы, помолившись перед сном, улеглись на противно пахнущие шкуры, Николай же улегся, не снимая даже френча. Он решил не спать всю эту ночь, потому что обязанность защитить семью, особенно после того, как он сделал неосторожное признание, подчинила сейчас всю его волю. Пистолет, хоть и был с невзведенным затвором, однако лежал наготове, под рукой. Около двух часов не спал Николай, прислушиваясь к шорохам окружившего избушку леса, слышал, как где-то далеко кричала, стенала какая-то лесная птица, но ничего иного не слышал, и вот уже сон наполнил его веки тяжестью, и они закрылись.
"А как бы не так, как бы не так, Николашка, – думал в это время Трофим Петрович, лежа на сене. – Ты моих сынов убил, жену мою вслед за ними отправил, так вот тебе тем же и отплачено будет, тем же судом осудим".
Было часа три ночи, когда Трофим Петрович тихо поднялся, все сено из сараюшки выволок наружу, привалил к стенам избушки со всех сторон, предварительно подперев дверь тяжелым колом. Ступая осторожно, насобирал валежнику, поместил его на сено. Потом сено зажег пучком соломы, запаленной от спички. Увидев, как вспыхнуло сено, как перекинулось пламя на валежник, отошел с «драгункой» шагов на двадцать пять от избушки, с той стороны, где располагалось небольшое оконце, клацнул затвором карабина, стал ждать, а в душе царила радость, будто встретил своих сынов живых-здоровых. Когда в доме забегали, засуетились, учуяв дым, увидев языки пламени, когда стали в дверь стучать, стоял, направив ствол на окно. Вдруг под ударами чего-то тяжкого стекло окна разбилось, с треском вылетела и рама, и вот тогда пальнул Трофим Петрович прямо по оконцу, желая предупредить того, кто попытался вырваться из дома, но из окна одна за другой сверкнули четыре вспышки, четыре пистолетных выстрела прогремели раз за разом, и Трофим Петрович, мечтавший поквитаться с бывшим русским императором, упал ничком, точно подрубленный. А Николай, протиснувшись сквозь узкое оконце, сквозь пламя бросился к дверям хибары и выбил кол, мешавший выходу на волю его родных.
***
Детские годы Николая, его братьев и сестер прошли в Гатчине, вдали от петербургской суеты, в тихом интимном кругу семьи. Уклад жизни благопристойный, почти простой, несколько буржуазный, что обусловливалось семейными добродетелями воспитанной на лютеранских моральных ценностях Марии Федоровны и Александра, честно несшего нехлопотное в обстановке дворцовой жизни бремя брака. Лишь одним огорчал Марию Федоровну муж склонностью к спиртным напиткам. По столице ходили незлоречивые рассказы о сапогах императора, имевших широкие голенища, где государь, опасаясь гнева жены, прятал фляжки с коньяком.
Итак, детство Николая проходило в мирной обстановке домашнего круга, не зараженной взаимной неприязнью глав семьи по поводу любовных похождений, дрязг, без которых трудно было представить какой-либо европейский монарший дом. Александр, любивший своих детей, участвовал порой и в их возне в саду, когда они обливали друг друга из лейки.
Все три мальчика имели разные характеры. Старший, Николай, знавший о своем предназначении, порой важничал, Георгий, наверное, предчувствуя сердцем неизлечимую болезнь, был замкнут, и совершенной противоположностью обоим являлся младший, Михаил, веселый, краснощекий шалун. Он-то и был любимцем отца, и порой можно было видеть государя, проезжающего в открытой коляске по улицам Гатчины, который сотрясался от смеха, слушая мальчика в офицерской форме, – Миша умел рассмешить отца.
Первым учителем Николая и его братьев был англичанин, попросту именовавшийся Карлом Осиповичем. Он был не только учителем, но и гувернером великих князей. От него-то Николай научился английскому языку, привязанность к которому не утратил в течение всей жизни. Известно, что будущий царь учился у Карла Осиповича акварельной живописи, но без особого успеха. Лучше обстояло дело с чисто аристократическими занятиями: очень рано великие князья научились ездить верхом, стрелять и фехтовать, ловили со своим наставником лососей. Впрочем, они здесь были настоящими мальчиками, и при неназойливом стремлении отца обогатить их глубокими знаниями, которыми он сам не обладал, царевичи в основном посвящали досуг приятным джентльменским занятиям.
Но когда наследнику престола Николаю Александровичу было уже девять лет, директором военной гимназии генералом Даниловичем был составлен план его обучения, имевшего двенадцатилетний курс. За восемь лет великий князь должен был овладеть предметами курса средних учебных заведений, а четыре года посвящались наукам университетским.
Николай повзрослел, и император Александр нашел нужным кроме образования гражданского вооружить будущего государя ещё и знаниями военными, и Николай стал блестящим гвардейским офицером. Летом проводил время в лагерях, походах, ученьях на плацу, но кроме занятий чисто воинских наследник охотно принимал участие в застольях, пирушках, а то и просто пьянках и кутежах шумной гвардейской молодежи. Красивый молодой человек, не стесненный в денежных средствах, Николай узнал прелести любви довольно рано. Достаточно скоро появилась и прочная связь с красавицей балериной Матильдой Кшесинской, но этот роман пришелся не по вкусу Александру Третьему. Узнав о связи сына с "какой-то танцовщицей", отец был просто в ярости, и на семейном совете, дабы уберечь Николая от пагубной страсти, решил выслать артистку из столицы в двадцать четыре часа. Обер-полицмейстер Грессер явился к Кшесинской с указом о высылке, та, улыбаясь, пригласила его в будуар, где находился наследник российского престола.
– Николя, посмотри, в чем там дело, – небрежно сказала она.
Взбешенный Николай, быстро поняв, чем вызван визит обер-полицмейстера, вырвал указ из рук Грессера, разорвал бумагу и выгнал чиновника за дверь. Так наследник, а потом царь мог защищать свои личные интересы. Упрямство было одной из самых характерных черт Николая Александровича.
Ступень третья
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ СТРАСТИ
Вынув из-под застреленного Трофима Петровича «драгунку», Николай закинул её за спину. Оружие могло пригодиться, по крайней мере в лесу. Теперь он был уверен в том, что любой такой «Трофим Петрович» мог быть опасен для него лично и для тех, кого он так любил. Снова оказавшись в ночном лесу, жена и дочери плакали, а Алеша, ухватившись за руку отца, шептал ему, глотая слезы:
– Папа, да как же это получается? Страшно как получается. Почему люди такие злые, ведь этот Трофим Петрович живьем нас сжечь хотел.
И Николай, нагнувшись к уху сына, прошептал, сам еле сдерживая слезы:
– Прости, дорогой, это я один во всем виноват. Это люди вам за меня мстят, но ты не бойся, не бойся, я вас в обиду не дам. Я ведь теперь не царь, а простой человек, мужчина. Явас защищу. Сейчас мы по этой тропинке пойдем, я запомнил, что хозяин в город именно по ней пошел. Я – впереди, а вы за мной, только не отставайте и в сторону – ни шагу.
И, оставляя у себя за спиной догоравшую избушку, приютившую их, а потом едва не ставшую их могилой, Романовы побрели мимо черных деревьев туда, где, как они считали, находился Екатеринбург, захваченный белыми, которых Николаю бояться не приходилось. До рассвета оставалось ещё два часа, а поэтому идти пришлось почти наугад. Лишь охотничье чутье подсказывало Николаю, куда ставить ногу, его сапог верно ступал по твердой земле, и бывшему императору казалось, что опасность с каждой минутой делает его все сильнее, находчивее и умнее.
До того как кроны деревьев порозовели, Романовым удалось пройти, как думал Николай, километров семь. Лес поредел, – казалось, именно наступивший рассвет и разредил густой лес, так что они вышли на неожиданно появившееся шоссе уже ранним утром, и разом у всех словно камень с сердца свалился спасение, полное спасение, ожидавшее их в Екатеринбурге, было близким.
Подходили к городу. То тут, то там встречались следы недавних боев: раздутые трупы лошадей, перевернутые повозки, топорщившиеся оглоблями по краям дороги. Иногда неподалеку от шоссе Николай замечал непогребенные тела людей, над которыми с отвратительным жадным карканьем кружились какие-то черные птицы. Но вот подошли к деревянным домишкам предместий, и он сказал, обращаясь к своим, когда они остановились возле дощатого забора одного из дворов:
– Сейчас вы зайдете в этот дом и попросите приюта на пару дней. Я же пойду к городским властям или… к победителям, не знаю, как правильно назвать. Нужно договориться о местах на поезд до Петрограда.
– Папа, ты что же, так с винтовкой и пойдешь? – удивленно спросил Алеша.
– Да, думаю, я сумею объяснить колчаковцам, откуда у меня «драгунка». О себе же хозяевам скажите, что вы… беженцы из Тобольска и ждете поезда на Петроград. Вот деньги за постой, отдайте тотчас, а я, наверно, к вечеру приду.
Отворив калитку, Николай впустил во двор своих родных, а сам пошел по улице рабочей слободки, безлюдной и неприветливой. Во френче, в высоких сапогах, в фуражке с кокардой старой русской армии, но без погон, с переброшенной за спину «драгункой», Николай выглядел воинственно – его борода и волосы заметно выросли за то время, покуда он был в лесу, лицо покрылось царапинами и волдырями от комариных укусов, – внешностью он сильно смахивал на дезертира. Разглядеть в этом человеке черты бывшего государя России было почти невозможно.
Стук копыт послышался как-то очень неожиданно – три всадника с карабинами за спиной, с пиками и шашками выехали прямо навстречу идущему Николаю из ближайшего переулка. Горделивые позы, фасонисто выпущенные из-под фуражек ухоженные чубы, побрякивающие на груди «Георгии», а у правого бока – шашки в кожаных ножнах, грозные взгляды, какие и должны быть у конных патрульных в недавно отбитом у красных городе.
– А энто ещё что за гусь лапчатый! – уперев левую руку, державшую поводья, в бедро, облаченное в синее шароварное сукно, спросил один из патрульных – как видно, старший.
Николай остановился. Патрульные неспешно подъехали к нему, окружили, рассматривали с вопросительным ожиданием, точно ждали, что сам незнакомец объяснит им, кто он такой и откуда идет.
– Откель идешь, и по какому такому праву с оружием? Из какой части, и почему без погонов, а? – возвышая голос до пронзительной фистулы, прокричал вдруг один из всадников.
– Господа казаки, – спокойно заговорил Николай, знавший всегда, как свято почитается его имя в казачьих частях, – прошу вас, проводите меня к самому высшему своему начальству. Там я все объясню. Винтовку и пистолет я сдаю добровольно.
И Николай стащил из-за спины «драгунку», а после вынул и браунинг. Когда оружие было передано казакам, один из них, нарочито угрюмо хмурясь, деловито заглянул в дульные отверстия, пихнул туда уголок выуженной из кармана тряпицы. Спросил у Николая гневно:
– По ком из них стрелял? Спрашиваю тебя на полном серьезе, и отпираться не смей! Нам вручены самые крепкие права, и ежели ответ твой будет лживый, то порешим тебя тут же, в энтом самом дворе, без суда и всякого там следствия!
Николай понял, что казак не шутит и ему нужно будет дать прямой, исчерпывающий ответ, ибо этот патруль, как видно, на самом деле был наделен большими полномочиями.
– Господа казаки, – заговорил Николай, – эта винтовка человека, приютившего меня и мою семью в лесу, где я скрывался от большевиков. Из неё он сегодня ночью пытался меня убить, но я его убил из пистолета, который вы и держите сейчас в своих руках.
– От большевиков, говоришь, скрывался, – нагнулся с седла казак с четырьмя «Георгиями», точно хотел услышать пояснее то, что говорил ему пленник. – А какого ж лешего тебя в лес занесло? Почему к нам не пробирался, чтобы бороться за освобождение Екатеринбурга? Красно ты говоришь, дядя, только твоей брехне мы верить отнюдь не хотим, потому что много вас всяких тут шатается! Думаю я, что ты сам из красных, потому что лихо ты погоны с себя снял и теперь белым представиться хочешь. Больше, браты, – обратился казак к другим всадникам, – я слушать этого малого не хочу. Кончаем его – и крышка!
Все трое тут же спустились с лошадей. Не выпуская из рук своих длинных пик, казаки покрепче ухватили Николая, у которого ноги подогнулись от страха.
– Господа, господа, да как же так?! Да неужели ж вы хотите расстрелять меня?
– Точно, догадался, расстрелять! – волокли они Николая во двор. – Как такие красные собаки, как ты, расстреляли государя императора с семьей и даже не чихнули. За все сейчас ответите, собаки краснозадые!
Николая приволокли к стене бревенчатого сарая, прислонили к ней, а рядышком притулили к сараю свои пики. Отходили от приговоренного к казни не спеша, дороiгой снимая из-за плеч карабины, деловито передергивали затворы. Отошли на десять шагов, точно переминаясь с ноги на ногу, повернулись, и когда он увидел их спокойные лица, то сразу понял, что через полминуты его не будет, а семья так и не дождется его сегодня.
– Братцы, – проговорил он вдруг неожиданно спокойным, но каким-то торжественно-просветленным голосом. – Последнюю просьбу можете исполнить?
– Ну что тебе, глаза, что ль, завязать? – лениво спросил один казак.
– Нет, завязывать не нужно. Разрешите папиросу выкурить.
– Кури, да нам уж дай, – был снисходителен казак, считавшийся за старшего в патруле, – тот самый, с четырьмя крестами.
Николай дрожащими руками полез в нагрудный карман френча, где у него, в серебряном портсигаре, оставалось ещё три папиросы. Достал его, раскрыл, предлагая подошедшим казакам.
– Можете себе на память взять, портсигар прекрасный. Его мне мать, императрица Мария Федоровна подарила на восемнадцать лет. Смотрите, надпись: сыну Николаю от матери-императрицы.
– Чего, чего? Это у тебя откуда портсигар такой? – сказал георгиевский кавалер, и нижняя его губа отвисла чуть ли не до верхней пуговицы.
Казаки рассматривали портсигар, забыв о папиросах.
– Братцы, – сказал другой казак, – а эту сволочь нам нужно в разведку отвести. Видно, матерого волка взяли. Он-то и убивал царя, раз у него такой вот портсигарчик отыскался. Эх, хорошо, что не успели его жизни лишить, теперь, глядишь, поощрение получим, сугубую начальственную благодарность…
– Нет, постой, Ефим, – с каким-то страхом, отчетливо написанным на глуповатом лице, сказал другой казак, крутя в руках портсигар. – Дядя-то говорит, что он папиросницу энту… от матери своей в подарок получил, от императрицы. Получается, стал быть, что энтот человек – сам император Николай Второй…
И, скумекав собственным умом этакую-то мыслицу, казак широко разинул рот и опустил свой карабин на землю. Но третий казак пробасил:
– Федя, напраслину не неси-ка! Ишь что закуделил – сын императрицы, император! Вчера одного на распыл пускали, так он нам архиепископом Екатеринбургским представился, чтоб только от казни спастись. Вот и энтот несет незнамо что, хотя портсигар у него, вполне возможно, императорский. Отведем его в сотню, пусть сотник сам и решает, что с ним делать: то ли кокать, то ли куда дальше отправлять. А то свяжешься с каким говном, так не отмоешься потом вовек…
И Николая, выведя со двора, погнали в сторону центра города. За конными он поспевал едва-едва, а они, держа его с двух сторон боками своих худоватых жеребцов, подталкивая в спину тупым концом пики, заставляли двигаться так же скоро, как рысили сами, спеша скорее разрешить вопрос с чудаковатым «дядей», ополоумевшим настолько, что назвать себя сыном императрицы ему было так же просто, как сморкнуться.
В дом, где квартировал их начальник, сотник Караваев, пивший в это время молоко с пшеничным хлебом, казаки вошли, громко топая ногами и гремя шашками.
– Вот, ваше благородие, захватили утром одного, отсюда недалече. При винтовке был и пистолете, с нагаром все стволы. Вразумительного ничего не сказал, зато, когда расстрелять мы его собрались как подозрительного, показал нам портсигар один. Вроде царский портсигар. – Казак с «Георгиями», в почтительной позе приблизившись к столу "их благородия", положил на краешек драгоценную вещицу и, пятясь, ретировался на прежнее место.
Когда сотник, морщась, раскрыл портсигар и прочитал надпись, сделанную на внутренней его части, казак с виноватой улыбкой, будто не хотел беспокоить начальство по пустякам, сказал, прикрывая рот двумя пальцами:
– Говорил еще, что он и есть… сын императрицы, то есть, мы смекнули, бывший император – Николай Второй.
Похоже, у сотника, напившегося молока с калачом, поданного ему приятной с виду молодухой, хозяйкой дома, было очень хорошее расположение духа. Он ойкнул, а потом загоготал, топорща в разные стороны свои густющие усы с каплями молока.
– Ну, братцы, и смекалистые же вы у меня! Сразу видно, что Караваев командир у вас! Такого антиресного человека разыскали! Что ж, теперь ждите милости от него – отблагодарит, ей-ей!
Николай, которому давно уже наскучило то, что его не желали признавать за бывшего государя, прервал смех сотника твердой фразой:
– Да замолчите вы! Этот портсигар я вручил казакам, чтобы они убедились в том, что имеют дело с Николаем Александровичем Романовым, бывшим императором России! Вы что, никогда не видели портретов своего императора? Вы смеетесь так громко и… глупо, что я готов подумать, будто вы на самом деле симпатизируете большевикам!
Но Караваев, на которого смелый тон речей бородатого и исцарапанного человека произвел не отрезвляющее, а, напротив, раздражающее действие, Караваев, который хоть и видел не раз портреты императора Николая Второго, но никак не мог предположить, что казаки могли втолкнуть в его комнату бывшего государя, заорал, привставая из-за стола:
– Ма-а-алчать, гнида! Я тебе сейчас такого императора на спине нарисую, что долго Караваева помнить будешь! А ну-ка, Фимка, распиши ему всю спину нагайкой, сейчас же распиши!
И тут же два казака сорвали с ошеломленного рукоприкладством Николая френч, да так грубо, что пуговицы запрыгали по полу, застеленному лоскутными половиками.
– Что вы делаете, холопы! – закричал Николай в ужасе, впервые в жизни проговаривая слово «холоп» при обращении к людям, хотя в душе он часто именовал так своих подданных. – Я – Романов, я – помазанник!








