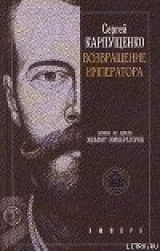
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Ступень шестнадцатая
ТОНКАЯ ИНТРИГА
Осень и начало зимы девятнадцатого года Романовы прожили в состоянии тревожного оцепенения, когда все будто бы и ладно в доме, есть средства, чтобы на рынке из-под полы приобрести картошку, масло, сало; когда Алеша ходит учиться, и совсем недалеко, и совсем-таки недурных преподавателей слушает в гимназии Мая; когда дочери пристроены: одна все так же работает в кинематографе, а другая – в библиотеке, а Маша уже почти оправилась от пережитого потрясения. Но все-таки в этой частной домашней жизни, к которой стремились все Романовы, когда являли вместе августейшую семью, было много неудовлетворяющего, чуждого всем по отдельности. Александра Федоровна, например, время от времени выговаривала мужу за то, что их неудачная переправа через границу отрезала Романовых от нормальной светской жизни и у неё нет порядочных знакомых и приходится довольствоваться соседками-домохозяйками. Правда, бывшая императрица обзавелась тремя приятельницами благородного происхождения – профессоршей, престарелой музыкантшей Мариинского театра и вдовой какого-то надворного советника, жившими в том же доме. Но разве этот круг общения мог удовлетворить Аликс?
Сам Николай, внимательно следивший за фронтовыми сводками, насколько полно они были представлены в петроградских газетах, все ждал, что Красная Армия наконец потерпит поражение и в России к власти придут пусть не сторонники монархии, но и, по крайней мере, не тираны большевики, инородцы, губящие русские души, начавшие глумиться над православной церковью и многовековым укладом русского народа. Но сообщения с фронтов приходили безрадостные – красные полки разбили и Деникина, и Юденича, и Колчака.
По вечерам и даже ночам на него накатывало страстное желание узнать а чего же все-таки хотят большевики? И он стал читать их книги. Внимательно, с карандашом проработал он выданные ему Бокием брошюрки, попросил Татьяну принести из библиотеки Маркса, Плеханова – тоже съел, едва не подавившись, правда. Но потом, обдумывая прочитанное, он никак не мог понять эти социалистические идеи, где во главу угла поставлена какая-то прибавочная стоимость, ради возвращения которой трудовому народу затеяли революцию и люди убивают друг друга как классовые враги. Как все это применимо к России, где в основном живут крестьяне, собственники, и никакой прибавочной стоимости в природе их труда нет и быть не может?
"Не для нас все это, не для нас! – говорил сам с собою Николай, прохаживаясь ночью из угла в угол по своей комнате. – Вот из-за чего выпало столько страданий на долю моего народа! Нужно это прекращать! Нужно повернуть корабль истории на прежний курс. Да, пусть на этом корабле сломалась машина, заело руль, но это нужно починить, а не дрейфовать в полную неизвестность по течению. Я должен, обязательно должен взять в руки руль государственного корабля, корабля-государства, иначе мы все пойдем ко дну на каких-нибудь рифах. Но как мне это сделать?"
Однажды, уже в начале девятьсот двадцатого года, Николай забрел на квартиру Лузгина, который услужливо помог размотать ему на шее лопасти суконного башлыка, снять барскую енотовую шубу, усадил в свое обшарпанное кресло и, загадочно улыбаясь, заговорил:
– Могу поздравить, ваша кампания против Красовской закончилась полной победой – Царица Варя по приговору Ревтрибунала расстреляна, да-с…
Сердце Николая дрогнуло от ощущения какой-то не то что вины за смерть женщины, которая могла расправиться не только с ним самим, но и с Алешей, а потому, что ему стало жаль красивую женщину и её тело, чуть было не ставшее его собственностью, а теперь отданное червям в суглинистой питерской земле. Иногда он вспоминал тот необыкновенно дивный момент, когда Варвара Алексеевна появилась перед ним в неглиже, ему казалось, что на лице молодой женщины было тогда написано желание не только понравиться Романову-царю, но и отдаться ему как мужчине. В эти моменты Николай ненавидел Лузгина за то, что он рассказал о прошлом Красовской, положив тем самым между ними непреодолимую преграду.
– Расстреляна… – словно выдохнул Николай. – Что же теперь?
– А теперь, ваше величество, – бодро заговорил Лузгин, – нужно на ниве, удобренной таким богатым навозом, собрать богатый урожай. Вы прекрасно действовали, вы очень смелы, просто по-царски отважны, как какой-нибудь киевский князь Святослав, но вам не хватает умения вести интригу. Я понимаю, интриги – не царское дело, но всему нужно учиться, а тем более тогда, когда вы стали, как бы это сказать, не совсем царем.
– Но что же я могу сделать? – растерянно всплеснул руками Николай, которого уже не возмущала мысль о борьбе с Советами теми методами, что прежде вызывали у него лишь отвращение.
Лузгин, собираясь с мыслями, желая произнести давно уже заготовленную речь очень убедительно, немного посидел, потирая пальцами виски, потом с очень серьезным видом заговорил:
– В настоящее время партия большевиков сильна тем, что их линия практически не подвержена критике, влиянию всяких там фракционных течений, ревизий и прочее. Нужно сделать так, чтобы появились веяния, направления мысли, не согласующиеся с нынешним курсом. Необходимо вовлечь большевиков во внутрипартийные дискуссии, разделить их, перессорить между собой, а потом и пожать плоды на этой ниве. Неужели вы никогда не читали советов Макиавелли?
– Мне стыдно, но я не читал этого автора…
Он не заметил, как усмехнулся Лузгин, всего лишь краешком рта усмехнулся.
– Так вот, я знаю, что вы в Чрезвычайке на хорошем счету. Я не заставляю вас вступать в партию – помню о предложении Бокия и вашем отказе. Если вам это противно, попросите покамест у председателя ЧК мандат без права голоса для участия в предстоящей городской партийной конференции.
– Но для чего мне он? Чтобы получить наслаждение от пылких речей моих врагов? – раздраженно спросил Николай.
– Не только. Там вы познакомитесь с теми, кто и станут идеологами фракции, кто разделит партию большевиков не надвое, а на большее количество идейных лагерей. Берите мандат, Николай Александрович, а я составлю программу ваших действий, напишу кое-какие тезисы, укажу тех, к кому вам нужно будет подойти.
– Подойти? Да с чем же подойти? Что мне нужно от этих большевиков? не на шутку вспылил Николай, не видя никакой пользы от своего участия в партийной конференции.
– К кому? – насупил брови Лузгин, смотря на непокорного императора уже совершенно неучтиво и даже грубо. – Да к бывшим любовникам Красовской, расстрелянной по приговору Ревтрибунала за контрреволюционную деятельность. Да-с, батенька царь, за всякое наслаждение платить в жизни нужно – вот и пускай заплатят товарищи!
Делегаты уже толпились у входа, предъявляя вооруженным трехлинейками солдатам свои мандаты и стремясь без очереди пройти в вестибюль дворца, чтобы скорей отогреться и напиться чаю в буфете, о наличии которого делегаты были заранее предупреждены. Прибыли не только городские партийцы, но и представители губернских ячеек, поэтому у входа терлись друг о друга драповые пальто с меховыми воротниками, крытые сукном шубы, а то и просто нагольные тулупы крестьянских депутатов, робко стоявших на месте, пропуская вперед городской вальяжный драп и габардин.
Николая в енотовой шубе оттирать не стали, и скоро он уже стоял в вестибюле дворца, где когда-то заседала Дума, нещадно щипавшая императора и его правительство безжалостными клювами своих депутатов. Едва вошел, как услышал громкий голос распорядителя:
– Дорогие товарищи, гардероб работает, но в зале холодно, поэтому кто хочет, пусть проходит прямо в зал в шубах и пальто! Нашей конференции это не помешает! К тому же в буфете на втором этаже каждому будет предложена чашка горячего чая и стопка разведенного чистой водой спирта! Поднимайтесь наверх, товарищи! До начала конференции у вас ещё есть в запасе полчаса!
И делегаты, очень довольные приемом, довольные самими собой, потому что далеко не всякого человека в России потчевали горячим чаем и спиртом, оживленно разговаривая, поднимались наверх. Городские там просто пили чай и спирт, а деревенские, опасливо озираясь, тихонько доставали из узелков припасенный хлеб и сало, не забывая, конечно, про партийный чаевой и спиртовой паек. Подкрепившись, в хорошем расположении духа они спускались вниз, шли занимать самые удобные места в огромном зале, где ряды кресел располагались амфитеатром, а над трибуной висело кумачовое полотнище, на котором аршинными буквами было начертано длинное приветствие делегатам партконференции.
Николай не поднимался в буфет, но с интересом присматривался к этим новым правителям страны, чьи посконные в массе лица говорили о том, что лучше бы им сейчас или ремонтировать сельхозинвентарь, готовясь к весенней пахоте, или стоять у токарного станка на заводе. Но он смотрел на них ещё и потому, что в числе этих мужчин должен был разыскать троих очень нужных ему.
Наконец разношерстная толпа делегатов разместилась в креслах амфитеатра, постепенно разговоры смолкли, и все увидели, как к трибуне быстрыми шагами, сильно подавшись вперед, двинулся мужчина в пиджачной паре, но с шеей, замотанной длинным шарфом, кокетливо развевавшимся во время его стремительного движения. Взлетев на трибуну, он тут же отпил глоток чая из заранее припасенного стакана, распластал по обе стороны трибуны руки, став при этом похожим на горного орла, оседлавшего вершину Арарата, и Николай, перед тем как услышать голос этого человека, уловил шепот сидевшего рядом с ним молодого парня в кожанке, сказавшего соседу с восхищением:
– Сам товарищ Зиновьев говорить будет!
И тут в зал в сопровождении легко трепещущего эха полетели звонкие, энергичные фразы:
– Товарищи делегаты Петроградской партийной конференции! Поздравляю вас с открытием нашего пленума! А ещё поздравляю вас с тем, что в стране после разгрома контрреволюционных армий Колчака и Деникина, которые безрезультатно стремились сломить могучую волю российского рабочего класса и трудового крестьянства, жадно возжелавших сбросить наконец многовековой гнет угнетателей, наступила передышка! Так давайте же, товарищи, откроем нашу партконференцию пением замечательного, зовущего к подвигам во имя торжества коммунизма гимна – «Ин-тер-на-цио-на-ла», дорогие товарищи!
Николая поразило то, как зал разом, с шумом поднялся, как выпрямились эти неказистые с виду люди с корявыми лицами и руками, как напружили свои груди, напрягли щеки, как из их ртов вместе с паром вырвались первые нестройные звуки никогда не слышанной Николаем песни:
Вста-вай, проклятьем заклейме-еонный,
весь мир голодных и рабо-ов…
Николай часто слышал о том, что бастуют рабочие, что бунтуют солдаты, выходят на демонстрации многотысячные толпы недовольных им людей, но видеть все эти действия ему не приходилось, а тем более он никогда не стоял бок о бок с возмущенными его правлением подданными. Теперь же, когда он, тоже вставший, когда поднялись все, находился в тесной физической близости с теми, кто проклинал его когда-то и кто, если бы узнал в нем бывшего императора, тотчас или приговорил бы его к расстрелу снова, или, не дожидаясь трибунала, устроил бы немедленный самосуд, он, несмотря на холод, покрылся поiтом – до того его пронзили потоки жгучей ненависти к прежнему строю, исходящие от стоявших в зале людей. Но вместе с тем азарт и ярость, желание помериться силами с этим тысячеголовым чудовищем, называемым партией большевиков, выбрался потихоньку из пучины страха и отчаянья, вызванного внезапно явившейся мыслью: "А может быть, я России совсем и не нужен? Может быть, все они справедливо так ненавидят время, связанное с моим правлением?"
Когда после долгого и нудного процесса по утверждению регламента, всяких бюрократических процедур, выборов счетной комиссии, ревизионной комиссии и прочей ерунды, продемонстрировавших Николаю то, что и при коммунизме волокиты не избежать, начались выступления тех, кто подал заявки, он немного оживился, потому что было интересно послушать, как идут дела и на фронте, и в промышленности, как функционируют во время развала всего, что можно было развалить, советские финансы, как пытаются наладить снабжение Петрограда хотя бы минимумом продовольствия. Как раз по этому вопросу докладывал высокий красивый хохол по фамилии Медведко, усатый, как Тарас Бульба, и чрезвычайно красноречивый. Он все время грозил кому-то кулаком, делал страшные глаза, чуть не падал с трибуны, подавая далеко вперед свое мощное тело. И ему удалось убедить делегатов в том, что он, комиссар Медведко, ни за что не позволит задушить революционный Петроград костлявой рукой голода.
В перерыве, когда делегаты, возбужденные докладами, снова пошли в буфет, Николай направился туда же, но чай не пил, а дожидался, покуда уполномоченный по снабжению Петрограда продовольствием комиссар Медведко перекусит после своего энергично прочитанного доклада, а потом, когда тот, очищая языком десны от хлебного крошева, вышел из буфета, Николай подошел к нему сбоку и очень вежливо сказал:
– Товарищ Медведко, можно вас задержать минуты на три?
Комиссар остановился, великодушно кивнул:
– Да, да, конечно, товарищ. Вы, наверное, по поводу доклада?
– Не совсем, хотя доклад ваш очень интересен и, главное, содержателен. Значит, не дадите задушить город костлявой рукой голода?
– Не дам, ни за что не дам! – решительно помотал своей большой, как пудовая гиря, головой комиссар по продовольствию.
Они уселись на кожаный диван, закурили, и Николай, глядевший на Медведко как-то чуть насмешливо, заговорил:
– Дело, собственно, вот в чем, товарищ Медведко. Вы, наверное, слышали, что одна ваша очень хорошая и… близкая знакомая, а именно Царица Варя, точнее, Красовская расстреляна по приговору Ревтрибунала?
Медведко нахмурил густые брови:
– Да, знаю об этом. Не пойму только, что там за ней нашли.
– Как же! – насмешливо улыбнулся Николай. – Чего только не вытворяла! И тебе эсерка левая, и притоносодержательница – в наше-то время! Нельзя позавидовать, однако, и тем, кто её окружал. Товарищи из ЧК ведь разбираться долго не будут: ходил к ней, дружбу водил, да ещё находясь на ответственной должности. А откуда, зададут чекисты вопрос, у Красовской такая богатая обстановка, когда страна голодает? Ну не иначе как влиятельные друзья платили ей за любовные утехи. А чем же, спросят, платили? Что, у них разве свое, кровно нажитое состояние большое? Нет, не имеется такового. Тогда откуда средства? Конечно, казенные средства, или, как сейчас выражаются, народные, рабочие-крестьянские. Ага, скажут товарищи из Чрезвычайной комиссии, а мы этим ответственным лицам верили, вручили им наиглавнейшие в городе посты, они же служебным положением воспользовались, чтобы красть и доводить дело до того, что вот-вот голод костлявой рукой возьмет за горло революционный и трудовой Петроград! И отправят чекисты неоправдавших доверие ответственных работников по той же дороге, по которой и Царица Варя прошла.
Николай, попыхивая дымом, взглянул на Медведко – этот большой, красивый мужчина с пышными усами сидел на диване сгорбившись, засунув свои огромные ладони куда-то между колен, красные пятна покрывали его вспотевшее лицо, а взгляд был устремлен на носки начищенных до зеркального блеска сапог.
– Вам нехорошо? – с фальшивым участием спросил Николай. – Врача позвать? Я видел, где-то недалеко есть врачебный кабинет…
– Не нужно ни-ко-го звать! – басом сказал Медведко. – Говорите, чего вам от меня нужно? Стращать меня решили? Ну, допустим, я испугался. Хотите… я дам вам полвагона муки, и вы отвяжетесь от меня, ну, договорились?
– Ой, целых полвагона? – испуганно спросил Николай. – Ай, нехорошо, товарищ Медведко, нехорошо!
– Вагон, целый вагон, вы понимаете, какое это сейчас богатство?
– Догадываюсь, догадываюсь, особенно когда костлявая рука уже легла на горло Петрограда. Но нет, не возьму я у вас муку, Медведко, отдайте её по назначению.
– Тогда чего вам нужно? Мануфактура? Есть хороший ситец, яловая кожа.
– Нет, и мануфактуру оставьте в покое, Медведко. Вы бы вот мне чем помогли – ну просто пустяк. Конференция ещё два дня проходить будет, так не пожелаете ли выступить послезавтра с одним оч-чень интересным докладом. Уверен, произведете куда лучшее впечатление, чем сегодня, о вас заговорят, может быть, в Москву, в Кремль переведут.
– Да что же за доклад такой? – удивился комиссар и как будто повеселел.
– Очень дельный должен быть доклад и… новаторский. Вот его программа, тезисы, так сказать, – и Николай, вынув из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо листок бумаги, подал его Медведке. – Ну, сами видите, я предлагаю вам выступить с идеей, что высшей формой организации рабочего класса нужно считать не партию, а профессиональные союзы. Ну, разве нельзя эту мысль назвать правильной? Ведь ради рабочих и делалась революция, так пусть же они и руководят заводами и фабриками. Больше самостоятельности профсоюзам – и рабочие вам за это спасибо скажут, будто вы их всех накормили сдобными калачами.
Медведко смотрел то на лист с тезисами, то на Николая. На его лице была написана растерянность, он словно быстро обдумывал.
– Но зачем вам все это нужно, зачем? – спросил он наконец.
– Зачем? – Николай бросил докуренную папиросу в высокую красивую урну. – Да рабочих я просто люблю. Увидел, что вы – прекрасный оратор, человек в партии заметный, вот и решил вам свои мысли подарить. У меня бы хороший доклад не получился. Уверен, что скоро вокруг вас, будто пчелы вокруг матки, соберутся те, кто разделит ваши убеждения. Как прекрасно быть руководителем, пусть не партии, а хотя бы оппозиции. Знаете, будет просто здорово, если вы назовете свою группу так: "Рабочая оппозиция". Что, звучит неплохо, да?
– Неплохо, – повторил ошеломленный Медведко, все ещё державший в руках листок, а Николай поднялся.
– Итак, я буду любоваться вами послезавтра. Постарайтесь сделать свой доклад ярким, убедительным. В зале – простые люди, а не университетские профессора. Ну, желаю успехов!
И Николай пошел в зал, потому что звонок уже звал делегатов.
Когда наступило время следующего перерыва, Николай подошел к невысокому мужчине в черной тройке, носившему пенсне со шнурком, пропущенным в петлицу. Тот только-только раскланялся с тремя делегатами, поздравлявшими его с превосходным выступлением, а поэтому, польщенный, довольный самим собой, возбужденно ерошил свои густые, кудрявые волосы и чему-то улыбался.
– Товарищ Энтин, позвольте и мне выразить свое глубокое восхищение вашим сильным докладом, – начал Николай, замечая, как загуляло по лицу делегата удовольствие. – Вы, как председатель комиссии по ликвидации безграмотности в Петрограде, очень метко подчеркнули необходимость даже в наше трудное время расширять сеть школ, курсов, повсюду устраивать избы-читальни. Уверен, что такие меры скоро дадут пышные всходы.
– Спасибо, мне очень важна всякая поддержка моей деятельности, архисложной, сами понимаете, – протянул Энтин руку.
– Очень понимаю, товарищ Энтин, а поэтому хочу сказать вам несколько слов, – сказал Николай, беря Энтина под руку и отводя его к окну. Понимаете, – заговорил Николай тихо, – народное просвещение – такая нужная, но и трудная область, что многое зависит здесь от тех лиц, что берут на себя этот благородный труд. Качества просветителей – это не только личная образованность, но ещё и чистота, высокий моральный облик. А что же это за просветитель, который идет учить людей, невинных детей, а сам водит знакомства с людьми, обладающими запятнанной репутацией? Никакого просвещения не получится, смею вас заверить…
– Я вас не понимаю, – тоже очень тихо, с испугом в глазах проговорил Энтин. – Вы на кого-то намекаете?
– Не на кого-то, а именно на вас, – глядя прямо в обеспокоенные глаза Энтина, сказал Николай. – Вы же приятель расстрелянной эсерки Красовской, жившей на доходы от продажи женщин. Хорошенькое знакомство, надо вам сказать. А если об этом узнают чекисты, да даже пусть не они, а партийное руководство Петрограда? Ничего, кроме беды, вас не ожидает.
– Слушайте, – вдруг вскипел Энтин и яростно взъерошил свою шевелюру, осыпав плечи слоем перхоти. – Явас знать-то не знаю, а вы меня на арапа берете. Шли бы вы своей дорогой, гражданин, а то я сейчас позову кого надо, и вас как шантажиста выведут с конференции под белы руки!
– Да никого вы не позовете, Энтин, – с холодным равнодушием в голосе возразил Николай. – Ну, зовите, и завтра же о ваших связях станет известно начальству, Чрезвычайной комиссии. Ей-Богу, не нужно шума. Давайте мы с вами лучше вот о чем договоримся. Голова у вас работает прекрасно, куда мне до вас, а вот принести пользу партии, русскому народу я хочу не меньше вашего.
– Ну, ну, я слушаю, – все ещё сердито, но уже со вниманием сказал Энтин.
– Так вот, у меня созрела мысль, воплощение которой поможет организовать работу партии большевиков на новом, более высоком уровне. Я знаю, что в нашей партии очень строга дисциплина – отчетность, обязательность выполнения решений высших органов низшими. Да, все это нужно было прежде, но теперь времена другие. Нужно выступить с предложением допустить свободу действий фракций и группировок, тогда и будет осуществлен демократический централизм. А то ведь и слова нового, свежего не услышишь. Так наша партия скоро плесенью покроется, превратится в болото. Я тут набросал кое-какие мысли на этот счет, ознакомьтесь да напишите хороший, умный доклад. Прочитать его нужно будет послезавтра или даже завтра. Посидите полночи, поработайте, перо-то у вас гениальное, честное слово.
И Николай, сунув в руку молчавшего Энтина лист с тезисами, не сказав больше ни слова, зашагал прочь от просветителя русского народа.
Перерывов в первом дне работы конференции больше не намечалось, поэтому подойти к последнему из трех намеченных Николаем комиссаров, на этот раз отвечавшему за проблемы трудовой занятости рабочего люда Петрограда, пришлось почти у самого выхода из Таврического дворца. Товарищ Белогрудов был внешне прямой противоположностью просветителю Энтину грубоватый с виду, полный, с лицом решительным и даже отважным, с выпяченной грудью, выпиравшей из-за богатого шалевого воротника незастегнутой шубы.
– Чего вам? – спросил он у подошедшего к нему Николая, нетерпеливо хлопая рукавицей о рукавицу. – Спешу, автомобиль ждет на морозе, а то будем потом мотор целый час заводить.
– Да не задержу я вас, всего два слова, но очень интересных слова, делая вид, что его сконфузил важный вид Белогрудова, шепнул Николай. – Я вам от гражданочки Красовской эти два слова принес.
– Ну, ну, – насторожился комиссар и перестал хлопать рукавицами.
– Перед тем как её расстреляли за… нехорошие дела – наверно, знаете, какие – она очень меня просила передать вам её последнее напутствие: чтобы не случилось беды, какая с ней лично стряслась, нужно, говорила, во всем быть послушным мне.
Белогрудов, хоть и раздувал встревоженно ноздри, глянул на Николая свысока, чуть ли не презрительно:
– А это с какой такой стати я должен слушать вас?
– Ну, можете и не слушать. Тогда вам придется послушать товарищей на Гороховой, два. Там вам объяснят, насколько неприглядным делом для большевика, занимающего видный пост, является покровительство левым эсеркам, да ещё содержательницам домов терпимости.
Белогрудов сморщился, словно от геморроидальной колики.
– Эх, гражданин хороший, не дело ты затеял, не дело. И чего привязался к Белогрудову? Ну, говори скорее, чего ты от меня хочешь.
– Очень немногого, – поторопился достать из кармана сложенный вчетверо лист бумаги Николай. – Вот здесь я набросал программу вашего доклада, который должен быть прочитан на конференции. Кстати, ничего противозаконного или контрреволюционного. Большевистская партия вам только благодарна будет, если вы выступите как автор идеи о том, что профсоюзы должны находиться у неё в полном подчинении. Не такой уж развитый русский рабочий, не такой грамотный, чтобы он через профессиональный союз мог руководить производством, делать все, что ему заблагорассудится, не слушая советов партийных товарищей. Ну, одобряете идею?
– Ладно, придется одобрить… – сказал Белогрудов, мрачно и со злобой засунул бумажку в карман шубы. – Только уж ты того… не шути больше про Гороховую, я этого не люблю. Да и был-то я у вашей Красовской Варьки всего раза три-четыре.
– О, не думайте, этого для товарищей из ЧК вполне достаточно. Ну, желаю подготовиться к выступлению поосновательней. Пишите, уверяю вас, станете ещё более известным, чем являетесь сейчас. Партийную работу нужно оживлять свежим воздухом новых идей!
Но Белогрудов лишь обреченно махнул рукой с зажатыми в ней огромными рукавицами, сказал неопределенное "А-а!" и пошел в толпу делегатов, переминавшихся с ноги на ногу у выхода. А Николай с презрительной насмешкой смотрел на его широченную спину и думал про себя: "И этим жалким людишкам отдалась Царица Варя лишь ради того, чтобы потешить свое тщеславие и выйти к власти, вернее, к людям, ею наделенным? Да, плебей всегда останется плебеем, какими бы чинами он ни обзавелся, – ни чести, ни гордости, ни смелости. И эти люди вознамерились построить новое общество, общество, лишенное зла, основанное на взаимной любви? Да они не умеют любить самих себя – как же такие люди научатся любить других людей? В каждом они будут видеть лишь таких же подлецов, какими являются сами. И им нужно сделать из человека подлеца, иначе как же жить с собственной подлостью?"
А спустя два дня Николай сделал в своем дневнике следующую запись, и, чтобы дать точное описание событий, случившихся во второй и третий дни работы партийной конференции, следует привести отрывок полностью и без искажений:
"Ну вот, закончилась конференция Петроградской парторганизации большевиков. Конечно, я не мог быть уверенным в том, что три комиссара, поневоле ставшие моими агентами, не возьмут себя в руки, не разозлятся на собственную слабость и трусость и не укажут на меня какому-нибудь сотруднику Чрезвычайки. Но, слава Богу, страх за жизнь, за служебное положение сыграли свою роль. Уже на следующий день выступал этот еврей Энтин, гениальное перо – как я его, кажется, назвал. Хорош же он был на трибуне! Мою идею (ну, скажем, не мою, а Лузгина) он развил блистательно, казалось даже, что он так ею проникся, так полюбил, что искренне поверил в себя как в автора этой идеи. Он просто метал перуны, нечаянно сбил с трибуны стакан с водой, был взъерошенным, точно Демон в опере Рубинштейна. Итак, разгромил он в пух и прах устои партийной дисциплины, одобрил фракционную борьбу, призвал к её легализации, и что тут началось в зале! На него орали, шикали, свистели, тут же, точно кура на насест, стали взлетать на трибуну возмущенные ораторы, ругали Энтина, поносили, но недолго нашлись защитники свободы фракций, и пошло и поехало. В кулуарах я слышал, что сторонники Энтина уже сгруппировались во фракцию, чтобы на деле доказать живучесть этой идеи. Их назвали децистами – группа демократического централизма.
Я думал, что в этот день никто из других моих агентов-комиссаров уже не осмелится сказать новое слово, но ошибся. На трибуну влез верзила Белогрудов, говорил, хоть и без пафоса Энтина, но веско, толково и убедительно. Все просто разинули рты от изумления: с какой это стати завинчивать гайки в профсоюзном движении (выражение одного из делегатов)? Короче, повторилась картина – все та же брань, ругань почти площадная, но тут же и ярая защита, и вот уже весь зал кипит, так что председателю (а им был славный Зиновьев) зал было буквально не утихомирить.
Я ждал третьего дня, и, конечно, Медведко, воодушевленный тем, что не он один бросит камень в крепость большевистского единства, смело взбежал на трибуну и горячо, по-хохляцки горячо, отбарабанил речь, где все было славно, все совсем наоборот в сравнении с тем, что говорил Белогрудов. Но и его крайняя точка зрения сразу нашла приверженцев. Да, неподвластна никакой партийной дисциплине натура человеков, алчущая свободы выражать пусть бредовые, пусть никому не нужные и даже вредные для людей мысли. Главное, чтобы выглядело свежо и оригинально. Ну что ж, план Лузгина, который мне удалось блестяще осуществить, оказался дельным. Нужно бы вообще почаще общаться с этим мамонтом русского политического сыска. Да, если бы побольше было таких Лузгиных в Департаменте полиции, то не пришлось бы мне сейчас унижаться до интриг против хамов, чтобы возвратить законную власть. Да, я доверяю Лузгину и едва ли не люблю его уже, хотя мне в этом и очень тяжело признаваться…"
***
Да, тогда, в 1904 году, Николай Второй по совету Витте отверг первый шаг к парламентаризму, опасаясь в первую очередь не за свою судьбу, а за судьбу монархии, которая, по его убеждению, могла быть для русского народа в его тогдашнем нравственном и умственном состоянии единственно возможным способом правления. Нет, это даже не могло называться способом правления. Скорее, государственным принципом, догмой, моделью отношений, где на вершине иерархической лестницы находится человек не случайный, то есть выбранный в результате игры политических сил, где царит эгоистическая партийная амбиция, личный расчет претендующего на право повелевать людьми, демагогические обещания кандидатов, стремящихся обольстить избирателя, а потом забывающих о них. Николай знал, что монархический принцип законности наследственной власти гарантирует феномен психологического восприятия существующего ныне императора как символа незыблемой формы правления.
А ещё Николай знал, что если его единоличная власть-ответственность будет заменена властью-ответственностью группы людей, пусть даже выбранных самим народом, то духовная связь между «верхом» и «низом» будет утеряна. Нельзя апеллировать к совести группы людей – там не будет ответственных, потому что всякое коллективное действие предполагает и разделение ответственности. Отвечать может лишь один человек, а тем более когда он принял на себя бремя единоличной власти.
В своей государственной жизни Николай Второй придавал большое значение внешней стороне царствования, на первый взгляд поверхностной, мишурной. Назовем её условно демонстративно-символической. Это торжественные церемонии с участием народных представителей, парады, молебны, крестные ходы, торжественные закладки новых зданий, освящения, обеды, полковые праздники и многое, многое другое, где подданным предоставлялась возможность находиться уже не в мысленной связи со своим государем, а непосредственно. И после всех этих событий оставалась масса фотографических снимков, многие из которых потом размножались типографским способом и широко распространялись среди народа. Россия и монарх в представлении большей части стосорокамиллионного населения империи были едва ли не синонимами. Обыкновенный ум человека всегда ищет замены чего-то сложного, многосоставного более простым, цельным и ясным. Русский царь во многом был заменой-символом непонятного, пугающего своей сложностью бюрократического аппарата державы, и отношения в антитезе "власть – подданный" становились при помощи этого символа на удивление простыми и понятными.








