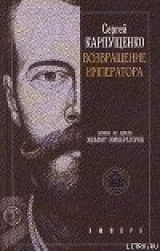
Текст книги "Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
– Не только с этим, почтенный гражданин Романов, не только. Но давайте сядем. Нам так покойней будет вести беседу…
Все трое присели на диванчик рядом с античной тумбой, на капитель которой оба визитера тотчас принялись сбрасывать пепел со своих зажженных папирос.
– Позвольте же нам наконец представиться, – как-то неожиданно резко вскочил с места низкорослый, протягивая руку. Николай поднялся тоже, пожал протянутую руку, а визитер, по-гусарски коротко поклонившись, сказал: Штильман, имею честь! А вот это мой старый друг, Барковский, так что мы в паре вроде Гоги и Магоги, Розенкранца и Гильденстерна, – принимайте!
И Штильман, перегибаясь, захохотал, указывая рукой на своего угрюмого товарища, имевшего очень короткий, вздернутый нос, но выдающуюся вперед лошадиную челюсть.
"Господи! – подумал Николай. – Да это какие-то сумасшедшие или кокаинисты!" Но эта мысль мгновенно и успокоила его.
– И все-таки, чем же я вам могу служить? – спокойно спросил у заливающегося мелким смехом Штильмана Николай.
– Как чем, как чем? – продолжал хохотать Штильман. – Очень многим! Только давайте по порядку, с самих яиц Леды начнем.
– Да с каких таких яиц! – внезапно разозлился Николай. – Или вы будете говорить ясно, без экивоков и вывертов, или же я сейчас же вызову милицию!
– Ах, ти-ти, – надул отвислые щеки Штильман и покачался корпусом, уперев руки в боки. – Так мы и испугались вашей милиции! Вам бы её бояться надо, ваше драгоценное величество! Вы бы лучше не грозили нам фараонами, а посоветовались бы совместно, как нам разрешить один вопросик, очень такой корректный и щепетильный. Вы зачем же нашу дойную коровку, к сладким сосцам которой прильнувши мы очень себе спокойно жили, взяли да и отдали на бойню?
Штильман поднялся, принялся ходить по освещенному электричеством помещению, с улыбкой разглядывая Николая, смотрел как-то боком, по-петушиному.
– Ах, ти-ти какой непонятливый стал! И тогда, ещё в девятьсот шестом году, не понимал, что ходит по канату, как в цирке, а кичится тем, что самодержец, са-мо-дер-жец! Не понимал, не знал, что я, часовщик Штильман, мелкий русский еврей, ненавидевший все эти русские погромы, ценз оседлости и всякую мерзопакостную гадость, могу при помощи фунта динамита разрешить все проблемы страждущего российского народа!
– Ну, и почему же вы, сударь, не применили свой динамит? – сложил на груди руки Николай и гордо посмотрел на Штильмана. – Где же ваше проворство, бесстрашие, любовь к людям? Или вы увлеклись делами, куда более далекими от задач революционных, идейных? К примеру, ограблением банков? В Кишиневе, я слышал, какой-то Штильман и какой-то Барковский вкупе с очаровательной левой эсеркой экспроприировали, как у вас говорится, два миллиона по старому золотому курсу.
Николай понял, что имеет дело с теми самыми соратниками Царицы Вари, о которых ему говорил Лузгин.
– Боря, – сказал Барковский, – этот бывший русский царек на самом деле много знает! Чего ждать, пусть попробует нашей кашки, а то будешь разводить с ним антимонии! За все прошлое расплатится сейчас!
Николай не знал, за какое, собственно, прошлое он должен платить этим людям, но понял, что имеет дело с отъявленными мерзавцами, готовыми на самое тяжкое преступление.
– Да, господа, я знаю о вас немало. Знаю также, что Варвара Алексеевна вас надула и вы остались ни с чем. Но я-то тут при чем? Виновата, скорее, ваша революционная мораль. Впрочем, не о ней ли вы говорили как о дойной коровке с изумительными сосцами. Вы правы, сосцы у неё на самом деле замечательные, но что делать, мне пришлось пожертвовать ими ради чести своей семьи и лично своей чести.
– Ну, вот за этим-то мы и пришли к вам, августейшее величество, гадко улыбнулся Штильман, растирая ногой окурок, причем делая это подчеркнуто небрежно. – Андрюха, тот самый, что привязывал вас к креслу, он там сейчас, за дверью, – слышал ваш разговор с Царицей Варей и понял, что к Варваре Алексеевне явился сам Николай Второй. Еще до прихода патруля, вызванного сынком вашим, он сбежал, бросился ко мне, потому что сей послушный холуй моей персоны, служивший меж тем и Варе, понял, кто в наши сети попался. Я как услышал о таком неожиданном царском выходе, вначале не поверил, по мордасам Андрюху побил изрядно, после кинулся к Царице, но её и след простыл – только лужу крови на полу увидел. Ах, ти-ти, ваше величество, вы на душегубство пошли, невинного слугу жизни лишили!
– Я просто защищался. Что же мне прикажете делать, когда на меня нападают вооруженные люди?
– Да и оружие-то у них самое нелепое было – один лишь кистенек! всплеснул аккуратными ручками Штильман. – Ну да ладно, не смею вас винить у вас к людям, я знаю, отношение свое, царское. Расскажу вам коротко, что я после делать стал. Царица Варя, как я уже вам дал намек, питала нас из своих источников, а коль вы явились причиной гибели её, – об этом, государь, мне тоже известно стало, поелику в комиссии Чрезвычайной у меня тоже знакомцы водятся, – так я решил, что вы и станете теперь моим кормильцем и поильцем. Присматривался я к вам ещё год назад, но не видел теперешнего шика, ни размаха истинно буржуазного. Зачем вы мне были нужны год назад? Выстрелить в вашу спину, чтобы за Варю отомстить? Ха, станет честный еврей таким грязным делом заниматься! Нет, я ждал, предчувствуя, что не такой-то вы простой, что не могли вы не сохранить в каком-нибудь укромном месте часть своих сокровищ, политых кровью трудового народа. Скажите честно, а вам шествие на девятое января не снится? А Ленский расстрел ни в чем неповинных людей?
– Нет, – честно признался Николай, – лично я к этим безобразиям руки не приложил. Просто воинские начальники превысили свои полномочия…
– Ах, ти-ти, говорите, государь, говорите! – рассмеялся Штильман. Чистеньким остаться хотите, в белоснежных одеждах. Ну да пусть так и будет, мы у вас не за этим. Просьбу нашу к вам объясню в двух словах: какие налоги вы от своих ателье платите, мы хорошо знаем. Так что каждый месяц по пять тысяч червонцами вы уж нам без лишних напоминаний, пожалуйста, отсчитайте, не обидьте. А я вам за это обещаю, что никто другой уж к вам за мздой не придет. Нам же от этого двойная приятность: с одной стороны – денежное обеспечение, с другой – удовлетворяем свой эсеровский революционный апломб – русский государь веками с народа деньги собирал, а теперь мы с него собираем. Ах, честное слово, как приятно видеть царя, ну, бывшего, разумеется, своим данником.
И Штильман загоготал, обнажая огромные, как у Щелкунчика, зубы, но потом вдруг словно спохватился, замолк и с кислой миной на своем обрюзглом лице спросил:
– Ну а первый-то взнос вы нам сейчас, немедленно вручите?
Николай, ещё полчаса назад считавший себя преуспевающим, независимым и очень удачливым человеком, стоял сейчас перед двумя негодяями оплеванный, униженный – грубая сила, наглость и неправда в одночасье победили талант, рассудок и добрую волю.
– Извольте, – сказал он спустя полминуты и полез в карман за бумажником.
***
Наконец сломили смуту, и послереволюционные годы явились для России временем заживления ран, вовлечения народа в обыденный, каждодневный труд, временем всеобщего умиротворения.
Николай буквально с первых лет своего царствования проявлял сочувствие к интересам крестьянства, страдавшего от выкупных платежей на землю, малоземелия, стесненного общинным землевладением. И ещё 3 ноября 1905 года, в самый разгар смуты, государем был подписан указ об уничтожении тяготивших крестьян выкупных платежей за землю, расширена деятельность Крестьянского банка, но наиболее активно земельная реформа пошла после волнений, когда правительство возглавил Петр Столыпин, – затрещала стеснявшая инициативу крестьян община, насаждались индивидуальные хозяйства, малоземельным предлагалось переселяться в Сибирь, где обилие незаселенной земли гарантировало в будущем полный успех.
И царь мог видеть, что результатами новой аграрной политики явилось небывалое увеличение продуктивности сельских хозяйств, и Россия сделалась главным производителем и поставщиком зерна на мировой рынок. Пожалуй, сам государь расценивал время, заключенное в тесные рамки конца революции и начала мировой войны, как наиболее успешное, счастливое для своего правления. Держава на мировой политической арене вновь после поражения в войне с Японией приобрела значительный авторитет, укреплены были финансы, проведена судебная реформа, открылись и функционировали новые низшие, средние и высшие учебные заведения, и образование, хотя бы на уровне грамотности, стало проникать в темную народную среду. Невиданными прежде темпами развивалась русская промышленность, тяжелое машиностроение, что в преддверии ожидаемой войны позволяло укрепить мощь русской армии, снабжать её новыми образцами вооружения. Функционировала Дума – российский парламент, широко действовала свобода слова и печати; русская наука блистала всемирно известными именами; русская литература была читаема всеми образованными людьми в мире; живописцы создавали шедевры, являвшиеся образцами для подражания; русский театр – и драма, и опера, и балет – не знал себе равных, а музыка, созданная в те годы в России, звучала во всех концертных залах мира. Русские мыслители, чьи философские конструкции представляли наиоригинальнейшее явление в истории мировой мысли вообще, удивляли и восхищали.
Нет, в благосостоянии широких народных масс, преимущественно крестьян, было ещё много нерешенных проблем – бедность в крестьянской и рабочей среде была обыкновенным явлением, но, что главное, Россия при Николае Втором стояла на том пути, который наметил дальнейший, постепенный и несомненный рост и прогресс в улучшении всех аспектов общественного бытия. Важным было то, что народ после невзгод, смуты понял, что самодержавие вовсе не служит тормозом, преградой на пути всеобщих перемен к лучшему: управлять страной, где граждане благоденствуют, а не страдают, удобно и лестно для любой власти.
Однако движение к благоденствию было неожиданно прервано…
Ступень девятнадцатая
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ
Он вышел из ателье на Невском, когда услышал шум, людской говор, проникший сквозь стеклянные расписные двери. Простые с виду люди – рабочие, работницы, торговцы – толпились на тротуаре, вытягивали шеи, смотрели куда-то вправо. На многих лицах – напряженное ожидание, на других праздный интерес, глумливый и суетный.
– Ну что, не видно? – спрашивал кто-то из самых нетерпеливых.
– Нет, не видать еще, да и рановато – вчерась-то ровно в полдень провозили.
– А может, сегодня и не будут судить али другой какой дорогой повезут.
– Нет, будут, ещё три дня суд продолжится, – возражал кто-то солидным, всезнающим голосом. – Да и возят по Невскому как раз для того, чтоб опозорить покруче, на осмеяние всего народа выставить: вот, дескать, святителя вашего под конвоем везут. Осрамить хотят их, а нам побольнее сделать…
– Да не вякай ты, не вякай, – слышалось пренебрежительное. – Поделом им, толстопузым! Будут знать, как опиум народу навязывать!
Николай, слушавший все эти разговоры и не понимавший, о ком идет речь, давно не читавший газет, потому что предпринимательство отнимало у него весь досуг, спросил у стоявшего рядом человека, казавшегося ему культурнее других зевак.
– Скажите, а кого же везти собираются?
Тот взглянул на Николая с явным удивлением, хмыкнул:
– Эк вы, батенька, словно только что в Питер приехали. Не знаете разве, что каждый день митрополита Вениамина со товарищи на суд по этой улице возят в открытых автомобилях. Вот и собираются люди, чтобы поглазеть. Может, последние деньки по нашей грешной землице владыка ходит – к расстрелу, слыхал, дело ведется… – прибавил собеседник уже почти шепотом.
– Как, за что же могут расстрелять митрополита? – напротив, очень громко, взволнованно проговорил Николай, но человек лишь отвернулся от него с поспешностью, пробормотав:
– А вот пойди на суд да сам все и узнай…
Наконец по веренице ожидавших появления митрополита, протянувшейся вдоль проезжей части Невского, пробежал шумок:
– Везут, везут! Вениамина везут, Петроградского!
Послышался рокот моторов, толпа задвигалась, поперла на мостовую, но откуда ни возьмись явились люди в военной форме, с кобурами на поясах, заталкивали зевак обратно на тротуар, крича при этом:
– А ну, назад! Мешаешь проезду!
Кортеж из десятка автомобилей с открытым верхом следовал медленно, будто прав был тот, кто говорил, что митрополита и его соратников нарочно выставили напоказ в положении арестованных. Но если такой замысел у устроителей зрелища имелся, то они не учли того, что арестованный глава Петроградской епархии может вызывать у смотревших на него людей, из которых по крайней мере две трети были искренне верующими людьми, горячее сочувствие.
Автомобили с арестованными были ещё далеко, а уж к гудению моторов примешался какой-то странный звук, летевший откуда-то справа, со стороны движения машин. Скоро Николай разобрал, что этот звук был нестройным пением, нестройным, но очень страстным, отчаянным, точно люди старались заглушить им шум моторов, поглотить им позор, в котором пытались утопить сейчас большевики их владыку. Это пение распространялось справа налево по мере движения кортежа, словно горел бикфордов шнур, передающий огонь по всей своей длине. И Николай уже слышал страстное:
Господи сил, с нами буди-и! Иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы-ы! Господи сил, помилуй на-а-ас!
И вот автомобиль, первый из кортежа, проехал перед ним, и Николай увидел изможденное бородатое лицо под короной белого клобука митрополита. Худая рука поднята в благословении, обращенном к народу. Многие падали на колени, истово крестились, и слова молитвы продолжали слетать с их губ:
Хвалите Бога во святых Его-о, Хвалите Его по множеству величия Его! Господи сил, помилуй на-а-ас!
Наиболее ретивых из числа поющих вырывали из толпы милиционеры, заламывали им руки, зажимали рты, кричали:
– Не петь! Не петь! Всем глотки в гепеу позатыкаем! Не петь!
Вереница автомобилей проследовала мимо, а Николай все стоял, будто ноги его приколотили гвоздями к тротуару.
"Да неужели, – ошеломленно думал он, – неужели большевики дойдут до такого сраму, что расстреляют облеченных архипастырским саном? Такого же со времен Иоанна Грозного не было. Да и за что? Нет, не поверю, не в силах! Нужно ехать в суд!"
"Делонэ" со снятым капотом, подле которого возился невозмутимый финн-шофер, стоял рядом с ателье, и, как только кортеж проехал мимо, Николай сказал водителю:
– Заводи мотор и потихоньку вслед за ними! Ах, Ты, Боже, зачем Ты оставил Русскую землю!
– Рази ставилл? – улыбнулся обычно неулыбчивый чухонец. – Глядитте, товаррищ Романоф, с каким шиком зессь возят товарищей ис серкви!
Но Николай ничего не ответил, с хмурым видом махнул рукой и сел в машину.
Через две минуты они уже ехали по проспекту 25 Октября, потом у Аничкова моста свернули вслед за арестантским кортежем на Фонтанку, а потом у цирка на мост, что напротив церкви Симеона и Анны, и – снова поворот, налево, а после прямо, по набережной, где обычно ездить можно было лишь в противоположном направлении. Все машины остановились возле трехэтажного здания, стали выводить священнослужителей, других подсудимых. По обеим сторонам от каждого – два красноармейца с наганами. У входа в здание суда толпа кричит приветствия митрополиту, а Вениамин все так же воздевает руку, благословляя. Тут Николай, успевший выйти из машины, заметил, что ни посоха, ни панагии, ни креста у Вениамина нет.
– А вы куда? – остановил Николая у самого входа в суд перетянутый ремнями часовой. – Пропуск нужен…
– Что, не узнаешь?! – гаркнул на него Романов, перенося всю свою ненависть к большевикам на часового. – Глаза разуй! Как носишь снаряжение? Где тренчик на ремне? Загремишь сейчас на гауптвахту суток на пятнадцать, так сразу вспомнишь!
И, уже не глядя на оторопевшего стража, твердой поступью властелина прошел в вестибюль суда, где уже не было арестованных, проведенных, должно быть, в зал судебных заседаний. По лестнице поднялся на второй этаж, где в кулуарах, покуривая, прохаживались люди в штатском и военные; иные кучковались возле окон, но у всех на лицах было выражение ожидания чего-то страшно занимательного, этакого пикантного. Николай тихонько подошел к одной из групп, украдкой куря, стал слушать. Говорил один, с кожаной папкой под мышкой, франтоватый очкарик:
– Как писал Лукреций, "де нихило нихиль", то есть ничего не берется из несуществующего, а поэтому нет причин сомневаться в том, что церковники, используя голод в стране, хотели спровоцировать повсеместно восстания против Советов! Конечно, не отдать части церковных ценностей в пользу голодающих они не могли – не по-христиански будет выглядеть, но боiльшую часть все же сохранили у себя. А эта часть – это миллиарды рублей по нынешнему твердому курсу! Вы понимаете, что такие вещи саботажем пахнут!
– Но ведь доказательств вины собственно Вениамина и других нет, говорил другой. – Что это за процесс, к чертовой матери? Выслушивают только свидетелей обвинения, а свидетелей защиты не только не вызывают, но и не допускают на заседания!
Кто-то со звенящей угрозой в голосе возражал:
– Ох, как вы смело-то заговорили, Пал Палыч! Да вы не слышали разве, как главный обвинитель, товарищ Красиков, на прошлом заседании высказался? Он так прямо и заявил: "Вся православная церковь – сплошь контрреволюционная организация!" Чего вам еще-то нужно? В защитники изуверов лезете?
– Да не лезу я никуда, – обреченно махнул рукой Пал Палыч и поспешил отойти, смущенный и растерянный, а в группе все тот же голос говорил:
– Честно признаюсь, даже если бы и не было никаких фактов, их нужно было бы найти. Ну сколько можно, товарищи, терпеть в нашем обществе этих долгополых? Вы знаете, я сам из сельских земских врачей буду, так, скажу вам, наш приходской священник был таким обжорой, что, страдая при этом несварением желудка, всегда пускал ветры во время службы в церкви, да ещё так громко и долго, что казалось, будто на улице гроза начинается. – Все, кто слушал веселого рассказчика, смачно заржали, а он, поощренный смехом, продолжал с ещё боiльшим воодушевлением: – А если на исповедь являлась к нему прихожанка помоложе, этот поп вначале вынуждал её рассказывать о себе самые интимные тайны, а потом до того застращивал загробными муками, что всегда принуждал к любовному соитию, вот так-то! Разогнать нужно всю эту поповскую братию, дать им клочки земли – пусть гнут спину наравне с крестьянами!
Николай, давно уже слушавший с негодованием и отвращением, не выдержал. Бросив окурок прямо на паркет, резко шагнул к говорившему, оттолкнув стоявшего с ним рядом человека, крепко схватил за руку выше локтя так, что бывший земский врач невольно вскрикнул и оторопело посмотрел на неизвестно откуда взявшегося очень прилично одетого мужчину:
– Чего вам надо? Отпустите! Сейчас же от…
– Слушай… я вот что вам сейчас скажу… Может статься, вы и видели такого скверного попа, но по одной овце обо всем стаде не судят, так что не извольте поносить святую нашу церковь! Еще скажу: если у церкви отнять потиры, дароносицы, кресты, другую утварь, необходимую при богослужении, так и церкви самой не будет! Впрочем, вы, я слышал, этого и хотите. Скажете, что нужно спасать голодающих? Так ведь если бы Совдепы не грабили деревню пять лет, так и голода бы этого не было!
По мере того как он говорил, замечал, что все, кто был рядом, постепенно исчезают, как видно, боясь того, что они находятся вблизи от человека, сеющего зерна контрреволюционной пропаганды. Силился вырваться из цепких рук и бывший земский врач.
– Да что вы… такое… несете! Нас же обоих в гепеу заберут! Сумасшедший, честное слово!
Николай, с отвращением глядя в глаза, до краев наполненные ужасом, брезгливо оттолкнул от себя мужчину, который, озирая, кинулся прочь.
"Ну вот, связался с мразью, – с недовольством подумал Николай. – Еще донесет, задержат, не узнаiю, в чем дело…" Но, видно, его поведение показалось всем слушавшим его до того дерзким, вызывающим, что все решили этот усатый гражданин, одетый в заграничный нанковый костюм и белые штиблеты, то ли на самом деле имеет право говорить так смело, то ли является агентом грозного ГПУ, нарочно провоцирующим их. А Николай вдруг осознал, что его не арестовывают за крамольные речи, произнесенные прямо здесь, в здании суда, именно потому, что он, бывший император России, много выше, благороднее и достойнее всех этих жалких людишек, чьи сердца обволакивает гниль ничтожества, страха за свою жизнь, нужную лишь им одним. Николай же существовал сейчас в мечтах о служении… другому…
Расселись в зале, и вскоре конвоиры ввели Вениамина, который со смиренным, спокойным выражением лица уселся на скамейке за вытертой руками подсудимых деревянной загородкой. И Николай поразился тому, что присутствующие в зале – в основном красноармейцы, загнанные в этот зал для порядка, но и чтобы представлять собой публику, – разом поднялись, когда митрополит вошел, будто какая-то неведомая сила подвигла их к этому. Сели рядом с Вениамином с полтора десятка подельников, как понял Николай священнослужители, какие-то, по виду судя, преподаватели богословия. Явился суд, и зал с шумом поднялся, только Николай не внял призыву секретаря. Думал с горечью, что все здесь уже решено: и дополнительные вызовы свидетелей, и горячая речь защитника обвиняемых – Гуровича – не способны вычеркнуть ни слова из приговора, составленного заранее, ещё даже до того, как начался суд, потому что нужно было сделать из церкви врага народа: понятно, сама по себе церковь врагом народа быть не может, правда таковыми могут стать её иерархи.
Но Николай все-таки пытался уяснить, что вменяют в вину Вениамину. Утаил от Советов церковные ценности? Нет, отдал практически все, что требовали, только, как оказывалось, не до конца все отдал – что-то да и утаил, и уже, раз что-то утаил, не может быть Вениамин другом русского народа, а есть его самый ярый враг, вроде белогвардейца, контрреволюционера. Николай не знал, что ещё в мае нынешнего, двадцать второго года Ленин распорядился ввести в советский кодекс новую расстрельную статью, по которой к смерти приговаривался тот, кто призывал к пассивному противодействию правительству. Вениамин с соратниками очень подходили к такой статье…
– Ну и Гуровия! – смеялся в перерыве в кулуарах один вертлявый тип, возбужденно и нервно куривший, весь взвинченный происходившим в зале. Нашел себе занятие, митрополита защищать! Дурак, ей-Богу! Всю карьеру себе испортил, если не посадят. Фактов, говорил, нет, доказательств вины нет! Что история скажет? Да история-то рта не имеет, чтоб ей можно было говорить. Что мы заявим сейчас, то и скажет. Хотите пари со мной держать? Ставлю три червонца против одного, что сегодня же вынесут приговор.
– И какой же? – интересовался кто-то не столь всезнающий и самонадеянный.
– Как какой? Дураку понятно: пиф-паф, ой-ой-ой! Яснее ясного, что не будет Красиков с этим простым делом тянуть, потому что Москва тоже ждет не дождется…
А Николай, бродивший среди тупо молчавших красноармейцев или оживленно-говорливых журналистов, все не мог поверить в то, что коммунистический цинизм дошел до такого вызова всему доброму и честному. И когда в тугой тишине зала раздались уверенные, звонкие слова председателя трибунала, доносившие до всех присутствующих мнение суда, выражающееся в том, что митрополит Вениамин и около десятка сочувствовавших его контрреволюционной деятельности достойны смерти, Николай почему-то не слишком удивился жестокости суда, но тихо и спокойно решил про себя, что не допустит гибели ни в чем не повинного митрополита, являвшегося представителем той духовной власти, которая облекла земной властью когда-то и его, Николая Второго.
До Вознесенского, где жил Лузгин, с которым Николай не встречался с тех самых пор, когда они покинули взятый красными Кронштадт, он доехал за какие-нибудь полчаса, но ждать Мокея Степаныча Романову пришлось долго отсутствовал. Голодный, какой-то опустошенный, он не спустился, однако, к оставленному во дворе автомобилю, а сел в прихожей на табурет и так сидел, неподвижно и устремив взгляд на стену с грязными обоями, весь в белом, держа в опущенной руке белоснежный котелок.
– Николай Александрович? – услыхал он вдруг над собой знакомый голос, вкрадчивый и, как всегда, чуть-чуть торжествующий. – Давно меня не посещали. Ну, проходите, проходите.
В комнате Лузгин сразу же сказал:
– Можете и не говорить, зачем пожаловали, – видел вас в суде сегодня. Взволнованы вы были изрядно, вот и не подошел к вам, но с интересом следил издалека. А потому не подошел, что очень уж боялся ваших громогласных протестов. Зачем вы Бобочинского за руку хватали, про репрессии большевиков ему говорили? Эх, не бережете вы себя, а дело-то для вас худым обернуться может.
– Нужно спасти Вениамина, – не дав договорить Лузгину, словно сомнамбула, медленно проговорил Николай. – Чем вы мне можете помочь?
Лузгин рассмеялся вызывающе, будто просьбы Николая уже давно превысили меру его личных возможностей.
– Вооруженным налетом митрополита спасти хотите, да? Так ведь не меньше полусотни человек понадобится, чтобы тюрьму гэпеу штурмовать. А если и вызволите его оттуда, где прятать будете? У себя под кроватью?
– За границу переправлю, – упрямо сказал Николай. – Только подскажите, где он, какая охрана да и когда, не знаете ли, приговор в исполнение приводить будут?
– Самонадеянны вы, Николай Александрович, по-царски прямо самонадеянны! Но ведь знаю я, что давно у вас нет старого вашего помощника – Томашевского этого. Кто подсобит, стволы на охрану наведет, замки сбивать будет? Сами, что ли?
Николай молчал. Он на самом деле слишком переоценил свои силы, не соразмерив их со страстным желанием спасти митрополита во что бы то ни стало.
– Вы спрашиваете, когда Вениамина расстреляют? – продолжал Лузгин, расхаживая по комнате. – Так и тут ничего определенного ответить не могу: могут и сегодня расстрелять, а могут и через месяц, а вполне возможно, что и помилуют, дабы продемонстрировать миру свое великодушие. Одно вам скажу твердо – если намерены расстрелять, то их вначале в тюрьму «Кресты» направят, где тоже стреляют приговоренных, но бывает, как в семнадцатом и восемнадцатом году, отправляют морем в приснопамятный Кронштадт, где расстреляют да и закопают. Полагаю, Вениамина именно там кончать и станут, от мирян подальше, да чтоб могилку потом никто не нашел, а то ведь у нас на Руси в мученики записывают быстро, а потом такие святые ещё почище дела чужими руками творят, чем те, кто им имя дал.
– Как же попасть в эти… "Кресты"? – не надеясь на удовлетворительный ответ, спросил Николай.
– А как вы туда попадете? Не знаю, – развел руками Лузгин. – Снова вас чекистским мандатом снабжать? Нет, времена уже не те, зорко смотрят, да и через забор вы не перемахнете, как какой-нибудь герой Александра Дюма, высокие заборы, да и не пристало вам через заборы сигать.
– Начальник тюрьмы вам известен?
– Лично нет, но наслышан о нем. Он всего год назад там начальствовать стал, а до этого на фронтах гражданской с белыми сражался, орденоносец, золотое оружие имеет. Был сильно ранен, на деревянной ноге ходит, вот службу в Красной Армии и пришлось оставить, чем, я знаю, он был сильно недоволен, ибо тщеславен сей Книшенко до крайности, до самозабвения просто. Хотел, видите ли, до командарма дорасти, и все ему блестяще удавалось, а тут на тебе – каким-то тюремщиком стал…
Лузгин своим цепким взглядом ухватил впечатление, произведенное на Романова своей последней фразой, и тут же пожалел, что произнес её, Николай, взволнованный, с горящими глазами, спросил:
– А где бы я смог увидеть этого Книшенко?
Лузгин усмехнулся:
– Вначале признайтесь в гэпэу, кто вы есть на самом деле, вас препроводят в тюрьму, где и сможете познакомиться с товарищем Книшенко. Но не советую, – говорят, уж очень яр он к заключенным – прямо зверь какой-то. Я потому вам так сказал, что живет Книшенко при тюрьме, в служебной квартире, вместе со своей семьей. Если надо в город – вывезут на автомобиле и назад вернут так же под охраной. Так что встречи с ним почти исключены для нас, для смертных.
– А я и не такой уж… простой смертный, – как бы в задумчивости сказал Николай, но потом заговорил уже энергично, точно внезапно пришедшая мысль связала все непонятное прежде в тугой комок ясно определившегося намерения: – Он тщеславен, вы говорите, ну так на этом я и сыграю! Нужно как-то сообщить ему, что с ним хочет увидеться журналист, желающий писать о его боевой жизни очерк в какой-нибудь журнал. Я знаю, в Петрограде уже выходят новые журналы – какая-то «Звезда», "Новая книга". Можно говорить не только об очерке, но и о необходимости поместить в журнале его фото, и я возьму с собою аппарат! Лузгин, вы бы могли изготовить для меня удостоверение сотрудника какого-нибудь петроградского периодического издания посолидней?
Мокей Степаныч смотрел на Николая с истинным восторгом – редкие из подчиненных ему агентов отдела Департамента полиции, где Лузгин служил, проявляли столько находчивости и решимости. Сидящий на его неказистом стуле бывший император России являл собой какой-то сгусток энергии, ума и бесстрашия. Удержать, остановить эту энергию было невозможно, и Лузгин сказал:
– Уже завтра вечером я передам вам такое удостоверение. Нужно лишь раздобыть образец, а за остальным дело не станет.
Шашка с красивым позолоченным эфесом, висящая на стене, над диваном, была похожа на едва народившийся месяц, и Тарас Никодимыч Книшенко, высокий, плечистый, с большой кудрявой головой, но безусый по причине хилого роста волос на лице, ковылял по своему служебному кабинету, расположенному рядом с жилыми комнатами его квартиры, то и дело подходил к шашке и в который уже раз проводил носовым платком по её блестящим ножнам. Ему все казалось, что после прикосновения к ним материи они начинают блестеть ещё более ослепительно. Он ждал репортера из петроградского журнала, очень известного издания, поэтому ещё сегодня утром он выматерил жену за то, что плохо вытерла пыль с мебели и не удосужилась пройтись влажной тряпкой по портретам товарищей Ленина и Троцкого, висевшим по обеим сторонам от наградной, добытой в боях с белогвардейцами, врученной самим Фрунзе шашки. А в сознании, немного взбаламученном стаканом водки, уже грохотали орудия, слышались стоны умирающих, звон оружия и громкий призыв самого Тараса Никодимыча: "В атаку-у, братцы-ы! За товарищей Ленина и Троцкого-о!"








