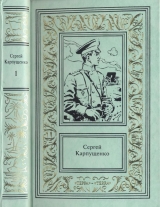
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА 3
В Юров, крошечный польский городок, весь усаженный вишнями, дивизион вошел уже к вечеру. Колонна двигалась по главной улице Юрова к станции мимо низеньких домиков польских обывателей с маленькими цветничками за невысокими заборами, мимо крытых соломой убогих лачуг евреев. Жителей, как видно, осталось здесь немного, и тишина, тревожная, тяжелая, была раздавлена грохотаньем сотен колес дивизиона, вломившегося в нездоровый, военный покой заштатного местечка. Все здесь носило следы недавнего бегства жителей из города. Многие дома стояли с отворенными дверьми и окнами, были покинуты обитателями, разграблены. Копыта лошадей вминали в сухую землю немощеной улицы пух из распоротых подушек и перин, оловянные ложки. Колеса хрустели черепками битой посуды, устилавшими улицу. Стали попадаться и не уехавшие юровские жители, бородатые евреи в длиннополых сюртуках, катившие тележки с каким-то хламом. Дико озираясь на колонну, они что есть мочи гнали свою поклажу вперед по улице или прижимались к заборам. Как разоренное птичье гнездо, Юров был неприветлив и пуст.
– А ну-у-у, запева-а-ай! – едва услышал Лихунов команду Залесского.
Но приказ дивизионного, казалось, был услышан всеми. Его словно все давно уже ждали, песней желая развеять тягостное впечатление от встречи с опустевшим городом. И вот уже со стороны первых орудий, волнами перебегая к середине, вначале похожая на неясный, сильный гул, словно рвавшаяся откуда-то из-под гудящих по земле колес, нестройно, но громко покатилась песня. Лихунов уже слышал прежде ее, и ему не нравилась эта нескладная, грубая, какая-то казачья песня, неизвестно кем принесенная в дивизион, а рядовые все пели, старательно отделывая каждое слово, словно освободясь наконец от тяжкой нужды молчать:
Из-за леса, леса копий и мечей,
Едет полк казаков-усачей.
Впереди всех скачет сотник молодой
И ведет казаков сотню за собой.
Эй, вы, други! Эй, казаки-усачи!
Шашки в руки и по полю скачи!
За казаками сибирские стрелки -
Все штыками, как щетиной, обросли.
Как в Варшаве проходили чрез мосты,
Все красавицы бросали нам цветы.
У Варшавы мы стояли как стена,
Пуля сыпалась, летела, как пчела.
Будут внуки, будут дети вечно поминать,
Как Варшаву отстояла наша рать!
Но песня постепенно смолкала, слова ее гасли под топотом копыт и грохотом орудий. Артиллеристы, повернув голову, смотрели на домики юровских жителей, все чаще попадавшиеся разрушенными, с обвалившейся стеной, снесенной крышей, а то и полностью превращенные в груду кирпичей. Особенно страшным показался всем дом, где стена, выходящая на улицу, отделилась от строения, будто срезанная ножом, и лежала тут же, на земле. Остальная часть дома не пострадала. Даже стулья были аккуратно расставлены вокруг стола, на котором стояла швейная машинка с каким-то белым шитьем под челноком.
Наконец колонна с грохотом протащилась мимо станции, где жались к стене невысокого желтого здания с нелепой готической башенкой пленные австрийцы, что обогнали дивизион под Вымбуховым. Многие артиллеристы узнали пленных, замахали им руками, снова стали бросать им хлеб, а те кидались за кусками на землю и тут же прятали их в свои мешки. Колонна остановилась, и Лихунов, не дожидаясь команды, как и было условлено, отдал приказание выпрягать и разамуничивать лошадей.
Паровоза под орудия, как видно, еще не подали. Лихунов видел, что артиллеристы знают об этом, поэтому, предвкушая возможность отдыха ввиду задержки поезда, выпрягали лошадей споро, пытаясь сохранить лишние минуты для себя. «Вот уж на самом деле Ваньки! – закипала ярость на рядовых. – Им бы только языки чесать! Дело худо, не успеваем, а они радуются, сволочи!»
Вдруг все тот же фейерверкер из первой батареи с еще более наглой фамильярностью подлетел к Лихунову, и вздернутая к фуражке рука его застыла в воздухе вершках в пяти от околыша.
– Ваше сыкородие! – заулыбался фейерверкер. – Их высокородие…– Но Лихунов, раздраженный вконец его развязным тоном, оборвал связного:
– Как стоишь?! Как руку держишь?! Не научили?!
Находившиеся поблизости нижние чины, продолжая заниматься своим делом, с улыбками слушали своего капитана, довольные тем, что не их сейчас честит «его высокородие». Но Лихунов видел, что фейерверкер смотрит на него совсем без страха, наверно, чувствуя за своей спиной надежную защиту дивизионного.
– Ну, чего хотел? – спросил Лихунов.
– Их высокородие к себе вас просит поспешить, – совсем не злобясь на сердитого капитана, выпалил посыльный.
– Ладно, иди. Да впредь не забывайся, – мрачно предупредил Лихунов фейерверкера и пошел к Залесскому, и так же, как и недавно, на сердце у него заныло, и вновь припомнился нехороший разговор с Васильевым.
Полковника Залесского Лихунов увидел сидящим на каком-то ящике у самого здания готического вокзала. Перед ним стояли офицеры дивизиона и какой-то неряшливо одетый господин в форме путейного чиновника.
– Вашего убеждения в том, что волноваться не следует, разделить не могу, – говорил Залесский, отчего-то с трудом шевеля губами. – Вас, господ штатских, приводят в смятение лишь газетные статьи, когда же являются реальные непотребства, способные вести к крупным потерям, и являются прямо перед вашим носом, то вас внезапно охватывает спокойствие богов олимпийских. В высшей мере странно!
Лихунов заметил, что полковник бледен, со лба, по щекам катились струйки пота. Залесский дергал за ворот мундира, будто ему не хватало воздуха, а путеец широко открытыми вороватыми глазами смотрел на дивизионного и оправдывался:
– В том, что поезд запаздывает, нет на нас вины никакой. Вы уж поверьте, пан полковник, – говорил, разводя руками, потрепанный путеец.– Тут вот команда пленных еще дожидается, их тоже на поезд нужно посадить. А чтобы панам офицерам не скучно было ждать, то в наш буфет милости прошу. К услугам вашим найдется несколько ящиков «Вислинского плеса» – пиво превосходное, поверьте!
– Вот так всегда, – горько вздохнул Залесский. – Нет снарядов – предлагают непромокаемые плащи, а вместо паровоза потчуют пивом. Ну да что там толковать, все ясно. Офицеры могут быть свободны. На пиво дается ровно час времени. В случае отлучки командирам батарей оставить за себя старших офицеров. А я здесь останусь. Посижу. Что-то худо мне.
Услышав о часе свободного времени, Лихунов обрадовался. Ему очень хотелось побыть одному, чтобы пройтись по разрушенному, полубезлюдному Юрову. Он сунул руку в нагрудный карман мундира, где хранил свои прекрасные немецкие часы,– хотел определить, когда ему нужно будет вернуться, – но хронометра там не нашел. Озадаченно поискал часы в других карманах – их не было. «Должно быть, оставил там, на речке, – с досадой подумал Лихунов. – И к чему затеял я купанье!» Он вспомнил, что выложил хронометр на траву, боясь обронить в воду, и не взял часы опять, потому что был взволнован словами Васильева. «Все из-за него, черта старого! Да, не повезло!»
Лихунов понимал, что без хронометра ему не обойтись, и купить его нужно было как можно скорее, здесь, в Юрове, купить. Он неуверенно, наугад пошел по немощеной улочке городка, выходившей к станции, в надежде найти какую-нибудь лавку. Навстречу, толкая тележку с увязанными на ней узлами, шли какие-то люди. Лихунов окликнул их, и они, быстро развернув свою повозку, бросились от него прочь. Лихунов шел по улочке и уже никого не встречал – все бежали, должно быть, из Юрова, потому что фронт приближался.
Машинально свернув на соседнюю улицу, Лихунов увидел у крайнего дома группу людей – человека три всего. Подросток доставал из огромного мешка какие-то тряпки и подавал их двум пожилым бородатым евреям, которые внимательно разглядывали материю на свет, проверяли ее добротность, щурили глаза, недовольно цокали, крутили головой. Увидев подходившего к ним Лихунова, бросили свое занятие и выжидающе уставились на офицера.
– Цо пан хце? – спросил один из покупателей.
Лихунов, как сумел, по-польски объяснил, что ему нужны часы.
Евреи закатили глаза, потом переглянулись, обменялись короткими фразами, и один из них, скомкав щеки и губы в подобие улыбки, полез во внутренний карман своего синего сюртука. Он долго шарил у себя за пазухой, наконец извлек часы в пожелтевшем серебряном корпусе, таща за ними тяжелую, длинную цепь с брелоками.
– То бендже бардзо ладно, – протянул он Лихунову часы, отстегнул цепочку. Константин Николаевич взглянул на потертый корпус с исцарапанным стеклом, вспомнил свои дорогие, надежные часы и, проглотив обиду на самого себя, сухо спросил:
– Сколько стоит?
– Та не бардзо напевно, не бардзо, – зашлепал мокрыми губами торговец. – Только сто рублей.
– Сколько? – удивился Лихунов.
– Сто, пан, сто, – закланялся еврей.
– Да это же грабеж, Панове! – строго сказал Лихунов. – Ведь они и двадцати не стоят, какие же сто?
Торговец улыбнулся:
– Пану офицеру нужны часы? Да? Я продаю ему часы? Да? Что еще нужно пану? – Он молча оттопырил лацкан сюртука, выудил оттуда цепочку и неторопливо пристегнул ее к часам. – Я думал, пан хце покупить.
Подросток, стоявший до этого молча, – на вид ему было лет пятнадцать, не больше, – робко заговорил по-русски:
– Господин офицер, у нас дома есть часы. Пойдемте со мной, это недолго.
Лихунов взглянул на мальчика, приличный пиджак которого, аккуратно приглаженные волосы и даже некоторое подобие галстука из черной ленты говорили о том, что с мешком он появился на улице случайно.
– Мы недорого продадим, – добавил он робко.
Старый еврей щелкнул языком:
– Ви подумайте! А я, наверно, продавал дорого! Сказать кому!
Лихунов схватился за рукоять шашки, с перекошенным злобой лицом шагнул к старику, оказавшись совсем рядом с ним.
– Ну ты, мошна с клопами! – сказал он дрожащим от гнева голосом и немного выдвинул шашку из ножен.
Старьевщики поняли, что Лихунов не шутит, и, придерживая полы длинных сюртуков, бросились бежать. И старик кричал, не останавливаясь:
– Ха, мошна с клопами! У тебя у самого с клопами! Официр, а часов не имеет!
Лихунов, помогая мальчику нести мешок, насупленный, недовольный собой, шел рядом с подростком, который, с уважением поглядывая на капитана, говорил:
– О, вы бы знали, что тут вчера делалось! Прослышали, что немцы наступают, и все бросились бежать – столпотворение вавилонское. Вы верите? А эти вот по дешевке вещи у беженцев скупали, даже по домам ходили. Но не одни евреи, конечно, – поляки тоже, русины, озверели просто. Вы верите?
– А ты почему не ушел со всеми? Тоже вещами торгуешь? – показал Лихунов на мешок.
Лицо мальчика из приветливого превратилось в устало-обиженное. Лихунову показалось, что он хочет заплакать, но тот не заплакал, а твердо сказал:
– Отца бомбой, с аэроплана брошенной, убило. Только вчера вечером похоронили. Мы с сестрой остались, но тоже уедем, когда денег хоть немного раздобудем. Вот поэтому я с мешком. А они, – мальчик погрозил кулаком в ту сторону, откуда они шли, – у меня два платья взяли, а заплатить не успели. Убежали.
Лихунову стало совестно за свой горячий, неприличный поступок, оставивший мальчика без денег.
– Прости меня. Я заплачу за платья.
– О, это пустяки, не тревожьтесь! – снова повеселел подросток. – Вы ведь у нас часы собрались купить – вот и будут деньги. Пойдемте скорее, это второй дом за углом. Мою сестру увидите, она вам рада будет. Она красивая очень и умная, правда, я ее не люблю, потому что все курсистки такие несносные гордячки и еще курят папиросы. Вы знаете, Маша курит! – И мальчик посмотрел на Лихунова удивленно-молящими глазами, словно просил извинить сестру.
Лихунову нравился подросток, и он спросил:
– Как тебя зовут?
– Станиславом.
– Вы поляки?
– Нет, русские. Папа всего два года назад переехал из России в Юров. Он был начальником почты. Вы верите? – испуганно посмотрел на Лихунова Станислав, и капитан, улыбнувшись, ответил:
– Верю.
Они прошли мимо двухэтажных домов с распахнутыми настежь окнами и свернули в проулок. Навстречу попались два офицера из дивизиона, которые прогуливались по Юрову со сдвинутыми на затылок фуражками, держа в руках по паре бутылок «Вислинского плеса». Они удивленно посмотрели на Лихунова, направлявшегося к одному из домов. Константин Николаевич слышал, как они перебросились парой слов и тут же расхохотались. Он понял, что в его адрес отпустили сальную остроту, хотел было вернуться и спросить у них о содержании шутки, но Станислав уже толкал калитку некрашеного дощатого забора. Войдя за мальчиком в дом, Лихунов оказался в темном, прохладном коридоре. Не открывая дверь в жилой покой, Станислав по-мальчишески резко крикнул:
– Мария! Я покупателя привел! Войти можно?
– Входите! – прозвучал глубокий и мягкий женский голос, в котором Лихунов различил и девичье любопытство, и готовность быть любезной, однако и требовательность одновременно. Но Мария, не удержавшись, как видно, спросила:
– Кто это, Станислав?
– Это офицер, – нетерпеливо ответил подросток, негодуя на сестру за лишние вопросы, которые задерживают господина офицера.
– Входите же, – разрешил женский голос, дверь отворилась, и Лихунов прошел в небогато обставленную гостиную провинциального чиновника с недорогими литографиями на стенах и с двумя-тремя птичьими клетками, в которых щебетали их обитатели. Лихунов увидел высокую девушку, стоявшую посредине комнаты, словно специально вышедшую на это место для встречи с незнакомым мужчиной. Ей было лет двадцать пять. Не по-летнему тяжелое платье с глухим воротником из теплой материи туго охватывало ее немного полную фигуру с большой грудью. Лицо действительно оказалось красивым, но было чуть испорчено ранней полнотой, которая грозила обернуться потом настоящий тучностью. Большие карие глаза оттенялись аккуратными, густыми бровями, глядели мирно, с вопросом и каким-то глубоким женским ожиданием. Все лицо с чуть приоткрытым ртом и едва заметным дрожанием крылышек носа словно находилось в состоянии постоянной готовности отвечать на чей-нибудь вопрос, отвечать остро, доброжелательно и исчерпывающе правдиво.
– Добрый день, сударыня, – поклонился Лихунов. – Ваш брат сказал…
– Да, Маша, – перебил его Станислав, – господин офицер пришел купить у нас часы… те, что от папы остались.
Брови молодой женщины недовольно сдвинулись.
– А кто тебя уполномочил предлагать часы? Они не продаются!
– Но послушай…
– Нет, нет и нет! – твердо и громко отчеканила Маша и заходила по комнате. Лихунов увидел в ее полных руках платок, который она нервно мяла. – Ведь это же память о нашем отце, как ты смел? Как ты смел?!
«Истеричная особа», – подумал Лихунов и понял, что попал в неловкое положение. Он уже собирался откланяться, досадуя на то, что потерял так много времени. Но Станислав неожиданно выкрикнул, плача:
– Маша, ну ты подумай, на кого я теперь похож? На лгуна? Выходит, я господина офицера обманул? Да?!
Девушка внезапно остановилась, поморщилась.
– Да, действительно, скверная с тобой получилась история. Что делать, часы придется отдать, или ты на самом деле окажешься вруном.
– Сударыня, – холодно сказал Лихунов, – не стоит беспокоиться. Это даже на недоразумение не похоже. Так, пустяки.
– Нет, не пустяки, не пустяки! – горячо ударила Маша кулаком о раскрытую ладонь. – Вы нашей семьи не знаете! У нас никто не лгал! Никто! Лгать низко, подло, нелепо и глупо, в конце концов! При этом теряешь куда больше, чем можешь приобрести! Ведь вы – офицер, вы знаете сами, что такое честность и честь, знаете! – Неожиданно Маша поднесла к глазам платок и горько разрыдалась, даже не успев отвернуться.
Лихунову давно уже стало неловко от присутствия в этом доме, где, несмотря на заливистые трели птиц, все дышало тяжелой атмосферой недавно перенесенного горя.
– Ну что же ты стоишь, Станислав? – оторвавшись от платка, спросила девушка. – Неси же часы господину офицеру.
Мальчик, обрадованный тем, что его честь осталась незапятнанной, бросился в соседнюю комнату и через полминуты вернулся с часами, которые протянул Лихунову с улыбкой восхищения от сознания собственной честности.
– Вот папины часы. Возьмите.
– Да, да, – закивала Маша. – Возьмите. Это действительно прекрасный хронометр, механизм швейцарский, очень надежный. Отец был начальником почты в Юрове, а должность эта, сами знаете, требовала точности. Впрочем, что же вы стоите, господин капитан? Садитесь! Садитесь!
Маша подбежала к столу, покрытому плюшевой скатертью, и, выдвинув один стул, показала на него Лихунову.
– Ну же, садитесь! – немного капризно и шутливо приказала она, но, видя, что Лихунов по-прежнему стоит, сказала: – Ладно, я первая сяду, а то вы до сумерек церемониться будете, – и на самом деле села.
Константин Николаевич немного снисходительно улыбнулся и взялся за спинку стула. Ему начинала казаться симпатичной эта, как видно, пересидевшая в невестах девушка, сильная и независимая, подрастерявшая в курсистских залах и библиотеках то, чего какой-нибудь милой глупышке хватает для скорого и очень удачного замужества. Но голос Маши звучал так искренне, так прямо смотрели ее карие глаза под густыми, аккуратными бровями, что твердая уверенность Лихунова в ее полную неспособность лицемерить, кокетничать, чего он в женщинах очень не любил, делала ее чрезвычайно привлекательной в его глазах.
– Сколько вы хотите за часы? – негромко спросил Лихунов, рассматривая хронометр.
– О, потом, потом! – замахала руками Маша.
– Нет, сударыня, сейчас. Я вам дам за них сорок рублей. Достаточно?
Вместо ответа Маша спросила:
– Вас как зовут?
– Константином Николаевичем, – назвал свое имя Лихунов.
– Так вот, Константин Николаевич,– серьезно сказала Маша. – Эти часы – память о нашем отце, которого мы лишь вчера похоронили. Было бы скверно торговать этой памятью. Поэтому, – и без возражений, пожалуйста, – будьте хозяином этих часов.
– Но позвольте, – возразил Лихунов, – я знаю, что вы нуждаетесь… – Но Маша его перебила:
– Наш отец, вы уже знаете, был начальником почты. Мы переехали в это далекое польское местечко два года назад. Мама умерла у нас давно, и отец, жалея нас, второй раз не женился. Я преподавала в местной школе, и вот началась эта война. Зачем она началась, скажите? – неожиданно спросила она.
– Ну, вы же знаете, Германия готовилась давно…
Маша нервно рассмеялась:
– Готовилась? Вот это действительно ответ военного! Но разве же это причина? Нет, это результат, следствие! А причины есть, вы их только не знаете или не желаете замечать. Ну ладно, – помрачнела она, – я вам дальше расскажу. Юровцы еще месяц назад стали потихоньку уезжать из города в Варшаву и в другие места, а три дня назад в небе раздался какой-то стрекот. Все, кто были в домах, выскочили на улицу. Смотрим – а над нашими головами, высоко, саженях в двухстах от земли, кружатся два аэроплана, серо-белые, с черными крестами на боку. У меня глаза острые, я даже пилота разглядела в красном развевающемся шарфе. А он на нас смотрел. Все юровцы кричать стали, машут руками, потому что многие из них аэропланов никогда не видели. Вдруг от машины стали отделяться какие-то предметы. Мы и подумать не могли, что это бомбы, – зачем же мирных жителей бомбить, мы ведь не военные? Только лишь когда взрывы раздались и земля у нас под ногами содрогаться стала, народ все понял, закричал, заметался по улице. Бомбы лопались все чаще и чаще. Люди визжали от страха, совсем как звери, забегали в дома, снова выбегали с какими-то вещами, натыкались друг на друга, падали на землю, закрывали руками голову. Потом аэропланы улетели – бомбы, наверное, кончились. И те, кто был посмелее, стали ходить по улицам и собирать убитых и раненых. Знаете, какие это были раненые? Правда, вы офицер и вас ничем не удивишь, но когда я видела оторванные руки и ноги, мне хотелось кричать о том, что людям на земле вообще жить не надо, не надо! Они недостойны пить эту воду и дышать этим воздухом!
Маша была очень взволнована, и Лихунову даже казалось, что она немного помешалась от увиденной впервые жестокой правды войны. И Лихунов слушал ее рассказ с жадностью. Ему очень нужно было знать обо всем случившемся. А Маша продолжала:
– Отец тогда был на почте. Бомба попала прямо в здание и, как говорят, пробив крышу, взорвалась в самом помещении. – Маша некоторое время молчала. – От людей, рассказывали, остались одни обрубки. Отца нам так и не показали. Наверное, – усмехнулась она,– нечего было показывать. А вот часы эти домой принесли, они даже не остановились. И ведь ходят, ходят, а отца нет, нет! – Она горько рассмеялась, но мгновенно помрачнела: – Ну зачем им смерти юровцев? Зачем? Да, я знала, что на войне убивают, чтобы победить, но кого они побеждают, разрывая на части нас, гражданских жителей, совсем невооруженных, которые и ответить-то им неспособны? Неужели свету конец приходит?! – перешел голос Маши на крик, и она снова разрыдалась. Девушка плакала, не стесняясь, и ее полное тело совсем не дрожало от рыданий, только голова с густыми, темно-каштановыми волосами опустилась на грудь, и слезы неровными, блестящими дорожками сбегали по щекам на подбородок. Станислав стоял за спиной Лихунова, но Константин Николаевич знал, что мальчик тоже плачет, только сдержанно, неслышно. Подросток тронул его за плечо и, наверно, желая отвлечь внимание гостя от горько рыдающей сестры, дрожащим голосом сказал:
– Господин капитан, они кроме бомбы еще и стрелы бросали. Тяжелые, железные. Одна у нас на чердаке застряла. Хотите, покажу?
Лихунов понял, что мальчик хочет его на время увести, и он поднялся. К тому же ему очень хотелось посмотреть на железные германские стрелы, о которых он прежде ничего не слышал. Они поднялись на чердак по крутой деревянной лестнице, со стропил свисали вязки лука, на веревке висели два старых платья, постиранные, как видно, для продажи.
– Вот, смотрите, – нагнулся Станислав, показывая на что-то.
Лихунов тоже нагнулся. Из дощатого пола чердака торчал стальной предмет вершков десяти длиною и толщиной в полвершка. На верхней части имелось подобие оперения. Стрела пробила крышу и глубоко вошла в доски чердачного пола. Лихунов попытался вытащить ее, но не удалось даже раскачать каленый, стальной прямоугольник. «Да, с фантазией неприятель, – подумал он. – Такая стрела всадника вместе с лошадью прошибет да еще и в землю воткнет. Правда, в Юрове нет кавалерии. Ну да это им, видно, все равно».
– Зачем они так? – спросил Станислав.
– Значит, так надо, – коротко ответил Лихунов, и они стали спускаться.
Внизу Маша, уже совсем пришедшая в себя, – только красные веки говорили о ее недавних слезах, – встретила Лихунова с милой женской приветливостью.
– По-русскому обычаю, знаю, гостя водкой надо бы попотчевать, но, простите, не держали мы в доме водки. А вот квасом я вас угощу. Стасик, живо в погреб! Да быстрей, быстрей! Клюквенного принеси!
Станислав убежал, а Маша смело спросила у присевшего к столу Лихунова:
– Вы, Константин Николаевич, семью, конечно, имеете?
Она спросила это так просто и прямо, что Лихунов понял – не ответить на этот вопрос он не имеет права: ответ почему-то очень был нужен Маше.
– Нет, семьи у меня нет, – отрицательно качнул он головой, и тут же понял, что этого будет недостаточно для удовлетворения женского любопытства, и, пересиливая желание не касаться больного, продолжил: – Когда-то у меня были жена и дочка, славная такая девочка. Тогда меня не было дома – шла война с японцами… ну вот, брат жены решил покатать их по заливу на лодке. В Сестрорецке у него была дача. Так вот, как рассказывал он мне потом, погода стояла прекрасная, и он по легкомыслию заплыл далеко в море. Потом вдруг откуда ни возьмись налетел сильный ветер, пошел дождь, и начался настоящий шторм – такое случается на заливе часто. Значит… шурина подобрал какой-то рыбак, а вот жены и дочери, – ей всего-то семь лет тогда было, – я больше не видел. Их тела так и не сумели отыскать.
– Ну как же это! – воскликнула Маша горячо и заходила по комнате. – Ну отчего же все так скверно получается, худо, гадко! Какая-то нелепая случайность, и вдруг рушится все, все! А я-то дура какая, стала спрашивать у вас, мучить, хотя видела сама по лицу вашему, что у вас внутри какая-то рана незажитая! Какая дура я!
Лихунов усмехнулся:
– У меня на лице в самом деле написано что-то?
Маша ответила не сразу. Осторожно взглянула на красивое лицо загорелого тридцативосьмилетнего мужчины и сказала:
– Знаете… правда, на вашем лице боль какая-то или беда отпечаталась. Впрочем, я могу ошибаться. Извините…
Они замолчали, но тишину нарушило возвращение Станислава, поставившего перед Лихуновым кувшин с квасом и высокий хрустальный стакан.
– Вот, пейте! Клюквенный, Маша сама делала! В окрестностях Юрова прорва клюквы. Пейте!
Лихунову не хотелось уходить. Маша очень нравилась ему, и именно сейчас, в это страшное время, когда наступающий враг был совсем рядом, ему впервые за десять лет захотелось иметь свой дом, свою семью, сидеть вечерами с красивой, как Маша, женщиной, воспитывать детей, таких же благородных и честных, как Станислав. Но всего этого быть сейчас не могло – шла война, которой он был нужен.
– Вы в Варшаву собрались бежать? – спросил Константин Николаевич.
– Да. Надо думать, немцам ее не взять. Я слышала, город сильно укреплен. И соседние крепости, Новогеоргиевск, Осовец… Мы ведь верим в вас, в наших славных защитников, в щит отечества нашего! – немного насмешливо произнесла Маша, и Лихунов не смог понять причину ее иронии.– Да, завтра утром мы уезжаем в Варшаву. Там я оставлю Станислава, сама же в сестры милосердия пойду. Там действует отделение Общества Святой Евгении, великой княгиней Татьяной Александровной организованное. Не знаю, куда пошлют. Женское милосердие повсюду нужно. А вас куда направляют?
Лихунов замялся. Он верил Маше, но обязанность сохранять в тайне маршрут следования дивизиона мешала ему ответить прямо.
– Ну хорошо, не говорите, не говорите! – замахала руками девушка. – Военная тайна, я понимаю! Хотя, ну куда вас могут послать, кроме Новогеоргиевска? Здесь и в Генеральном штабе не нужно служить: от Юрова он недалеко, держит подступы к Варшаве, а фронт совсем близко. Ну, угадала? – и Маша с торжеством посмотрела на Лихунова своими блестящими карими глазами.
Константин Николаевич сконфузился, но тут же заговорил быстро и негромко:
– Послушайте меня, не нужно ехать в Варшаву! Ее возьмут немцы, обязательно возьмут, говорю вам как опытный военный. И никакой Новогеоргиевск не поможет…
Лихунов хотел сказать еще что-то, но в окно вдруг забарабанили неожиданно громко. Маша вздрогнула и с перепуганным лицом подбежала к окну.
– Это, кажется, вас, – сказала она Лихунову, показывая на окно.
Лихунов встал. Через стекло он увидел все того же нахального фейерверкера первой батареи, делавшего знаки, словно приглашающего выйти. Лицо фейерверкера не было уже задорно-нагловатым, а выражало испуг и озабоченность. Лихунов поклонился Маше:
– Простите, сударыня, – вызывают. Не знаю, увидимся ли… – Он заметил, как замерло лицо женщины в напряженном внимании, будто она очень желала услышать на прощанье что-то очень хорошее, особенное, то, что, возможно, могло быть оправдано расставанием навсегда, то, чего она не слышала никогда. Но Лихунов лишь снова поклонился и поспешно вышел на крыльцо.
– Ну что случилось? – строго спросил он у фейерверкера, надевая фуражку.
– Ой, насилу нашел вас, ваше сыкородие! Слава Богу, господа офицеры подсказали, что видели вас. Их высокоблагородие, господин полковник, кажись, помирать изволют, за вами послать просили. Очень, очень плохи!
– Как помирает? – изумился Лихунов, спускаясь с крыльца и быстрыми шагами направляясь в сторону станции. – Еще и часа не прошло, живой был.
– А вот мигом скрутила его неведомая сила, – таращил на Лихунова испуганные глаза фейерверкер. – Словно в падучей упал на землю, глаза выпучил, пена ртом пошла, стонет. Похоже, отравился… – Фейерверкер с трудом поспешал за Лихуновым, на ходу пытался заглянуть ему в глаза, желая увидеть впечатление, произведенное словами о болезни дивизионного.
– Да чем там ему отравиться? – удивился Лихунов. – Он же из дивизионной кухни, как и мы все, питался.
– Не знаю, – глупо крутил головой фейерверкер, – я полковничьих щей не едал.
Подошли к станции. У входа в готический вокзал толклись нижние чины, курили, тихонько о чем-то говорили. Увидели Лихунова, услужливо повели туда, где находился Залесский. Дорогой ахали, вздыхали. Дивизионного Константин Николаевич увидел в комнате, где помещался телеграф. Залесский в расстегнутых брюках и задранной над животом рубашке лежал навзничь на узком кожаном диване. У изголовья стоял таз, зловонно пахло извержениями желудка. Над полковником склонился дивизионный фельдшер и, поддерживая голову, давал что-то пить. Живот Залесского был раздут, тяжело вздымался при дыхании, словно не выдерживая своей величины. Лицо было землистого цвета, а искусанные губы совсем почти черные. Но дивизионный заметил вошедшего командира батареи.
– Ли-ху-нов, – заикаясь, тихо проговорил Залесский, – ко мне по-дой-ди-те. – Лихунов подошел. – Это ле-пеш-ка… ав-стрий-ская. От-ра-ви-л… под-лец, – едва ворочая черным языком, по слогам говорил полковник.– Вы… за ме-ня… ди-ви-зион при-ми-те… до кре-пос-ти…
В горле у Залесского заклокотало, он выпучил страшно блестевшие глаза. Фельдшер поспешно наклонил его голову в сторону, и в таз потекло что-то густое и черное. Потом судороги волнами покатились от плеч к стопам, полковник, должно быть испытывая сильные мучения, извивался на диване несколько минут, потом резко выгнулся дугой, держась едва ли не на одних лишь пятках и затылке, но внезапно рухнул на диван, тело его дважды качнулась на пружинах и затихло. Лицо же с широко открытыми глазами и ртом кричало о чем-то нестерпимо больном и важном.
– Все, – нагнулся над дивизионным фельдшер и тут же выпрямился, снимая пенсне.
Стоявшие рядом с Лихуновым офицеры зашуршали рукавами кителей, крестясь. Было тихо. Только за окном где-то далеко свистел паровозный гудок.
– Убил, собака австрийская! Убил! – услышал Лихунов приглушенный бешеной яростью голос штабс-капитана Васильева. Раздался топот подкованных сапог, стукнула дверь. Лихунов все еще смотрел на преображенное страданием лицо своего бывшего командира, но в сознание уже вползало другое, связанное с яростным шепотом Васильева и стуком двери. Только сейчас до Лихунова дошли эти слова и топот сапог, он вспомнил, что сейчас, подходя к вокзалу, видел команду пленных австрийцев, поджидавших поезда. «Он убьет его!» – мелькнуло в сознании Лихунова, и он бросился к дверям телеграфа.








