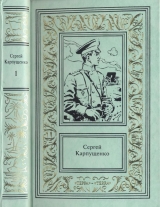
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Сергей Карпущенко
Капитан полевой артиллерии
Карпущенко С. В.
Сочинения: В 3 т. Т. 1: Капитан полевой артиллерии: Роман. – М.: ТЕРРА, 1996. – 400 с. – (Большая библиотека приключений и научной фантастики).
Художник О. ЮДИН
ISBN 5-300-00753-6 (т. 1)
ISBN 5-300-00752-8
Аннотация
В романе «Капитан полевой артиллерии» описывается один из почти забытых эпизодов времен первой мировой войны: оборона неприступной крепости Новогеоргиевск. Главный герой, капитан полевой артиллерии Лихунов, попадает в немецкий плен, где начинает вести дневник, в котором находят отражение не только картины обороны крепости и жизни русского офицера в плену, но и размышления о смысле жизни, о вере, о том, что же такое война и кому она нужна…
ПРОЛОГ
В Петрограде 27 ноября 1916 года было морозно и сухо. Те из обитателей сводного эвакуационного госпиталя, кто смог подняться с постели и подойти к окну, смотрели на розовую брусчатку мостовой, чисто выметенную, горделиво-столичную, по которой проходили никуда не спешащие обыватели, проносился порой весь в клубах сизого дыма сияющий лаком и никелем автомобиль, прогромыхивал экипаж лихого петроградского «ваньки», никогда не останавливавшегося возле здания Училища правоведения, где размещался госпиталь. Через плохо вымытые стекла они смотрели на заждавшийся снега город, остуженный осенними ветрами, кое-кто улыбался, видя несущихся по улице гимназистов с развевающимися башлыками, плюющих на приличия и не желающих соблюдать благочиние. Лотошник в картузе проносил свой незатейливый товар на лотке, подвешенном на шее, – крендельки овсяные, гречишные, ячменные. Размахивая кипой газет, пробегал мимо окон орущий мальчишка. Пускали облачка сигарного дыма и постукивали бронзовыми наконечниками тростей респектабельные горожане, и каждый из стоящих у окна знал, что никто в холодном этом городе даже не подозревает о их существовании, что они никому не нужны и о них все забыли, потому что воюющей державе нужны здоровые мужчины, способные воевать, работать, разносить газеты с сообщениями о положении на фронте, продавать овсяные крендели, чтобы работающие на армию могли укреплять свое тело или хотя бы прогуливаться, как эти господа, постукивая тростями, и рассуждать о том, как много шансов осталось у России для победы над Германией.
Но они ошиблись – их не забыли. Вечером в госпитале устраивался благотворительный концерт, ожидались важные гости, поэтому еще до обеда все помещения стали тщательно мести, проветривать, уничтожая запах опрелой кожи, нечистого белья, застарелых, гноящихся ран. Сестры спешно занимались перевязкой. Меняли бинты даже у тех, кого перевязывали совсем недавно. Потом сестры бегали с кипами белья, нательного и постельного, помогали тяжелораненым переодеваться, заменяли, где нужно, простыню или наволочку. Ждали посещения членов августейшей фамилии. Старший врач с озабоченным лицом бегал из палаты в палату, заглядывал в тумбочки, под кровати, матерно ругал санитаров и под конец распорядился перемыть ночные вазы, признав их источающими зловоние, и еще раз протереть полы раствором хлора. Бедные измученные сестры носились по госпиталю, наводя порядок, не успевая ухаживать за ранеными. Потом в палатах появились санитары, держа под мышкой государственные трехцветные флаги, и, поддерживая друг друга, стали взбираться на тумбочки и укреплять флаги над входами в палаты.
Концерт был назначен на шесть пополудни в бывшем рекреационном зале училища, довольно просторном, но холодном, с белым лесом мраморных колонн, высящихся вдоль стен. Стулья и диванчики для ходящих санитары и сестры расставили там заранее, оставив место для коек тяжелораненых, но только для тех, кто сам изъявил желание поглядеть на артистов, – никого не принуждали. В госпитале было несколько умирающих. Их отнесли подальше, в дальние углы палат, оставив у постели каждого сестру или санитара на дежурстве.
Незадолго до приезда гостей по палатам прошел старший врач, уже не в халате, а в мундире и при шашке. Обратился к раненым тревожно-радостным голосом:
– Веселей, веселей смотрите, господа! Сами их императорские высочества великие княгини и великий князь соизволили посетить наш госпиталь, дабы личным участием к судьбе русского солдата засвидетельствовать свое сочувствие вашим подвигам и ранам. Веселей смотрите, прошу вас, господа!
И раненым нравилось, что называли их господами, потому что в дни обыкновенные именовал их старший доктор лишь братишками, а иногда и просто хамами – лежали в госпитале нижние чины по большей части. Когда врач ушел, сестры стали выводить раненых в рекреационный зал, по-праздничному освещенный, откуда уже доносились пиццикато скрипок готовящегося к игре оркестра. Больные, кто мог, входили в зал без помощи сестер, другие опирались им на плечи. Шли медленно, стыдливо запахивая на груди серые больничные халаты, сконфуженно косились на приодетых артистов, сгрудившихся в противоположном конце зала. Артисты же, среди которых были солисты императорской оперы Калинина, блиставшие в ту пору на сцене Смирнов и Коваленко, широко открытыми глазами смотрели на входящих в зал воинов. Раненые шли, постукивая о пол костылями и палками, тяжело опирались на них. Многие глухо кашляли по причине разъеденных хлором легких. Туго обмотанные бинтами головы, руки, ноги. Раненые медленно входили в зал, поддерживаемые сестрами, которые в эту минуту всем своим видом старались выразить особое сочувствие. Они с трудом садились на приготовленные для них места и клали свои костыли прямо на пол. Потом санитары стали вносить койки с лежачими больными. Раненые только поворачивались в сторону собравшихся гостей, но им словно тут же становилось совершенно неинтересно смотреть на артистов, и они отворачивались. Оркестр поднялся. Калинина и артистка балета Преображенская заплакали навзрыд, и кто-то пронзительно, срывающимся на плач голосом крикнул:
– Слава защитникам отечества-а-а!!
И тут же строгие звуки народного гимна покатились от стены к стене, подхваченные нестройным хором полусотни голосов. И раненые поднимали свои костыли и тяжело вставали. Но пение гимна уже подходило к концу, и иные, так и не успевшие подняться, красные от смущения, сидя встречали последние строки гимна:
Царь правосла-а-вный!
Бо-о-же-е, ца-а-ря хра-а-а-ни-и!
Когда все уселись, появилась тележка, доверху наполненная свертками и пакетами. «Подарки! Подарки!» – полетело от одного к другому, и полный господин во фраке, вышедший на середину зала, торжественно, очень гордясь, должно быть, возложенной на него обязанностью, произнес:
– От Городской думы нашим славным российским воинам, претерпевшим неизмеримые муки от душегуба-германца, скромные дары!
Тележки катились санитарами мимо оживленных раздачей подарков раненых. Сопровождали дары артистки Корчагина-Александровская и Калинина, приветливо улыбавшиеся раненым. Останавливались возле каждого и произносили несколько ласковых, теплых слов, получали из рук санитара пакет, вручали его раненому и шли дальше. Пакеты эти разворачивались тут же, с интересом рассматривалось содержимое – простое белье, полотенца или бритвенный прибор с обязательным приложением литографированного портрета императора или дешевого образка Богоматери. Не удовлетворившись осмотром своего подарка, раненые тянулись к соседям и с нескрываемой завистью смотрели на их вещи. Иные тут же затевали обмен. Поднялся негромкий шум и гомон. Артисты, устроители концерта и руководство госпиталя со снисходительными улыбками следили за происходящим. Вот в зал вкатили кресло, на котором, улыбаясь и поднимая в приветствии узкую белую руку, сидела главный организатор вечера, артистка Ланская, тоже инвалид, – совсем недавно, давая концерт на позиции в целях поднятия боевого духа солдат, она попала под обстрел тяжелых немецких орудий, а в результате – контузия. Ланскую везут на каталке вслед за тележкой с подарками, она умиленно смотрит на поглощенных подарками раненых, иногда ободряюще бросает им какое-нибудь слово, но ее не слушают и продолжают заниматься своим нехитрым делом.
Концерт начался неожиданно. Внезапно негромкая возня раненых была сметена вихрем скрипок, взметнувших под гулкие своды зала увертюру к «Руслану и Людмиле». Все оторопело притихли и испуганно насторожились.
Капитан полевой артиллерии Константин Николаевич Лихунов, зябко кутаясь в больничный халат, пропахший карболкой и йодоформом, с повязкой, закрывавшей правый глаз, сидел в углу зала у колонны и слушал музыку. Лихунову тоже вручили пакет, но он его даже не развернул, а положил на колени. Он следил за гибкими, быстрыми руками прославленного Похитонова, виртуозно управляющего оркестром, и не ощущал ничего, кроме звуков. Знакомая мелодия давно не слышанной музыки, любимой с детства, словно прижимала его к мрамору колонны. Лихунов чувствовал ее холодную близость, хотел отодвинуться – и не мог, зачарованный музыкой. Он прибыл из плена всего неделю назад и все еще не мог поверить в то, что находится на родине, в родном Петрограде, что нет ни проволочных заграждений, ни конвоя. Вторую неделю он не переставал радоваться нормальной порции мяса и даже старался есть его быстро, боясь, что кусок сейчас отнимут и жестоко посмеются над его доверчивостью. И только лишь сейчас, при звуках этой очень русской и такой вольной музыки рождалось убеждение, что он действительно свободен. И теперь, прикрыв лицо ладонью, он тихонько покачивался в такт мелодии и улыбался.
Неожиданно к дирижеру смело подошел строгий адъютант с серебряным аксельбантом, тронул его за плечо, что-то шепнул на ухо. И музыка разом смолкла. Все повернулись в сторону входа в зал, откуда вскоре появилась небольшая группа вновь прибывших. В одной из вошедших женщин Лихунов сразу же узнал великую княгиню Викторию Федоровну, августейшую председательницу Комитета по обмену военнопленными. Константин Николаевич прибыл в Россию из плена в числе первых партий, великая княгиня при встрече на Финляндском вокзале, на обеде, данном вернувшимся из плена, сама подошла к Лихунову и десять минут говорила с ним.
Спутницы Виктории Федоровны Лихунов не знал. Она была средних лет, одета в простое платье сестры милосердия, на голове широкая косынка, стянутая у подбородка, на руке повязка с красным крестом. Женщин сопровождали несколько офицеров. Вошедшие постарались было остаться за колоннами, но к ним уже подбегали кто-то из администрации госпиталя, старший врач и еще какие-то люди в штатском платье.
– Господа! Братья! – с нарочито взвинченным волненьем произнес неизвестный Лихунову толстый господин во фраке. – Ваш скромный приют удостоили своим посещением их императорское высочество, великие княгини Мария Павловна и Виктория Федоровна, а также великий князь Кирилл Владимирович! Поблагодарим их за это, господа!
Снова заиграли гимн, и снова раненые, тужась, краснея от напряжения, царапали костылями натертый пол и пытались встать, а потом так же долго рассаживались, вконец утомленные.
А музыка снова играла, и по вылощенному паркету едва слышно застучали легкие ножки Оленьки Преображенской, артистки императорского балета, но Лихунов уже ничего не видел и сидел, закрыв лицо рукой. Вдруг чьи-то шпоры брякнули у него за спиной и кто-то смело тронул его за плечо. Лихунов обернулся – рядом с ним стоял молодой адъютант в полковничьих погонах.
– Вы… подняться можете? – спросил адъютант с улыбкой гордого лизоблюда, как показалось Лихунову.
Капитан встал. Перед ним стоял гвардеец с блестящей набриолиненной головой, который, не снимая белых нитяных перчаток, крутил в воздухе моноклем на шелковом шнурочке.
– Чего желаете? – спросил Константин Николаевич.
– Вы капитан полевой артиллерии Лихунов?
– Бывший капитан Лихунов.
– Кто вас лишил чина?
– Германский плен лишил.
Адъютант понимающе улыбнулся:
– Я о характере чувств ваших догадываюсь, но забываться тоже не стоит. Это не всем может прийтись по вкусу. Сейчас же прошу вас следовать за мной. С вами хочет говорить великая княгиня Мария Павловна.
Адъютант шагнул было в сторону, но, взглянув еще раз на лицо Лихунова, брезгливо двинул губами и, показывая моноклем, спросил:
– Что там у вас из-под повязки течет?
– Возможно, гной. Когда под Новогеоргиевском я командовал батареей, германский снаряд разорвался всего в двух саженях от меня. Глаз поврежден осколком, который вынули, но яблоко глаза вылущить как следует не удалось. А вы что, не видели гноя?
Адъютант, зло смущаясь, полез в карман брюк и, не глядя на Лихунова, протянул ему платок:
– Возьмите, утритесь. Там ведь дамы. Нехорошо.
– Благодарю. У меня свой платок есть. Идемте.
За колоннами они прошли на другую сторону зала, где неподалеку от оркестра в окружении устроителей вечера и госпитального начальства стояли их высочества. Великие княгини о чем-то живо говорили, а Кирилл Владимирович, двоюродный брат императора, командир Гвардейского экипажа, красивый мужчина с пышными усами, молчал, сложив на груди свои сильные руки. Лихунова подвели к княгиням. Виктория Федоровна повернула голову и некоторое время недоуменно смотрела на него, не узнавая капитана в больничном халате.
– Лихунов, – подсказал адъютант.
– Ах да! Ну конечно! Что за память, извините! – досадливо всплеснула руками миловидная Виктория Федоровна, качнула бисерной сумочкой, что висела у нее на запястье рядом с толстым, витым браслетом, и обратилась к своей спутнице: – Машенька, это тот самый капитан артиллерии, я тебе говорила. Его зовут Лихунов. Был в Новогеоргиевске, потом в плену. Пытался бежать…
Мария Павловна, с худым лицом, в холщовой косынке сестры милосердия очень похожая на монахиню, долго и внимательно рассматривала Лихунова.
– Новогеоргиевск! – сказала она скорбно. – Это наша общая трагедия. От этой раны, должно быть, у каждого русского душа болит.
– Маша, – сказала Виктория Федоровна, – господин капитан мне говорил, что у него есть какие-то записки. Там все о плене, все! Я уверена, такого еще не читали в России, где еще почти ничего не знают о положении наших военнопленных в Германии.
– Вам удалось вести в плену дневник? – с удивлением спросила Мария Павловна.
– Не совсем дневник, ваше высочество, – сказал Лихунов. – Это записки от случая к случаю. Вести дневник в плену – дело немыслимое.
– Но когда же вы покажете нам ваши записки? – немного капризно спросила Виктория Федоровна. – Я как председательница Комитета по обмену военнопленными должна знать все об их положении. Это ускорит операцию по обмену, вы понимаете.
– Да, я все понимаю, ваше высочество, – утвердительно кивнул Лихунов. – И даже если бы вы сами не предложили мне передать мои записки по назначению, то я, помня обещание, данное оставшимся в плену товарищам, был бы вынужден сам прибегнуть к наискорейшему оповещению высокого начальства и, возможно, самого государя о тяжком положении наших военнопленных. Передавая записки, я бы стал умолять ускорить обмен или хотя бы интернирование пленных инвалидов в нейтральные страны, где даже легкораненые и больные англичане и французы живут едва не с самого начала войны и где над ними нет гнета сознания, что на родине о них все забыли.
Виктория Федоровна прослушала горячую речь Лихунова внимательно, но ответила немного сухо:
– Я с интересом прочту все, что вы мне дадите. Когда я получу записки?
– Если вам угодно, завтра. Ночью я сумею их пересмотреть.
– Вот и прекрасно, – улыбнулась Виктория Федоровна. – Что же касается конкретных мер, то уже делается все что можно. Вы, к примеру, уже в России. Кроме того, налаживается интернирование туберкулезных в Данию. Но, скажу вам откровенно, Комитет порой становится бессилен, потому что делу расширения обмена и интернирования многие сильно мешают. В частности, Генеральный штаб.
Молчавший до этого Кирилл Владимирович задвигал своими роскошными усами и полушутливо-полустрого сказал:
– Сударыня, довольно, довольно! Вы переходите границы определенных для вашего Комитета полномочий и внедряетесь в область, куда дамской ножке ступать строго-настрого запрещено.
Кирилл Владимирович, довольный своей фразой, громко рассмеялся и взял обеих великих княгинь под руки, собираясь увести.
– Вот так всегда! – вздохнула Виктория Федоровна и, уже уходя, бросила Лихунову: – До свиданья, господин капитан. За вашими записками придут завтра.
Сопровождаемые свитой их высочества прошли за колонны, к выходу, а Лихунов остался стоять на месте, провожая их взглядом. Концерт скоро кончился, и музыканты стали прятать инструменты в футляры. Тяжело, с помощью сестер, поднимались со своих мест раненые и, держа раскрытые пакеты с подарками, неуклюже ковыляли к палатам. Лихунов видел, что санитары, подойдя к койке одного тяжелораненого, ненадолго наклонились над лежащим, а потом набросили ему на лицо одеяло. Эта кровать так и осталась стоять у мраморной колонны опустевшего, холодного зала.
Лихунов прошел в палату, бывшую когда-то классной комнатой будущих правоведов, и стал раздеваться. Он слышал, как рядом с ним вели негромкий разговор двое раненых, как кто-то из них вдруг стал передразнивать одного артиста. Тихо смеялись. Скоро их голоса замолкли, только из другого угла палаты доносилось:
– …да святится имя Твое… да будет воля Твоя…
Потом, когда молитва смолкла и в палате ничего, кроме храпа, тихого стона и кряхтенья спящих, не было слышно, Лихунов, порывшись в тумбочке, достал несколько тетрадей в коленкоровых обложках и, повернувшись в сторону тусклого света, падавшего от висящего под потолком ночника, стал читать…
ГЛАВА 1
Конец июня 1915 года в Западной Польше выдался жарким и на редкость сухим. Дорожная пыль плотным коричневым облаком окутывала артиллерийский дивизион, толстым слоем садилась на спины лошадей, взмокших от жары, сваливалась на шерсти грязными комками. Животные, шестерками тянувшие орудия, мотали головой, прядали ушами, забитыми пылью, фыркали, коротко ржали. Передки, зарядные ящики, орудия стали серыми. Прислуга кашляла, обматывала лица платками. Все ехали молча, и не слышно было обычного для походной колонны балагурства – всегдашнего спутника нижних чинов. Весь дивизион полевой артиллерии, с подпрыгивающими на рытвинах плохой дороги зарядными ящиками, телефонными двуколками, походными кузницами, кухнями, лазаретными линейками, обозными фурами, казался длинной, хмурой и усталой похоронной процессией, где всем на редкость скверно, хочется пить и спать и совсем не хочется говорить.
Командир третьей батареи капитан Лихунов ехал на лошади в стороне от колонны, стараясь держаться как можно дальше от поднимавших клубы пыли орудий. Фуражку он надвинул пониже, а низ лица закрыл повязанным клетчатым платком, почти что черным от пыли. Слева от него на чубаром, норовистом коне трясся старший офицер батареи, молодой, – совсем еще мальчик, – поручик Кривицкий. В распоряжение Лихунова этот выпускник училища, не обстрелянный еще, попал совсем недавно, когда доукомплектовывался дивизион, изрядно потрепанный, потерявший до двух третей орудий и людей в карпатских боях. Кривицкий правил лошадью неумело, вздернув локти и совсем не по-кавалерийски обвиснув всем телом в новеньком английском седле. Поручик то и дело дергал поводья, лошадь, роняя пену, хрипела, а всадник вдобавок нещадно хлестал ее гиппопотамовым стеком и смачно ругал животное.
– Да оставьте вы хлыст в покое! – не выдержал Лихунов и сдернул с лица платок. – Только мучаете лошадь.
– А что же делать? – с виноватой заносчивостью отозвался Кривицкий. – Хотите, чтобы я шел рядом, держась за хвост? Я же не виноват, что мне такой черт достался!
– Вначале отпустите удила, успокойте своего Крепыша, а потом на шенкелях езжайте. Этого довольно будет.– И прибавил: – Чему вас только учили…
Кривицкий промолчал, но Лихунов заметил, что поручик остался недоволен его выговором.
– А далеко ли до станции? – спросил юноша после долгого молчания, привстав на стременах и щурясь на покатые холмы, жавшиеся к дороге, по которой двигался дивизион.
– Если верить карте, – ответил Лихунов, – то верст пятнадцать осталось. Проедем Вымбухов, местечко совсем небольшое, а там и до Юрова рукой подать.
Кривицкий фатовато сдвинул фуражку на затылок.
– Если верить карте! По карте противник должен находиться отсюда верстах в тридцати, но вчера, как нам передали, через наши позиции прорвались два батальона и заняли тот самый Вымбухов, в который мы скоро войдем. Их скоро выбили оттуда, правда, но все равно в условиях войны карта – вещь чрезвычайно ненадежная.
Лихунов хотел было возразить, но, взглянув на колонну, увидел, что все смотрят куда-то в сторону: словно в доказательство слов Кривицкого о том, что противник гораздо ближе, чем показывала карта. Из-за дальнего холма медленно выплывала черная сигара цеппелина, который, постояв на месте, так же неожиданно, как и появился, скрылся за холмом.
– Ну, видели? – спросил Кривицкий, но Лихунов не ответил и только снова натянул на лицо свой запыленный платок.
От начала колонны отделилась фигура всадника, который, повернувшись лицом к двигавшимся ему навстречу офицерам, остался неподвижным, словно поджидая их.
– А вот и их благородие штабс-капитан Васильев собственной персоной! – смешливо заметил поручик, указывая рукой на всадника.– П… старый! Поди по винту соскучился или денег на водку занять хочет!
Лихунов вспылил:
– Что вы себе позволяете, поручик?! Впредь при мне извольте в должной форме отзываться о старших по чину!
– Слушаюсь, – давя смешок, пробурчал Кривицкий и надвинул фуражку на глаза.
Они подъехали к Васильеву. Пожилой штабс-капитан, с седыми усами, переходящими в бакенбарды, измученный верховой ездой, всем своим видом выражал досаду и недоумение.
– Господи, ну кто, кроме Аллаха, знает, куда нас гонят? Ведь это, в конце концов, невозможным становится! Почему бы не сделать привал? Ведь так и задохнуться можно, упасть с лошади…
Его фразу весело поддержал Кривицкий:
– Потом вас занесет пылью, песком, и только лет через сто какой-нибудь проезжающий мимо еврей увидит торчащий на обочине дороги нос. Вас, иссохшего как мумия, отроют и поставят под стекло в каком-нибудь сельском паноптикуме рядом с глиняным горшком и желтым ребром мамонта!
– Приятная перспектива, – тяжело дышал Васильев, а поручик продолжал, увлекшись:
– С вами случится то, что происходит с умершими на Сицилии. Там такой сухой климат и почва, что покойника зарывают в землю всего лишь на год, а потом выкапывают и подвешивают в специальных усыпальницах, где на них могут любоваться все, кому угодно. Я сам видел.
– Вы что, были на Сицилии? – неожиданно резко спросил Лихунов.
– Да, был.
– Зачем вы говорите неправду, Кривицкий? Ведь вы не были там!
– Как это не был, позвольте! – попытался возмутиться нахохлившийся поручик, но осекся и только буркнул: – Ну, положим, не был, так что ж с того? Это дела не меняет. Я о сицилийских мумиях в книге читал…
Лихунов видел, как покраснело под слоем пыли хорошо выбритое лицо поручика, и ему стало стыдно за своего помощника, но в то же время и за себя самого, не способного смолчать, когда дело и без того было понятным и ясным. «Ну зачем я так? Что мне до того, был он на Сицилии или нет? Вечно сунусь!» Но тут же родилась мысль: «А так и надо! Пусть не врет офицер! Пусть не врет!»
Они некоторое время ехали молча, но потом Васильев, сердито сплюнув на землю, сказал, обращаясь неизвестно к кому:
– И чего нас к этому Новогеоргиевску проклятому гонят? Неужели полевой артиллерии на открытой позиции делать нечего? Знаю! Соберется там нас рать несметная и будет трепыхаться в этой крепости, как караси в мереже. И захочется уйти, да не уйдешь! Тьфу, прости в бога душу мать!
Лихунов был согласен с Васильевым, но в разговоре участия решил не принимать, боясь, что снова скажет сгоряча то, о чем станет позже сожалеть, зато штабс-капитан разговорился:
– В наше-то время, при столь мощной осадной артиллерии, при сорокадвухметровых бомбах, которые яму вырывают в три метра глубиной да диаметром одиннадцать, – адское оружие! – крепость давно уж прежнюю роль потеряла. В лучшем случае она может иметь значение в данное время, в данной операции, а после того…
Кривицкий прервал Васильева неожиданно строгим, серьезным тоном:
– После того, значит, крепость получает нравственное право сдаться противнику? Так, что ли? Выходит, такие крепости, как Туль, Эпиналь и Бельфор, в районе которых не проводилось никаких существенных операций полевых армий, не играли никакой роли в сопротивлении Франции врагу?
– Я не то хотел сказать, – замялся Васильев.
Но Кривицкий, не слушая штабс-капитана, горячо продолжал:
– Да, мы едем на поддержку Новогеоргиевска, в котором и без нас почти сто тысяч гарнизонов, но здесь с решением Верховного главнокомандующего я согласен полностью! Крепость должна быть усилена, ибо не она по причине своей слабости призвана опираться на полевую армию, а, наоборот, крепости должны служить поддержкой войск, оперирующих в их районе. При каждом стратегическом задании крепость обязана быть способной обороняться собственными силами, оставаясь и совершенно изолированной!
Васильев еще сильнее запыхтел, ничего не ответил Кривицкому, а, бросив поводья, полез в карман брюк за портсигаром, долго раскуривал папиросу. Сказал небрежно:
– Это тебя, Паша, немцы в твоем училище подучили, чтоб ты в поле боялся выйти. От выспренних ненужных мудроделий твоя теория.
В разговор вмешался Лихунов:
– Я, по правде сказать, крепостям не доверяю – они лишь сковывают способности огромных масс обороняющихся, а противнику сосредоточенно действовать дают, что всегда врагу на пользу, но вспоминаю, как нас в японскую «шимозами» забрасывали – сами знаете, граната полевая. Психический эффект на солдат наших произвела колоссальный: когда летит, как сатана, воет, разрывается с диким треском, а запах от разрыва такой скверный, будто и впрямь ворота адовы распахнулись. Солдаты едва заслышат «шимозу», сразу кто куда разбегаются, даже куст спасением казался. А ведь потом научились не бояться, укрытия стали строить. В легком блиндаже, в окопе с верхним настилом солдат себя куда покойней чувствовал, не боялся уже и стрелял вернее, потому что руки не дрожали…
– Вот и я о том же! – видя в словах командира поддержку своей теории, воскликнул радостно Кривицкий. – В крепостях есть резон, господа! Особенно в сильных. Посмотрите, Осовец вон совсем маленький, почти игрушка, а пятый месяц обороняется, против немца стоит, шестнадцатидюймовые орудия имеющего! А Новогеоргиевск ему не чета – первоклассная, сильная крепость! Да и разве ж не помните вы русской истории военной? На открытой местности русак всегда пасовал,– или по большей части пасовал,– а вот обороной крепости мы прославились. Русские на твердыню опираться привыкли. Рязань вспомните, Козельск, лавру Троице-Сергиеву!
– Когда я об укрытиях говорил, – твердо сказал Лихунов, – я легкие, полевые укрепления в виду имел, а не крепости. Под прикрытием стен, при знании, что за трехметровым бетоном спрятаться можно, моральный настрой солдат лишь к разложению приводит. Ненавижу крепости!
Поддерживая Лихунова и словно жалея Кривицкого за непонятливость, Васильев плаксиво протянул:
– Па-а-а-ша! Да разве ж стенами крепость сильна? Не-ет! Силой и крепостью солдатского духа! Вот чем!
Кривицкий рассмеялся:
– Да какой там дух, ваше благородие! Я хоть и недавно призван, но кроме нечистого духа, от нижнего чина исходящего, ничего иного не приметил! Да и откуда, подумайте, взяться у солдата этому самому духу боевому? Понимают ли они, зачем их каждый Божий день, как капусту, крошит немецкая шрапнель и секут пулеметы? Ни причин, ни целей, ни наших союзников солдаты не знают. Появись сейчас перед нами француз или англичанин, так, не предупреди он нашего Ваньку, он же по нему тотчас стрелять начнет, приняв за немца или австрийца.
– Ну, положим, – с раздражением пробасил Васильев, – француза или англичанина они в глаза не видали, но ведь идея защиты Отечества, как дела правого, святого, именем Бога православного узаконенного, для солдата близка и понятна.
Кривицкий насмешливо фыркнул:
– Оставьте ваши тирады для бесед с бригадным батюшкой! Подумайте, ведь солдат на девяносто процентов из крестьян набирают. Оставил он у себя в деревне пашню, скотину, жену, детишек, да и хлеб по большей части убрать не успел. Деревня для него – мир. Вселенная. Что для Ваньки смерть эрцгерцога, хотя бы и с супругой или союзнический долг? Да ничего абсолютно! Он дальше своего поля и не ходил, быть может, никуда. Ну разве еще в город на заработки съездит. Для него война эта, что бабе его – сабля.
Васильев возмущенно затряс усами:
– Ты, Паша, хоть и молод, а уж циник-то из тебя порядочный выглядывает! А все столичное образование, в душу бога мать!
Кривицкий неожиданно обиделся:
– Ладно! А вот мы сейчас посмотрим, а мы сейчас проверим, кто из нас прав! Господин капитан, – обратился он к Лихунову, – позвольте я кого-нибудь из канониров на минуту позову, проверим!
Лихунову не нравился Кривицкий, не нравилась его затея, но, желая полностью загладить свою недавнюю неловкость, он молча кивнул. Поручик круто повернулся в седле в сторону колонны и прищурился, выбирая кого-нибудь.
– Левушкин! Левушкин! – мальчишеским фальцетом прокричал он. – Слышишь! Шагом марш сюда! Да поторапливайся, когда тебя господин обер-офицер подзывает!
Сквозь облако пыли было видно, что кто-то, как заводной паяц, быстро спрыгнул с передка и побежал к продолжавшим ехать офицерам. Придерживая шашку, Левушкин нагнал офицеров, совсем не уставным, а каким-то глухим, больным голосом доложил, прикладывая руку к околышку фуражки:
– Канонир третьей батареи Левушкин по приказанию вашему явился.
– Явился! – передразнил канонира Кривицкий, разглядывая низкорослого канонира с бритым, скуластым лицом, покрытым пылью густо, как и его гимнастерка. – Экий ты братец грязный, как черт. Ну да ладно, ты нам вот что сейчас расскажи. Как понимаешь, почему государь император Николай Александрович имеет сейчас с германцами войну?
Левушкин шел рядом с лошадью Кривицкого и смотрел в землю. Говорить ему, как видно, не хотелось.
– Ну же. Ну! – поторопил его поручик. – Отвечай господину офицеру!
– А нам откель знать? – со вздохом вытолкнул Левушкин слова из почерневшего от пыли рта. – Хлопнули, говорят, какого-то герцога-перца, вот и зачали люди из-за него друг дружку истреблять.
– Ну а стоило ли из-за него с германцами связываться? Отвечай!
– Поручик, что вы себе позволяете? – прогудел сквозь усы Васильев.








