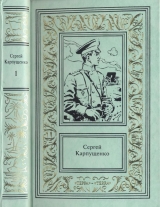
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– А потому, ваше сыкородь, что люди энти, германцы, нашего брата-русака за человеков признавать совсем не желают. Это к вам, господам, у них счет иной, а мы для них хуже псов бродячих! Да куды там! Псов-то они своих голубят, едва с одной тарелки с ними не жрут, уважают псиную породу! Мы – дерьмо, а то и похлеще называют, едва только нашенских слов наберутся!
Левушкин махнул рукой, не желая, видно, продолжать, но Лихунов настойчиво потребовал:
– Ты рассказывай, рассказывай, мне все знать нужно!
Канонир плаксиво скривил лицо, но не заплакал, а заискивающе улыбнулся:
– Ваше сыкородие, Константин Николаич, папироской не угостите?
Лихунов торопливо пошарил в кармане шинели – обычной, солдатской, которую добыла ему где-то Маша, – и протянул Левушкину портсигар и спички.
– Значится, – медленно начал Левушкин, закуривая осторожно, желая, как видно, растянуть удовольствие, – взяли меня тогда немцы прямо у форта, поколотили изрядно, опознав во мне антиллериста, отвели к другим, а когда собралась нас гурьба человек с полтораста-двести, под конвоем погнали польскими селениями, как мы догадались, в Германию ихнюю.
– Кормили-то как?
– А первое время, почитай, совсем не кормили, – так, кинут в толпу хлеба краюху или каких объедков. Кто схватил – тот и сыт маленько.
– Что ж, дрались даже за объедки эти?
– До драк-то хороших не доходило дело, а из рук вырывали, признаюсь. Я вот не из особо проворных, а ить и то приспособился перенимать. А то бы помер… А как вели нас по Польше, так уж полегче было. Время-то овощное. Случалось, крестьяне что вынесут, хоть и запрещалось конвоем, что сам сорвешь, оглянувшись.
– На хозяев оглянувшись?
– Нет, зачем. Хозяева увидють – ничего, а вот немцы-псы смотрели. Один у нас к забору подбежал, взлез маленько на него, чтобы яблоко сорвать, так прихлопнул его конвойный с винтовки, и окликать не стал.
– Да неужели? – простодушно удивился Лихунов.
– А чего им, – спокойно пыхнул дымом Левушкин. – Один раз проводили нас через село, так один из наших, полячок, признался, что его село, родное. Из домов народ повысыпал, смотрють, и полячок тот жену свою приметил и детишек. Окликнул. Те, понятно, своего узнали, подбежали, с плачем на нем повисли, вместе с колонной идтить не дают. Он тоже в чувство вошел – жену, робяток обнимает, плачет. Немец конвойный подошел, в плечо его пнул – иди, мол, к другим, ждать не будем, ну а где там полячку с места сойти – клещами на нем родные повисли, да и ему от них прочь идтить совсем даже неохота. Ну, раз его немец пнул, другой, третий, – а мы глядим, остановились тоже. Понял тут вроде бы конвойный, что пинками делу не помочь, спокойненько так со спины винтовку снял и уж без предупрежденья всякого в затылок полячку пальнул, так что кровью и мозгами евонными жену и деток окатило… вот так-то…
Лихунов вцепился взглядом в туповатое, исстрадавшееся лицо канонира и слушал его рассказ, ощущая в сердце, сжавшемся и притихшем, какую-то томительно-призывную боль, но совсем не ту, что испытал он в разоренном немцами костеле, когда радовался тому, что нынешняя война поистине ужасна. Теперь он почему-то уже не находил оправдания бездумной жестокости войны – никакое будущее вселенское благо, всеобщий мир не могли стать даже самым слабым извинением тому, что он сейчас услышал.
– Ну, ты почему замолчал? – тихо спросил Ли-хунов у Левушкина.– Ты рассказывай, я все знать желаю.
Канонир вздохнул – ему, как видно, не хотелось говорить о своих страданиях.
– Да зачем вам это, ваше высокоблагородие?
– Нужно, Левушкин, нужно. Ты говори, говори.
– Ну, пригнали нас на станцию, по вагонам рассовали, по товарным, в которых прежде скот возили. Под ногами навоз, ни сесть, ни лечь никакой возможности, понятно. Теснота такая, что и захочешь упасть, так не упадешь. Наглухо вагон законопатили – ни единой дырки не оставили. Повезли, несколько дней катали, покуда человек пятнадцать наших от воздушного недостатку, от ран да от мытарства не померли. Так и стояли впритирку к друг другу, нужду натуральную стоя и справляли… в фуражки, портянки, а то и в рубахи, которые после сквозь щель обнаруженную выкинуть пытались. В обморок часто падали от вони, что в том вагоне была, не приведи Господь…
– Ну а дальше?
– А дальше привезли нас в лагерь, Альтенграбов, что ль, но поначалу не в нем поселили, а рядом, на болоте, под открытым небом. Вырыли мы там себе землянки, а сами ободранные, тощие. Немцы же тревоги устраивать любили: подадут команду в землянке спрятаться, и тут же из пулеметов по болоту жарят. Худо голову укрыл – вот и отплясал.
– А зачем же вас… на болоте?
– Не ведаю, зачем, – усмехнулся Левушкин и зачем-то потрогал свой шрам. – Герману оно виднее было, где нас содержать. Вскорости, правда, перевели в бараки… тех, кто тревоги ихние пережить сумел. Ну, а бараки-то те и не бараки вовсе были, а конюшни, но нам-то они опосля болота раем показались – сверху хоть не текло. Кормить нас там малость стали, картофелинки дадут, хлебца когда, селедки ржавой. За то им спасибо, но в наказаниях больно зверски были. Чуть не так посмотришь на охранника, тут же за обиду сочтет и прикладом двинет, да так старается попасть, чтоб в голову непременно, в лицо. Штыками тоже баловать любили. Кого и приколют, озлясь, порядку ради, кого изувечут просто. Одному нашему задницу всю штыком искололи, мне же – щеку пометили…
– А за что?
– Кто его знает, за что. В точности причину передать не сумею. Кажись, показалось конвойному, что невежливо поглядел я на него, вот он и разобиделся – штык из ножен вынул да по лицу-то меня и полоснул. Чаю, до смерти убить хотел, да ловкости маленько не хватило.
Лихунов уже не перебивал канонира возгласами удивления или негодования, а лишь слушал Левушкина, разговорившегося вдруг, словно испытывавшего какое-то мучительно-сладострастное удовольствие, оттого что видит, как страдает сидящий перед ним его бывший командир, барин, офицер, слушая эти страшные рассказы о чужих страданиях.
– А о том, как к столбам нас подвешивали, разве не слыхали, ваше сыкородие?
– Нет, Левушкин…
– Ну так энто пострашней битья мытарство. Привязывали они нас к столбам за провинность самую малую на два и даже на четыре часа, как им похочется. Обмотают веревкой туго-туго так, что висишь ты на столбе в нескольких вершках от земли всего и ногами о нее опереться никак не можешь. Полчаса висишь – ничего, а час провисев, тела своего уже не чуешь, и в глазах темно, и выть от боли охота благим матом, и не то что не рад, что на свет Божий явился, а даже смерть зовешь, потому как ужасней пытки той сам Сатана не выдумал, наверно. Хорошо еще, если в обморок впадешь – счастлив! – а то висишь до посинения, до того, покуда изо рта да из ушей кровь хлестать не начнет. А германцы, бывало, еще и кирпичей тебе к рукам подвяжут, чтоб поболе приятности тебе добавить.
– И ты висел?
– Висел, ваше сыкородие, – равнодушно ответил Левушкин и, внимательно смотря на Лихунова, еще долго рассказывал ему о своих и чужих мытарствах в германском лагере Альтенграбов.
– Ну, а здесь-то ты давно ль? – спросил Лихунов тихо, внезапно ощутив острое желание прекратить рассказ о человеческих страданиях, – он неожиданно для себя мучительно переживал перенесенную посторонними ему людьми страшную боль и унижение, которые за полчаса, покуда длился рассказ канонира, истерзали немилосердно словно и его самого.
– А всего-то неделя, как перевели меня сюда. Считай, повезло, что в ахфицерский лагерь попал и в услужение к своим, русским, назначен. А то ведь могли и в Альтенграбове сгноить али на руднике каком, где наших немало мается, али к германскому помещику в работы отдать, где русских что скотину содержат. Здеся-то прелесть, отдыхаю! – похлюпал коротеньким носом Левушкин с каким-то удовлетворенно-плотским смешком, сильно не понравившимся Лихунову.
– Значит, нравится тебе быть у нас в услужении?
– Еще как нравится, ваше сыкородие! – с откровенностью согласился Левушкин. – Ни в какое сравнение прежнее мое житье с теперешним не идет. Малость, чую, крепнуть стал, а то ведь шкелет один Левушкиным назывался. Здеся ничего, жить можно, только б не сильно германцы приставали с предложениями разными непотребными…
– Какие это предложения?
– А разные… всякие…
– Ну а все-таки?
– Да вот все просют, грозят даже, чтоб шпионил да обо всем, что в бараках офицерских услышу али увижу, им в точности и передавал…
– Ну а ты не соглашаешься?
Вопрос этот, видимо, Лихунову задавать не нужно было – Левушкин посмотрел на офицера с укоризной, пошмыгал обиженно своим коротким носом.
– Совестно вам должно быть спрашивать такое, ваше сыкородь. Али я извергам этим своей охотой помогать начну? Впрочем, охотников для дела такого хватает – поляки да евреи некоторые, те с охотой берутся… Вы, ваше сыкородь, осторожней будьте. Слыхал я, что в бараке вашем ахфицер один есть, который германцами куплен, доносителем у них…
– Да откуда ты знаешь, в каком я бараке? – удивился Лихунов и неловко пошутил: – Или, может быть, тебе тот офицер донес?
– Нет, не он, – серьезно сказал Левушкин, – видел я, как выходили вы из того барака, следом за вами пошел, ждал, покуда из бани выйдете…
Лихунов хотел было спросить у Левушкина, не знает ли он в лицо того шпиона, но не успел – немецкий солдат вдруг неожиданно вырос перед ними, сидящими на скамейке рядом с ящиком для окурков. Это был дородный рыжий унтер-офицер, державший винтовку в руках, словно предполагая, что она ему может пригодиться. Он выпятил вперед нижнюю губу, красную и мокрую, и, осуждающе покачивая головой, проговорил, смешно коверкая русские слова:
– Я смотреть на вас полчаса. Вам что, нечего делай? Германский человек не теряй времени – русский ленивый, он сидит полчаса говорить глупости!
Лихунов, не вставая, хотя испуганный Левушкин тут же вскочил и в струнку вытянулся перед унтером, сказал по-немецки:
– Это касается только нас, как долго нам сидеть и разговаривать. Распорядок лагеря мы не нарушаем.
Унтер, как видно, бывший рабочий или крестьянин, то есть подневольный, почти лишенный прав человек, только в армии добившийся звания, приобретший чувство собственного достоинства через возможность управлять другими, приумножив достоинство свое здесь, в лагере, среди униженных людей, поначалу испугался, услышав спокойный тон человека, который должен был ему лишь беспрекословно подчиняться. Унтер смотрел на Лихунова, сидевшего в простой солдатской шинели, видел его помятую, потрепанную внешность и никак не мог понять, как смеет этот рядовой, да еще военнопленный, отвечать ему сидя (хоть и по-немецки) и так презрительно-спокойно. Не увидев в наглеце ничего офицерского, – погоны Лихунова были спрятаны в карман, да и может ли офицер так долго беседовать с солдатом! – унтер, выбрасывая из своего луженного шнапсом горла слова вместе с горьким перегаром, вдруг хрипло заорал, замахиваясь на Лихунова прикладом:
– Вста-а-ать!! – кричал он по-русски, словно не желая унижаться до разговора с пленным на родном языке. – Молча-а-ать!!
Лихунов резко поднялся, но вовсе не потому, что спешил исполнить приказание, а просто потому, что хотел предупредить удар и встретить его стоя. После того что рассказал ему Левушкин, он был уверен, что немец непременно его ударит. Но Лихунов также был уверен и в том, что немцу удастся сделать всего лишь один удар, – каким бы ни был он слабым, заметалось в голове у Лихунова, он вырвет оружие из рук охранника и станет бить окованным прикладом по этой гнусной, гадкой роже, роже врага, ненавистного, кровожадного, не имеющей ничего общего с лицом обыкновенного, нормального человека. Но между ним и немцем вдруг кинулся Левушкин. Бывший канонир бросался поочередно то к Лихунову, то к охраннику, умоляя:
– Выше сыкородие, да опомнитесь, с кем связались, да убьют они вас и на офицерство ваше не посмотрють! – И тут же тряс винтовку охранника, силившегося вырваться: – Ваше благородие, господин германец, смилостивись ты, не губи душу! Офицер это, контуженный сильно, сам не знает, чего творит! Больной он, лечить его надо, психованный он маленько! Пощади!!
Немцу в конце концов то ли сильно надоела вся эта возня с сумасшедшими русскими, то ли он на самом деле смекнул, что нагрубивший ему солдат и не солдат вовсе, а офицер, и могут выйти пусть мелкие, но все же неприятности, он напоследок еще раз замахнулся на Лихунова прикладом винтовки, потом аккуратно заправил ее себе за плечи и пошел прочь, хозяйски посматривая по сторонам.
А Лихунов, не прощаясь с Левушкиным, побрел в свой барак. Он совершенно не радовался тому, что смог достойно ответить немцу. Он ненавидел, проклинал сейчас этот мир, способный терпеть богопротивную гадость, этот лагерь, этих немцев, эту войну и его самого, униженного, замаранного войной.
Он шел по чистым, устланным белым песком дорожкам, и неподалеку хрипло надрывался граммофон, назойливо рассказывавший пленным о прекрасном голубом Дунае.
ГЛАВА 24
Но как ни страдало сознание Лихунова, томясь унижением плена, заботы о теле, необходимость спасти его, хотя бы для того, чтобы еще раз увидеть Машу, составляли почти весь его досуг. Он скоро привык к скудной, дурной пище, к грубости охранников, к собакам, стенам, к колючей проволоке – во всем этом хоть и крылся источник постоянных унижений, но сильная надежда на то, что его как раненого скоро смогут отправить в Россию, питала силы Лихунова. Он писал Маше и ждал от нее ответа, и ожидание тоже сильно грело его холодное сердце, а вечерние беседы, которые ежедневно собирали в их просторной комнате всех обитателей барака, заставляли даже забывать о плене. Немцы, как видно, нарочно разрешали эти сборища, потому что надеялись с помощью своих шпионов вернее узнать о лагерных настроениях, а разговоры эти порой действительно бывали жаркими. Много говорили о Новогеоргиевске, досконально разбирали все действия командования крепости, тактику врага, подсчитывали шансы на оборону и на сдачу, но часто разговоры были отвлеченными, говорили о войне германской и о войне вообще, и лишь только речь заходила об этом будоражащем всех предмете, Лихунов тут же умолкал, старался укрыться где-нибудь в углу, в тени, где его никто бы не увидел, не попытался втянуть в спор, в котором, Лихунов догадывался, он был бы совершенно беспомощным.
– Господа! – возглашал Тимашев своим молодым, звонким голосом штабного адъютанта. – Неужели так трудно вам понять, что все войны суть недоразумения, политические, дипломатические неловкости, которых можно избежать вполне, будь у кормила власти искусные, тонкие политики!
– Вроде твоего Бобыря! – язвил кто-то.
– Да послушайте вы! – петушился поручик. – Послушайте! Вот взять, к примеру, франко-германскую войну! Ее вполне бы можно было избежать, пойди Эмиль Оливье в законодательное собрание тотчас по получении телеграммы князя Карла Антона Гогенцол-лерна, заявившего от имени своего сына, наследного принца Леопольда, отказ от прав на испанский престол. В законодательном же собрании Оливье должен был заявить примерно следующее…– и Тимашев с удовольствием докладывал лежавшим и сидевшим офицерам то, что не сказал собранию Эмиль Оливье. – Но он оказался дураком, этот Оливье, и поэтому между двумя цивилизованными нациями случилась гадкая, злая война, вот так вот!
На Тимашева многие замахали руками, насмешливо фыркали, но некоторые отнеслись к его речи вполне серьезно:
– А скажите, поручик, нынешней войны тоже могло бы не быть? Ее тоже… ну, как бы это выразиться, средствами дипломатии предупредить было можно?
– Ну конечно! – обрадовался Тимашев вниманию к своей теории. – Если бы немцы заявили Вене, что они не допустят разрыва отношений между Австро-Венгрией и Сербией прежде, чем сами не изучат сербского ответа на австрийский ультиматум, то Австрия на свой страх и риск ни за что бы не согласилась выступать. Германия также могла передать все спорные пункты ответа на рассмотрение Гаагского трибунала, вот и все! Но в Германии не было в то время умного канцлера. Не уйди с поста Бюлов, не получи пост глупый Бетман-Гольвег, который войной с Россией хотел утихомирить социалистов, теперешнего безобразия бы не случилось!
Многие смеялись, но находились и те, кто сочувственно молчал.
Разговор о войне ненадолго прервался красивой декламацией:
Так под высокою сенью Менетиев сын благородный
Рану вождя врачевал Эврипила; но битва пылала…
Декламировал стихи из «Илиады» молоденький прапорщик Жемчугов, субтильный, тонкорукий мальчик с большими голубыми глазами. Про него говорили, что в гимназии он задался целью выучить наизусть Гомера, но его голова не выдержала нагрузки и он немного помешался. Судя по тому, как он свободно цитировал стихи «Илиады», можно было поверить в то, что Вася Жемчугов осуществил свое намерение, но умственные способности юноши действительно были неудовлетворительными – он всегда декламировал невпопад и не к месту.
А спор о причинах войны становился все горячее, все большее количество ораторов спешили высказаться.
– Поручик, вы говорили сейчас е-рун-ду! – густым, смоляным баритоном решительно заявил капитан Храп – мужчина, имевший торс Геркулеса и бритую голову брамина. Это он вручил Лихунову в день его прибытия в лагерь керосин и обмылок, это именно он, вспомнил Лихунов, играл своими бугристыми мышцами, делая упражнения с гирями, на сцене офицерского собрания в Новогеоргиевске, что так не понравилось Лихунову. – Чушь, чушь собачья все твои неловкости дипломатические! Посмотри на людей, мальчик! Человек, по Дарвину, всякое действие свое определяет как направленное на сохранение себя как вида или особи, не знаю, как лучше выразиться, а война – это внешнее выражение нашей неприязни к тому, кто непохожестью своей грозит нам уничтожением!
– Да в чем же непохожесть, в чем! – с гримасой сожаления перебивал Тимашев Храпа. – Все мы люди-человеки!
– Человеки, да не такие! – парировал Храп, подходил к стулу, на котором сидел Вася Жемчугов, и, вцепившись руками в ножки, начинал медленно поднимать изумленного, но молчавшего Васю вместе со стулом, между тем не переставая говорить: – Француз – человек, и германец – человек, русский тоже на человеческий облик претендует, но все они к тому же хотят продолжать оставаться французами, германцами, русскими, а в этой-то непохожести весь корень зла и сокрыт! Возможно, когда-нибудь мы все будем именовать себя лишь Человеками Земли, и вот тогда-то не нужно будет бояться посягательства со стороны другого, на тебя непохожего. Пока же, – взгляните на историю, – человечество только и знает, что воевать! Боже, извини, сколько крови пролито во всех войнах! Если ее собрать, то случится всемирный потоп!
Храп, казалось, сильно радовался тому, что было пролито так много крови. Он перестал поднимать прапорщика, зачем-то расстегнул почти до пояса свою рубашку, словно ему было жарко, и, проведя рукой по бритому черепу, горячо продолжил: – Ну а хоть бы и война, так что ж нам теперь, скулить подобно институткам? Сопли от страха глотать, Господа Бога молить пронести мимо нас испытание это? Не-е-т, не будем мы сопли глотать! Фельдмаршал Мольтке Старший говорил, что война – это составная часть Богом установленного порядка! Она развивает благороднейшие качества человека: мужество, преданность общему делу, дух самопожертвования! Если бы не было войн, мир разложился бы в гниении и погряз бы в грубом материализме! В конце концов, война предупреждает неумеренное увеличение населения, которое и без войны стало бы уменьшаться от неимения средств к существованию, но только медленно, мучительно медленно! А разве можно сбрасывать со счетов, что война ускоряет технический прогресс? Вот и говорите вы потом, что войны вредны и противны природе человека! Нет, господа, они полезны, и мы, профессиональные военные, самые полезные и наинужнейшие в человеческом обществе люди! Давайте воевать, друзья!
Храп высказывал свои взгляды на войну неоднократно, и многие воспринимали его ужасные фразы, циничные и неуместные, как грубое позерство, желание блеснуть оригинальностью, поэтому лишь только смеялись, но другие воспринимали их буквально, начинали возмущаться, оспаривали, ругали Храпа, некоторые спешили уйти, но находились и такие, кто поддерживал геркулеса-капитана, который в чрезвычайно хорошем настроении, словно и не в плену он вовсе был, расхаживал по комнате, хлопал офицеров по плечам и спинам, предлагал пощупать бицепсы, а потом, совершенно обнахалившись, громко заявил:
– Господа! Все эти наши русские философствования знаете от чего проистекают? Да оттого, что здесь нет хотя бы одной хорошей бабешки. Была бы она среди нашей честной компании, мы бы, уверен, не языками бы чесали, а… Впрочем, умолкаю, хотя как, господа, не хватает в этом проклятом лагере дам! А знаете ли вы, что все дамы делятся на дам и на дам, да не вам? А? Не знали разве об этом, господа?
Кое-кто из офицеров начинал громко ржать, а Васенька Жемчугов сильно краснел и спешил продекламировать:
Сердца и сим моего не преклонит Атрид Агамемнон,
Прежде чем всей не изгладит терзающей душу обиды!
Лихунову сильно не нравился капитан Храп. Возможно, сила его, не растраченное в бою здоровье, какое-то ребячье ухарство, любование телом своим, совсем не послужившим там, где так была необходима его мощь, как-то бессознательно терзали самолюбие изуродованного войной Лихунова. Но больше всего раздражали его циничные речи о войне, так ненавидимой Лихуновым. Но страшнее всего было то, что в этих взглядах на войну была какая-то схожесть с его убеждениями, схожесть едва уловимая, но все равно говорящая Лихунову о его собственном заблуждении.
Капитану Храпу пытался вторить голубиный поручик Раух. Он тоже оказался в Нейсе и жил в соседнем бараке. Встретившись с ним, Лихунов хотел было пройти мимо, но Раух остановил Лихунова и долго, со слезами на глазах стал рассказывать о своем горе, о том, как вражеским снарядом была разрушена вся его голубятня, и птицы частью погибли, а часть разлетелась. Лихунов слушал Рауха, чувствовал запах голубиного помета, исходивший от него, и, к своему удивлению, не раздражался, не спешил уйти, а даже сочувствовал его беде. И Раух, с привязчивой душой всюду и всеми гонимого и нелюбимого человека, стал бывать в бараке, где жил Лихунов, довольно часто, приходил, укрытый старой тряпкой-пледом, и всегда старался вставить свое слово.
– Нет, господа, – говорил он с идиотской улыбкой, – в словах господина капитана много, много правды. Ну что худого в войне, да еще в такой, с таким врагом? Да это же одна честь для нас воевать с Германией, господа! Когда они Новогеоргиевск осаждали, я даже слышал, как шумели надо мною крылья дев-воительниц Валькирий, несших погибших воинов в Валгалу! Так ведь и над нами всеми они порхали! О, с каким народом мы воюем! Среди них – каждый рыцарь, Зигфрид, Гильдебрандт! Что за великий народ, народ, породивший идею Фауста, идею сверхчеловека! «Что такое добро? – спрашивает Макс Штирнер. – Что такое зло? Ведь мое дело, моя цель – это я сам! Я – вне добра и зла! Ни то, ни другое не имеет для меня никакого смысла! Я сам – единственный!» Ну что за народ, господа, эти немцы! Ведь никакой другой народ не смог подарить нам Ницше, сказавшего: «Война и мужество совершили больше добрых дел, чем любовь к ближнему! Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных!» Какие справедливые слова! А музыка у них какая! Дикая, адская музыка! От нее выть, стонать охота! Когда я слушаю вступление к «Тангейзеру», мне кажется, что начинаются Сумерки Богов! Огромная, огромная честь воевать с таким народом, господа!
Но если в словах Храпа еще была какая-то логика, то Раухом, все понимали, владело лишь болезненное чувство, извращенное и неразумное. На него шикали, ему смеялись прямо в глаза, другие негодовали, называли его предателем, кое-кто пытался втихомолку сунуть ему под ребра кулак, шепнуть ругательство, и он обычно сильно обижался, закутывался в свой плед и или скрывался где-нибудь в углу, или попросту уходил, сопровождаемый насмешками и издевками.
Лихунов часто видел в числе участников их вечерних бесед штабс-капитана Васильева. Пожилой офицер жил в том же бараке и, встречая Лихунова, отворачивался и старался будто не заметить, но когда это ему не удавалось, здоровался с натянуто-просящей улыбкой, и Лихунов, не понимавший поведения штабс-капитана, всегда оставался недоволен этими встречами, словно ему постоянно напоминали о чем-то стыдном, непристойном. Во время споров он все время ждал того момента, когда начнет говорить Васильев, – Лихунов все еще не мог забыть того страстного монолога, произнесенного на реке, в котором штабс-капитан обвинял его в холодности. Но теперь, – и это было очень странно, – Васильеву будто и нечего было сказать о том, что так будоражило всех, – о войне. Васильев смущенно подергивал себя за узловатые толстые пальцы, чему-то улыбался и был равнодушен к речам даже таких радикалов, как Храп и Раух.
Зато однажды заговорил тот офицер, лица которого Лихунов вначале хорошенько не разглядел, – глаз видел все хуже и хуже, – однако голос его показался Лихунову знакомым:
– Господа, хотелось бы высказать еще одну точку зрения…
Да, сомнений быть не могло – среди пленных офицеров находился Развалов, и Лихунову, хорошо помнившему их разговор у стен форта, рядом с которым он потом сражался, вдруг сильно захотелось услышать, что скажет инженер.
– Господа, существует мнение одной политической организации, которому я сочувствую. Суть этого мнения в том, что войны порождаются хищнической природой империализма, стремящегося из всякой войны получить экономическую выгоду, то есть стяжать капитал. Та же организация полагает, что уничтожение частной собственности и передача ее в руки народа способна ликвидировать основную причину войн,– Развалов спокойным, чуть насмешливым взглядом оглядел собравшихся офицеров. – Когда государством управляет народ, не остается места для стяжания богатств посредством захватов военной добычи. Вот такая нехитрая теория. Что думаете по этому поводу, господа?
Некоторые офицеры, конечно, с идеями социалистов были знакомы и имели свои мнения на этот счет, поэтому в ответ Развалову тут же послышались реплики, одобрительные и те, что выражали сомнения, однако резких возражений не было, – многим теория социалистов казалась попросту утопией, несерьезной и не стоящей долгого обсуждения.
Лихунов слушал Развалова с волнением. Его сознание, измученное постоянными думами о войне, ломавшими постепенно его старые убеждения, с которыми расставаться было непросто, покалеченное еще смутным предчувствием неправоты, воспринимало нервно и чутко все, что напоминало ему несчастную защиту Новогеоргиевска.
– Позвольте у вас спросить, – неожиданно тонким, чужим, надтреснутым голосом начал Лихунов, не вставая со своей койки, на которой сидел рядом с двумя офицерами, – позвольте спросить, а каким же образом собирается ваша организация осуществить это самое уничтожение собственности?
Развалов повернулся в сторону Лихунова и, по-видимому, сразу же узнал его, несмотря на повязку, скрывавшую пол-лица. Инженер почти не изменился – был так же дороден и по-гвардейски могуч и молодцеват.
– Организация эта, – улыбаясь, ровным, уверенным тоном сказал Развалов, – собирается осуществлять уничтожение частной собственности посредством экспроприации.
– Ага! – нервно передернул плечами Лихунов. – Значит, попросту отняв эту собственность у отдельных лиц и передав ее во владение общинное или коллективное, как там у вас?
– Совершенно верно, – кивнул Развалов.
– Ну а скажите, каким же образом можно начинать созидание вечного мира с войны? Ведь эти самые отдельные собственники с имуществом своим расстаться, понятно, не захотят!
– Да, не захотят, конечно, – перестал улыбаться Развалов, увидев, как взволнован Лихунов. – Но тем, кто собирается строить новый мир, лишенный всякого рода насилий и войн, поневоле придется пойти на эту последнюю, возможно, кровавую и беспощадную войну.
– Стало быть, вы что же, кровь эту соплеменников ваших на алтарь прекрасного общества вашего пролить хотите?! – уже с яростью, непримиримой, страстной спросил Лихунов. – А не велика ли цена?! А может быть, вы и после, с этой крови начав, во имя цели благой всех не согласных с идеей вашей безо всякого сомнения на тот свет отправлять станете? Да, уверен, что так и будет, потому что общество ваше, с самого начала войну как цель за собой утвердив, и дальше не постесняется этим средством пользоваться – нравственного-то запрета у вас уже не будет. А вы нам говорите, что общество ваше прекрасное все войны враз запретить сумеет. Нет, милостивый государь! Оно, прежде чем себя утвердит, еще немало крови прольет!
– Вы не правы, Лихунов, – глухо, смущенно сказал Развалов, но Лихунов словно и не расслышал его слов.
– А теперь из области теорий к практике перейдем, господин подполковник. Вы мне и вот товарищам нашим ответьте – вы к организации той, чьи идеи нам сейчас излагать изволили, какое касательство имеете?
Развалов рассмеялся здоровым, крепким смехом:
– Вы считаете вправе задавать мне такой вопрос?
– Да, считаю! – сорвался на крик голос Лихунова. – Там, у форта номер пятнадцать, где погибла вся моя батарея и где я потерял глаз, вы, помнится, высказывали мысль, что Новогеоргиевск в условиях предстоящей изоляции лучше всего было бы сдать немцам, эвакуировав гарнизон. Вы говорили мне это или нет?! Прошу ответить прямо!
– Да, кажется, я говорил что-то в этом роде, потому что был уверен в безрезультатности обороны. Я ведь видел…
– Позвольте, позвольте! – перебил Развалова Лихунов. – Я, помнится, тогда с вами больше и разговаривать не стал, к своей батарее поехал, а приехав, узнал о том, что среди личного состава дивизиона нашего какой-то… провокатор уже успел распространить листовки с призывами брататься с неприятелем и с предложением повернуть оружие против тех, кому материально выгодна война, то есть против тех, собственность которых, по теории вашей, и собирались вы экспроприировать. Скажите, получается, что вашей партии листовки читали артиллеристы?
– Предположим, – холодно сказал Развалов. – Я, правда, той листовки не читал.
– Ах, не читали! – усмехнулся Лихунов, который говорил уже с большим трудом – страшно заболел поврежденный висок. – А мне-то думается теперь, что именно вы и были одним из авторов ее и агитировали как меня, так и моих артиллеристов, готовя крепость к сдаче! Да как могли вы, здравомыслящий штабс-офи-цер, решиться на чистой воды предательство? Как могли вы или ваша партия звать нас, русских, брататься с этими извергами, лишенными человеческого облика? Да, теперь я понимаю: вы, подполковник, – предатель! Вы один из тех, кто помог сдать крепость немцам! Вас попросту следовало бы расстрелять, а не давать возможность продолжать агитацию!








