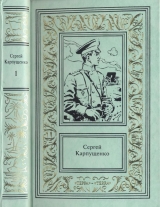
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА 13
Когда Маша вышла из госпитальных ворот, уже смеркалось. Одета она была все в то же платье сестры милосердия, но Лихунов заметил сразу, что ее губы были немного подкрашены, а на руке, которую она ему протянула, блеснул перстенек с каким-то камушком. Девушка казалась смущенной, и Лихунов подумал, что Маша отчего-то стесняется своего простого платья, но, когда они двинулись вперед по улице, она вдруг нервно рассмеялась и сказала:
– Я собиралась к вам, и мои товарки, конечно, сразу догадались, смеяться стали. И старшая сестра заметила тоже, сказала, что лучшие госпитали это те, в которых работают старые или некрасивые сестры милосердия.
Лихунов почему-то промолчал, хотя прекрасно понимал, зачем сказала ему это Маша. Он был взволнован – эта красивая женщина шла сейчас к нему домой, и возможная близость с ней, бесконечно желанная, заставляла его, совсем не ветреника, клявшегося когда-то быть верным покойной жене, пугаться, негодовать на себя. К тому же он знал, что расскажет сейчас этой девушке свою тайну, а поэтому боялся неприязни Маши, боялся, что неприязнь эта оттолкнет, испугает ее, и девушка отшатнется, уйдет навсегда. Мог ли знать Лихунов, что Маша уже дала себе клятву любить его до конца своих дней, а поэтому ничто не сломало бы в ней огромное чувство, сотворенное силами ее заждавшейся женской природы, надежно скрепленное ее особенным женским умом, заставившим сердце напрячься долгим, спокойным безумием.
К домику, в котором квартировал Лихунов, они подошли, когда белые стены его уже совсем почернели. В прихожей возился Игнат, и Лихунов нарочито строго (о чем потом пожалел) бросил ему на ходу:
– Самовар разогреешь – мне стукни.
В крохотной комнатке Лихунов долго зажигал свою походную керосиновую лампу, не давая возможности свету проявить сильное смущение Маши, о котором догадывался. Но когда фитиль украсился плоским язычком пламени и темень комнаты сжалась, опустившись на стены угловатыми тенями, Лихунов посмотрел на девушку, продолжавшую стоять посреди комнаты, и увидел, что на лице ее не было ни капли смущения – одно лишь спокойное величие.
– Где можно сесть? – просто и смело спросила она.
Лихунов указал на стул, стоявший возле стола.
– Здесь садись, – сказал он, понимая, что иначе говорить он сейчас не должен.
Маша, расправляя платье, уселась, обвела взглядом стены комнаты:
– Какая бедная обстановка. Так, должно быть, жил пушкинский Германн.
Лихунов стоял на противоположной стороне комнаты, опустив руки и не зная, что дальше делать и о чем говорить.
– И Наполеон, когда служил в артиллерии, жил точно так, – сказал он тихо, чуть помедлив.
Маша испугалась: «Господи Боже. Неужели и он?…» Она пригляделась к мужчине – стройный, с головой, посаженной на крепкую шею, со светло-русыми, чуть вьющимися волосами, такого же цвета густые усы, мягкие губы и большие, но глубоко посаженные глаза. В лице его, строгом и по-русски мягком одновременно, не увидела она ничего наполеоновского или черт того, кто мечтал бы о его карьере.
– Не бойся, – сухо сказал Лихунов, заметив, что Маша жадно смотрит на него, – я в Наполеоны не мечу. Наоборот, всю жизнь свою ненавидел я их и презирал, да, презирал! – жарко произнес он последнее слово, будто страшась, что ему не поверят.
Но Маша поверила ему сразу и радостно закивала:
– Нет, что ты, Костя, я и не думала, хотя… хотя, когда ты тогда про войну говорил, про то, что она нужна…
Она не договорила, а Лихунов, засунув руки в карманы брюк, стал быстро ходить из угла в угол своей маленькой комнаты, бросая на ходу слова:
– Вот, вот, об этом и хотел я с тобой поговорить! Господи, Маша… Машенька, да я же с ума сойду, не вынесу, если не расскажу тебе всего… того, что тут, тут, – он ударил себя в грудь несколько раз, – тут живет!
Маша встала, но головы в его сторону не повернула, а стояла, опустив ее.
– Но я затем и пришла к тебе, чтобы ты рассказал.
Лихунов как будто и не заметил ее слов, а, потирая лоб, продолжал ходить по комнате.
– Знаешь, – говорил он как-то воодушевленно, приподнято, – я с детства самого хотел быть военным, артиллеристом быть хотел. В нашем роду еще от Петра Великого все мужчины в военную службу поступали, до генералов, правда, не добирались, но полками командовали. Вот и я… поступил в училище Михайловское… Способности у меня отличные – по всем предметам, особенно же по тем, что для моей профессии нужны были, успевал, одним из первых был. Все мечтал на деле, в поле их применить, и вот довелось. Женился я рано очень, двадцати лет, в Петербургском округе служил после окончания училища, с семьей жил, а тут война японская. И вот, представь… – Лихунов остановился и опустился на стул, словно не в силах стоять. – В первом же бою – при Вафангоу, помню – кошмар этот так меня поразил, так поломал у меня внутри что-то, что я… убить себя хотел даже. – Лихунов остановился, взглянул на Машу, словно спохватившись и поняв, что говорил очень стыдные вещи, но, пересилив себя, продолжал: – Нет, я не крови тогда испугался – к ней я был готов, и не смерти своей испугался – исход такой я давно предполагал, я людей тогда испугался, звериной их кровожадности, ярости, с которой бросались они тогда друг на друга, забыв, что перед ними люди и что они сами – тоже люди. Знала бы ты, Маша, как я тогда войну эту проклятую возненавидел, для которой так хорошо подготовлен был, служить которой хотел до гроба. Да что же это, думал я тогда, после боя, столкнуло здесь два народа, не получающих от этого безбожного взаимного кровопускания, бойни этой, ничего, кроме несчастий, ран, лишений, смерти, обездоленных детей и жен? Кто, какие расчеты политиков, национальные, государственные интересы могут оправдать этот кошмар? Ох, как долго думал я тогда и твердо понял, что никакого оправдания вселенской такой жестокости, когда самый добрый человек с радостным криком штыком начинает выворачивать внутренности из тела упавшего противника, быть не может! – Лихунов прокричал последнее слово, но тут же осекся, испугался собственного крика, испугался того, что может показаться смешным. – И вот, вернувшись в Петербург, – заговорил он уже совсем тихо, – я узнаю о страшной кончине жены и дочери… Знала бы ты, что тогда со мной было. Нет, я не кричал, как кричу сейчас, не рвал на себе волосы, я только тихо ушел в себя, потерял интерес ко всему, опустился даже, а внутри меня словно стрекот хорошего хронометра, все стучала и стучала мысль – а не будь я на этой проклятой войне, так и потонули бы они…
Лихунов замолчал, а Маша, тоже присевшая на стул, взяла его руку в свои ладони и еле слышно сказала:
– Костя, я буду тебе хорошей женой.
Но Лихунов как будто не расслышал ее слов и высвободил свою руку из ее ладоней.
– Нет, ты дослушай, дослушай до конца!
– Да, да, я слушаю тебя, милый.
Лихунов раскрытой ладонью провел по своему измученному лицу и продолжал:
– С тех пор я извелся просто, все думал, что же может прекратить ужас этот, войны. Службу военную я не оставил, но стал много читать, все пытался понять, отчего происходят войны и как избавиться от них. И, знаешь, я понял наконец, что войны тогда на нет сойдут, когда какая-нибудь новая, самая страшная война не убедит народы в том, что воевать безрассудно. Не негуманно, заметь, а безрассудно, глупо. Но для этой цели, я знал, нужна такая война, которая буквально потрясет человечество своей кровожадностью, жестокостью, причем бесполезною, где нет победителей, где все оказываются побежденными. И вот в прошлом году началось…– Лихунов снова умолк, и Маша видела, что сейчас он должен будет сказать ей именно то, что так мучило его. – Знаешь, когда это началось, я сразу понял, что война эта будет той самой ужасной кровавой бессмыслицей, которая откроет людям глаза… на них самих. О, ты бы знала, насколько в курсе всех приготовлений Тройственного союза и Антанты я был! Я знал о каждой новой системе орудий, появлявшейся у них и у нас, и я понимал, что человек наконец подошел к тому рубежу, дальше которого идти он уже не может, если не хочет быть истребленным поголовно! Да, я верю, что эта война будет последней, потому что такого кошмара, как сейчас, не происходило никогда! Окопы, укрытия буквально сравниваются с уровнем земли, все – человеческие тела, камни, песок – перемешивается в одну сплошную, пропитанную кровью кашу. Я ходил по земле, где в небольших канавках кровь натекала и скапливалась до глубины полуаршина. Взрыв сорокадвухсантиметрового германского фугаса превращал в совершенную пыль целое отделение солдат. Разве все это не должно остановить людей, когда им захочется играть патриотическими амбициями? О, но это еще далеко не все! Война должна день ото дня становиться все страшнее, в нее должны втягиваться все новые и новые государства, мир заключать недопустимо! Заключение мира – равносильно объявлению новой войны! И самое главное, – Лихунов остановился с широко открытыми глазами, – самое главное, что я сам, ненавидящий войны, убийства, вражду, страстно желающий мира, делаю сейчас все наоборот, я… убиваю и знаю при этом, что чем больше я убью людей, тем более значительный я внесу в этот ужас вклад, тем значительней работу произведу я на благо будущего мира… вечного уже…
– Господи, да что ты такое говоришь! – воскликнула Маша со слезами на глазах, но Лихунов резко ее остановил:
– Нет, не перебивай! Дослушай! И вот я, командир батареи, с шестью прекрасными орудиями, лучшими в Европе полевыми орудиями, с прекрасно знающими свое дело людьми противостою целому полку и способен убить половину этих хорошо вооруженных, сытых и смелых солдат за каких-нибудь полчаса. Разве это не страшно, Маша? – спросил он шепотом.
– Страшно, – тоже шепотом ответила Маша, по лицу которой тихо текли слезы.
– Да, это страшно, на самом деле страшно, тем более что я ненавижу убивать. Но куда же мне деться от себя, от страшной, жестокой необходимости быть совсем другим, делать себя убийцей, когда желаешь для людей вечного мира? Но… я буду, буду убивать, потому что война эта должна быть кошмарно страшной, и тогда только она последней будет!
Они сидели молча друг против друга минуты три, и слышно было, как за стеной храпел поручик Раух, должно быть, мертвецки пьяный, как пробили одиннадцать раз часы на крепостной башне. Где-то в щели назойливо верещал сверчок, а под полом шебуршала беспокойная мышь. Лихунову сильно хотелось пить, но он не слышал, что Игнат уже трижды стучал в дверь, осторожно, робко предупреждая о готовности самовара.
– Когда ты рассказывала о гибели своего отца, – продолжил Лихунов, и Маша заметила, что голос его посветлел – наверное, он уже сбросил большую часть своей тяжкой ноши, – я, – и прости меня, – слушал об этом с каким-то особым удовольствием. То, что сделали они у вас в городке… все это было нужно. Потом мой подчиненный пленного австрийца застрелил, а я стоял и наблюдал, потому что что-то говорило мне тогда – так надо. И вот вчера я сам убил человека и, странно, ничуть об этом не жалею. Все это совершающееся сейчас зло необходимо, оно уже прокладывает путь для будущего мира. Но, знаешь, сегодня меня допрашивал военный следователь, подлец и очень глупый человек, но он, мне показалось, догадался. Сказал мне, что я недостоин быть защитником отечества. Не знаю, что бы было со мной, если бы меня на самом деле отстранили от командования.
Маша, сидевшая за столом со сцепленными руками, вдруг неожиданно строго попросила:
– Дай мне папиросу. Иногда я курю. Сейчас мне надо.
Лихунов удивился, но скорее не тому, что девушка попросила закурить, а ее жесткому тону. Он достал портсигар, открыл и протянул его Маше, которая дрожащими пальцами вытащила папиросу и, прикурив, стала жадно втягивать в себя дым. Теперь она казалась Лихунову очень похожей на ту строгую девушку, которая рассказывала ему о смерти своего отца.
– То, что ты мне рассказал сейчас… на самом деле ужасно, – сказала Маша, не глядя на Лихунова, – ужасно потому, что совсем несправедливо, и все мучения твои… они все впустую. Да неужели ты на самом деле считаешь, что страх кого-нибудь научит? Неужели ты думаешь, что те, на ком лежит вина за весь этот ужас, испытывают его?! Нет, Костя, они ко всему равнодушны, и стоны умирающих им не слышны! – Маша бросила окурок в пепельницу, поднялась со стула, с прижатыми к полной груди руками сделала несколько шагов по комнатке и остановилась как вкопанная. Слезы вновь потекли по ее щекам, и она воскликнула, плача:
– Костя, милый, да знаешь ли ты, что твое желание через убийства и злодейства войны привести людей к миру вечному оттого происходит, что ты не любишь никого! Вот, была у тебя когда-то семья, жена и дочь, так нелепо погибшие, но теперь у тебя никого нет, и ни печалиться, ни страдать о ком-то тебе нет нужды. Разве можешь ты, одинокий, весь этот ужас представить? Нет, не можешь! Тебе снова полюбить надо, того заиметь надо, чьей смерти ты больше своей собственной бояться будешь! Только через любовь такую и можно к миру прийти.
Лихунов посмотрел на Машу насмешливо. Ему показались наивными ее слова о любви как пути к спасению людей от войн. В ее предложении было что-то от христианства, а к религии Лихунов хоть и относится с уважением, привитым в детстве, но в действительности ее морали не верил, зная, что людей любить невозможно. Однако в Машиных словах на самом деле было очень мало от христианства, и она призывала любить не каждого, как призывало к тому Евангелие, но кого-то одного. И Лихунов снова усмехнулся, представив, сколь наивен предложенный Машей путь. Разве не имеет каждый воин, жестокий, отважный, любимого человека? И разве остановит кого-нибудь в бою воспоминание о возлюбленной или об оставленных дома жене и детях?
– Ну, и чьей же смерти мне больше своей собственной бояться надо? – улыбнувшись, спросил Лихунов.
– А ты разве не знаешь? – еле слышно протрепетали на полных губах Маши негромкие слова, и девушка потянулась рукой к лампе, подвернула фитиль, так что угловатые тени на стенах почти исчезли. Потом она развязала узкий матерчатый поясок и положила его на стол, на мгновение задумалась. Движения ее были уверенными и неторопливыми. Подняв локти, Маша недолго повозилась с крючками платья на спине, пошуршав им, быстро сняла через голову, растрепав свои густые вьющиеся волосы. Лихунов не отворачивался и словно в гипнозе смотрел на раздевающуюся девушку, чувствуя, как наполняется его убогая комната запахом какой-то иной, очень здоровой, мирной жизни. Маша стояла перед ним в одном лишь низком корсете и в белой нижней юбке, беззащитная и властная одновременно с бессильно опущенными руками, но гордо поднятой головой.
– Подойти ко мне, – просто сказала она, и Лихунов безропотно подошел. В нем, давно не прикасавшемся к женщине, отвыкшем на скудном карпатском пайке от присутствия в своем теле обыкновенного желания, жило сейчас сомнение, но он подошел, и девушка тотчас положила ему на плечи свои полные, мягкие руки, притянулась к нему своим прекрасным телом, немного пахнущим госпиталем и какой-то сухой травой. Лихунов почувствовал, как дрожит это восхитительное тело, и все его мужское, но какое-то высокое, чистое отозвалось желанием покорить и защитить одновременно это дрожащее существо, откровенно просившее любить его и обещавшее взамен любовь.
– Костя… ты первым будешь…– прошептала она ему на ухо, и Лихунов, едва не падая от внезапного сердцебиения, беспощадного и сладкого, обнял ее.
– Маша, Машенька, – горячо дыша, прошептал он сухими, трясущимися губами, – любимая, я никогда…
Но стук в окно, неуместный, безжалостный, ворвался в их счастливый мир, мгновенно потускневший и принявший сухую, злую форму убогой комнаты.
Маша в страхе и смущении, закрывая грудь руками, отпрянула в угол комнаты, а Лихунов, взяв в руки лампу, подошел к окну и отворил его. На улице, под окном, с фонарем в руках, читая что-то в развернутом листе бумаги, стоял незнакомый Лихунову фельдфебель.
– Вы будете капитан Лихунов, что ли? – сердито спросил фельдфебель.
– Да, я Лихунов. Чего тебе надо?
– А извольте в штаб немедленно пожаловать, к их превосходительству начальнику артиллерийскому. – И добавил, растворяясь в темноте: – Просили не мешкать.
Лихунов затворил окно, повернулся. Маша, уже одетая, сидела у стола и не смотрела на него. Лихунову было жаль девушку, жаль себя, он негодовал на случай, прервавший тот счастливый, упоительный момент, разбивший чувство радостного предвкушения грядущего наслаждения, но другой мужчина, мужчина-воин, ненавидевший войну, уже гордо поднял голову и расправил плечи.
– Маша, меня вызывают…
– Да, я слышала, – не поворачивая головы, произнесла девушка.
– Меня вызывают, и я думаю, для того, чтобы отправить на позиции.
– Ты, разумеется, доволен.
Лихунов молчал. Подошел к Маше и положил ладонь на ее мягкое плечо.
– Да, я ждал этого момента, вернее… момент этот сам меня нашел. Я нужен войне, Маша.
Маша порывисто схватила его руку, поднесла к мокрому от слез лицу, принялась целовать и все говорила быстро:
– Нет, ты не войне нужен, мне, мне, только мне! Милый, дорогой мой, помни обо мне и о себе тоже помни! Если тебя убьют, для меня уже не будет жизни! Знай, что ждут тебя, любят, да, да, тебя, лишь тебя одного!
Лихунов молчал. Потом обнял все еще сидящую девушку и, наклонившись, прошептал на ухо:
– Если… все будет в порядке, ты станешь моей, а сейчас пойдем – ждут меня.
Они вышли на улицу. Было около полуночи. Небо, как видно, затянуло плотными тучами, поэтому луна не освещала дорогу. Крепко взяв Машу за руку, Лихунов молча вел ее по направлению к госпиталю. Так, у госпитальных ворот, охраняемых солдатом, тяжело опершимся на винтовку, они и простились. Маша больше не плакала, не обнимала Лихунова и не целовала его руки. Только сказала негромко своим низким, мягким голосом:
– Милосердным будь, Костя, прошу тебя.
ГЛАВА 14
В штабе Новогеоргиевска, в приемной начальника артиллерии генерала Римского-Корсакова уже толпились человек двадцать пять офицеров. Просторная комната, уже знакомая Лихунову по визитам к их превосходительству, была ярко освещена электричеством, наполнена гулом негромко беседовавших и табачным дымом. Офицеры, заспанные, злые, многие, как видно, хорошо подвыпившие с вечера, были недовольны. Слышались негромкие восклицания:
– Какого черта нужно было ночью поднимать? Утром, что ли, не могли позвать?
– А господин генерал давно уж бессонницей страдает. Ему что день, что ночь…
Некоторые офицеры, не смущаясь, спали, сидя на мягких стульях и вытянув ноги. Слышался храп. Двери кабинета Римского-Корсакова время от времени открывались, в кабинет то входили, то выходили из него посыльные, связные, адъютанты, в приемной появился знакомый Лихунову молоденький адъютант и громко произносил чин и фамилию того или иного офицера, приглашая пройти в кабинет. Многих не оказалось на месте, и адъютант очень сердился, другие же спешили пройти к начальнику артиллерии, откуда выходили уже с какими-то пакетами и тут же покидали приемную. Некоторых приходилось будить, и проснувшиеся, чертыхаясь сквозь зубы и оправляя на ходу мундир, спешили к дверям. Одного штабс-капитана адъютант в кабинет не пропустил и посоветовал ему идти в квартиру – до того офицер был пьян. Лихунов увидел двух командиров батарей своего дивизиона, поздоровался с ними, но разговаривать не стал и отошел в сторонку. Скоро назвали и его фамилию, Лихунов вошел в просторный кабинет, украшенный портретом государя в полный рост. Вокруг огромного стола, за которым сидел сухонький генерал, толпились штабные офицеры, передавая друг другу какие-то бумаги, просматривая их и негромко, с деланно серьезными лицами обменивались мнениями. Лихунова подозвали к столу, их превосходительство порылся в бумагах, то и дело позевывая в сторону, прочитал, закивал головой, словно вспомнил Лихунова, и сказал:
– Вот вы, молодой человек, все докучали мне просьбами, на передовую просились, ну и настал час, германец близко, поезжайте с Богом. Командовать будете лишь одной своей третьей батареей. О проделках ваших наслышан, но закрываю глаза – нам офицеры опытные необходимы. Поступайте в распоряжение командира шестьдесят третьей пехотной дивизии, которая уж стоит на передовых. Вот вам карта с указанием района, куда вам на рассвете выступать надо. Прибыв, тут же позицию готовьте. Разведка доносит, не завтра послезавтра немцы передовую атаковать начнут. Ну, ступайте, голубчик, Бог вам в помощь, – подал Римский-Корсаков Лихунову пакет и вдруг, изменив старчески-простодушный тон на властно-капризный, добавил: – Время не то, занялись бы вами со всем тщанием! Ступайте, капитан!
Лихунов принял карту, отдал честь и, повернувшись на каблуках, пошел из кабинета начальника крепостной артиллерии. В приемной он вспомнил, что забыл спросить у генерала, будет ли освобожден Васильев, недовольно поморщился, сердясь на себя, и поспешил из штаба.
Было около двух часов ночи, но прохлады не чувствовалось. Все притаилось в ожидании то ли предстоящего штурма, то ли проливного дождя с грозой, которой должна была разрешиться жара последних дней. Лихунов шел по ночному Новогеоргиевску, вспоминая Машу, ее теплые объятия, но другая часть его мозга находилась уже за пределами крепости, там, где собирался он встретить врага, словно от этой встречи зависело не только дальнейшее течение его собственной жизни, но и нечто более важное, чем жизнь одного человека.
В казарме, где ночевали его артиллеристы, не спали. Рядовые и унтера неторопливо возились со своим немудреным скарбом, пришивали пуговицы, латали белье, иные молились. К Лихунову подлетел одетый по всей форме, отчего-то радостный Кривицкий:
– Господин капитан, разрешите доложить.
Но Лихунов перебил поручика:
– Почему не спят люди?
Было видно, что Кривицкий расстроен холодной встречей, и Лихунову стало стыдно. Однако молодой человек мгновенно принял прежний беззаботный вид и с улыбкой ответил:
– Да как же, Константин Николаевич, ведь на рассвете выступаем! Какой же тут сон! Нижние чины хоть и в легком мандраже находятся, но зато важность, важность момента очень осознают!
Лихунов удивился:
– Откуда известно стало о выступлении?
– Да как же не узнать! – еще более весело отозвался Кривицкий. – Первая и вторая батареи уже подняты, сбираются! Вот и мы сбираться стали!
Лихунов с каждый днем все сильней и сильней проникался симпатией к старшему офицеру своей батареи, исполнительному, толковому малому, не прощая между тем его мальчишеской несерьезности. Иногда он ловил себя на том, что его легкое недовольство имело причиной нежелание позволить Кривицкому относиться легкомысленно к войне, в которой все было столь трагично, что любая шутка поручика словно задевала самого Лихунова. Но неправоту такого отношения к молодому человеку он понимал, а поэтому всегда стыдился своей сухости в разговорах с ним.
– Ну хорошо, что собираются. Распорядитесь о хорошем завтраке перед выступлением, и через час начинайте выкатывать орудия и впрягать лошадей. Еще патроны надо получить. Идите.
Кривицкий, радуясь теплому тону командира, расцветил свое румяное мальчишеское лицо прекрасной улыбкой и, вскинув к фуражке руку, побежал отдавать распоряжения. А Лихунов, пройдя по казарме, сразу понял, что в этот час, когда каждый знает, что ему делать, он будет лишь помехой, покинул жилище подчиненных и пошел в конюшню седлать лошадь.
В просторной конюшне, плохо освещенной тускло горящими масляными лампами, остро пахло слежавшимся сеном и навозом. Пофыркивали неспящие лошади, слышно было, как где-то неспокойный жеребец грыз дерево стойла. Лихунов разыскал свою пегую некрасивую кобылу, – вестовой, канонир-недомерок, очень любивший Лихунова и его лошадь, уже хлопотал возле нее. Лихунов отпустил вестового – ему очень хотелось самому оседлать Царицу. Пьянея от жаркого, едкого запаха кобылы, он стал не спеша седлать лошадь, аккуратно расправляя потник, чтобы не оставалось морщин, наложил седло, избегая двигать его против шерсти, подтягивая подпруги, боясь тянуть слишком сильно. И каждое внимательное, осторожное движение, которое производил он сейчас, делалось, – Лихунов прекрасно это знал, – для того, чтобы служить совершаемому теперь миллионами людей страшному, неумолимо беспощадному, злому делу, называющемуся войной, и чем лучше, думал он, будут произведены эти нехитрые движения, тем больше сделает он там, где ждали его участия.
Лихунов уже хотел надевать оголовье, как вдруг увидел, что в стойло напротив какой-то нижний чин, напевая тихо, ввел под уздцы высокого серого коня. Солдат этот, должно быть, вернулся из какой-то срочной поездки, очень дальней к тому же. Жеребец его тяжело дышал и ронял на песок конюшни пену со своих взмыленных, покрытых пылью боков. Солдат неторопливо расседлал жеребца, то и дело ласково похлопывая его по шее, и на минуту вышел из стойла. Вернулся он уже с ведром, в котором плескалась вода, и с принадлежностью – скребницей, щеткой, суконкой, железным крючком для чистки копыт. Неторопливо стащил с себя гимнастерку и рубаху, пучком соломы, свернутым в жгут, стал вытирать наиболее грязные места на теле лошади, брюхо и верхнюю половину задних ног. После взялся за щетку, которую жеребец, как видно, не любил – стал дергать кожей, фыркать, мотать головой, пытаясь ударить ею хозяина. А солдат все успокаивал жеребца, то и дело поглаживая его по шее. Лихунов видел, что солдат работает очень умело, после каждых трех-четырех взмахов щеткой проводит волосом щетки по зубцам скребницы, очищая ее от грязи. Потом он обтер коня мокрой суконкой, не забыв детородные части и задний проход. Прикосновения к коже прохладной суконки, казалось, доставляли жеребцу сильное удовольствие – он неподвижно застыл на месте и даже вытянул морду. Отложив суконку, солдат снова взялся за пук соломы и тщательно вытер ноги ниже колена. После железным крючком он выскоблил коню копыта и закончил чистку, обмыв холодной водой глаза и ноздри жеребца. Через четверть часа лошадь было не узнать. Ярко-серая масть казалась ослепительно белой, низкий волос на коже был приглажен и лоснился, грива и хвост распушились, и сам конь, словно понимая свою красоту, насторожился и гордо постукивал копытом передней правой ноги о земляной пол конюшни. Покуда солдатик чистил жеребца, заботливо и привычно, Лихунов неотрывно смотрел на него, и чем дольше он следил за работой солдата, тем глубже в сознание его проникало удивление. Нет, чистку лошади ему приходилось видеть едва ли не каждодневно, но почему-то именно сейчас, незадолго до выезда на позиции, когда все в нем томилось в ожидании борьбы, сражения, жило предстоящей кровавой схваткой, неторопливые, мирные движения солдата, какие-то теплые, невоенные совсем, ласковые и очень понятные лошади, показались Лихунову невероятно странными и даже неприличными, но говорящими в то же время о чем-то очень большом, что равнялось размерами с вереницей страшных событий, тянувшихся из глубин веков, и о чем-то очень сильном, способном, должно быть, поднять из могилы усопших.
Не глядя на возившегося в стойле солдата, Лихунов провел свою пегую мимо и направился к выходу из конюшни.
* * *
Когда, запасясь патронами, батарея Лихунова выезжала из северных ворот крепостной ограды, пошел сильный дождь. Спины лошадей тут же залоснились, нижние чины тянули из-под себя рогожки и накрывались ими, но было видно, что дождик никого не огорчил – зной последнего времени всех заставил мучиться. В единый ровный гул слился стук сотен подков и грохот катившихся орудий. Лихунов из-под капюшона прорезиненного плаща поглядывал на колонну, радуясь тому, что все было в полном комплекте: и люди, и лошади, и пушки, и снаряды. В его подчинении было четыре офицера, двести восемнадцать канониров, бомбардиров, фейерверкеров, фельдфебелей, телефонистов. Сто семьдесят пять лошадей везли шесть хорошо отремонтированных после карпатских боев трехдюймовок, зарядные ящики, телефонные двуколки, обоз. Лихунов знал, что без всех этих людей, лошадей, пушек он в том месте, куда они сейчас направлялись, был бы совершенным ничтожеством, никчемным и бесполезным, но он также понимал, что вся эта масса железа, людей и животных без него в боевом отношении являет лишь толпу умелых в отдельности, но не способных действовать организованно людей, против которых двинут вскоре прекрасно обученные, жаждущие победы германские солдаты. Слышался неумолчный, ровный гул далекой канонады, колонну то и дело обгоняли верховые, самокатчики, мотоциклисты, и никто уже не кричал артиллеристам задористо, стремясь задеть солдатской грубой шуткой, – все казались озабоченными предчувствием большого, страшного сражения, грозившего смертью, необходимостью убивать таких же, как и они сами, живых, боящихся смерти людей.
К Лихунову подъехал Кривицкий, некоторое время молчал, похлопывал гиппопотамовым стеком по голенищу, потом заговорил необыкновенно серьезным, взволнованным тоном:
– Константин Николаевич, вы о потере карты слышали?
– Да, слышал, – нехотя ответил Лихунов.
– А о том, что Алексеев выводит Вторую армию из Варшавского укрепленного района, то есть оставляет Новогеоргиевск без поддержки, вы знаете?
Лихунов знал об этом, но, не желая подыгрывать Кривицкому и этим укреплять его настроение, способное, как он думал, передаться нижним чинам, сухо сказал:
– Но ведь вы, поручик, сами говорили, что крепость не теряет своего назначения, находясь в совершенной изоляции. Я помню, вы утверждали это.
Кривицкий ответил неожиданно горячо:
– Да, правда, я говорил об этом! И если дело дойдет до обороны в полном окружении, Новогеоргиевск будет обороняться, что же делать, но вы, наверно, не знаете, в каком настроении рядовые находятся, не знаете! Наши что – хмурятся только да молчат, а вот крепостные – так те в открытую почти о предательстве говорят, командование ругают, болтают, что крепость ни за что не устоит супротив германских больших калибров, к смерти готовятся. И ведь действительно, черт знает что выходит – отводят армии, и мы, подарив врагу ценнейшие сведения о крепости, остаемся в неприличном одиночестве!
Лихунов молчал минуту. Во многом он был согласен с Кривицким, но его настроение подсказывало Лихунову, что крепость может быть сдана раньше того, когда на подступах к Новогеоргиевску произойдет то страшное и бесчеловечное, что было так необходимо ему, раньше того, как произойдет сравнение сил германских и русских солдат, поэтому он твердо и строго сказал молодому человеку:








