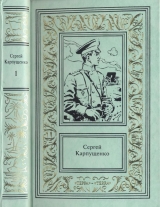
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Подойдите ближе, ближе, – мягким, фланелевым голосом подозвал комендант Лихунова и даже сделал при этом незаметное подманивающее движение пальцами правой руки.
Константин Николаевич подошел почти вплотную к столу, думая, что его будут осматривать врачи, но никто из врачей, которых Лихунов узнал по белым шапочкам, не поднялся с места.
– Вам сколько лет? – вежливо спросил фон Буссе и очаровательно улыбнулся, словно извиняясь за вопрос. Комендант говорил по-русски, и даже очень сносно.
– Тридцать семь, – ответил Лихунов, и фон Буссе быстро перевел ответ на немецкий сидящему рядом с ним офицеру германского генштаба, очень худому, болезненного вида человеку средних лет, смотревшему на Лихунова в упор, точно именно на физиономии пленного он должен был прочесть ответ: оставлять ли пленного в лагере, или же везти его в Россию. Услышав перевод, офицер, будто не доверяя коменданту, посмотрел в журнал с какими-то записями и только после этого кивнул.
– Действительной ли вы службы офицер или запасной?
– Действительной.
– Капитан? Артиллерист?
– Да.
Эти сведения были тут же доведены до офицера генштаба, который зачем-то захлопнул свой журнал и сказал по-немецки:
– Не может быть и разговора. Я стою за Z!
Лихунова обожгли слова штабиста. Он знал, что Z означает «zurück», то есть отказ в отправке в Россию. Он и прежде догадывался, конечно, что разговор с комиссией не будет длинным, но чтобы его пригодность к обмену была определена так примитивно, неприлично просто! Он бы не поверил.
– Позвольте, господа! – волнуясь, дрожа от страха, что ему не позволят высказаться до конца, заговорил по-немецки Лихунов. – Как же вы, не осмотрев меня, берете на себя смелость решать, что я негоден для обмена? В Нейсе специалисты-окулисты, немцы, тщательно осмотрели меня и сказали, что я безусловно подлежу обмену. С их заключением согласилось и германское военное министерство…
– А нам наплевать на заключение врачей из Нейсе! – вдруг заговорил офицер генштаба, радуясь возможности объясниться с пленным так, чтобы до него дошел смысл каждого его слова. – Их заключение для нас безразлично, потому что они вас осматривали как медики и только, мы же принимаем решение как политики и… как патриоты, исходящие из интересов нации, а не чистой науки! Вам понятно?! – Офицер, произнося это, даже привстал, подался всем своим худощавым корпусом вперед, опираясь на ладони рук.
– Тогда следовало ли приглашать меня сюда, приглашать этих врачей, устраивать представительную комиссию вообще, – язвительно заметил Лихунов. – могли бы все решить по вашему журналу.
Язвительность его сильно не понравилась генштабисту.
– А вы нам не указывайте, что нам следовало делать! Мы отлично знаем, какими методами пользоваться, определяя, что с вами делать! – уже не повысил голос, а попросту закричал офицер, надувая отвратительные синие жилы на своей тощей шее.
Лихунов вдруг понял, что сделал глупость и ему на самом деле не стоило дразнить тюремщиков. Он понял – его теперь ни за что отсюда не отпустят и ненавистный, позорный, так унизивший его плен будет держать его в своих цепких, когтистых объятиях неопределенно долго, пока не кончится война или пока он не умрет здесь, убитый охранником или в веревочной петле. Он понял, что не увидит Машу, никогда не зайдет в свою квартиру на Васильевском, где жил со своей женой и дочерью, никогда не почувствует себя свободным от унизительной обязанности подчиняться людям, делающим так много зла. Вдруг слезы, неожиданные, стыдные, обидные, не повинуясь воле, потекли по щекам Лихунова. Как видно, не была нарушена раной и железа удаленного глаза, и слезы текли даже из-под повязки. Тело Лихунова затряслось, он не в силах был владеть собой, хотя и оставался какой-то крошечный уголок сознания, который ужаснулся этим позорным слезам, поразился тому, как этот еще недавно сильный, уверенный в себе человек, смелый, не боявшийся смерти, презиравший врагов, мог так низко пасть, показывая свою слабость людям, которых ненавидел.
– Господа… господа…– глотая рыдания, говорил Лихунов, – пощадите. Ну неужели вы не видите, что я уже плохой артиллерист, что я уже никогда не смогу драться, потому что ничего не вижу. Ну прошу вас, отпустите меня! Меня осматривали лучшие окулисты Нейсе, немецкие окулисты, и признали меня совершенно негодным для военной службы. Ну я вас очень прошу!
Врачи, сидевшие за столом и, видимо, очень хотевшие осмотреть Лихунова, составить свое мнение, но не имевшие на то права, недовольные своей отстраненностью, сидели смущенные и злые. Комендант фон Буссе, закрыв лицо ладонью, отвернулся в сторону и улыбался, а офицер генштаба смотрел на плачущего с нескрываемой гадливостью и немного был недоволен собой, потому что был вынужден воевать с такими жалкими врагами. Однако нечто подобное сожалению тронуло его не черствое от природы сердце, но попросту закрытое для немцев. Он уже был доволен тем, что увидел противника униженным, и считал это достаточным наказанием за прошлую вину перед ним и его народом.
– Где вы были взяты в плен? – спросил офицер, не глядя на Лихунова.
Константин Николаевич, быстро осознавший, что проявил недопустимую слабость, уже вытирал платком лицо.
– В Новогеоргиевске меня взяли в плен, – кривя губы, ответил он.
– Вы… в крепостной артиллерии служили? – открыл свой журнал генштабист, пытаясь разыскать о пленном дополнительные сведения.
– Нет, в полевой.
– Ах так! – сказал офицер и задумался. Об этом ничего не говорилось в его журнале, а между тем при штурме одного из фортов Новогеоргиевска погиб один хороший знакомый офицер, нет, нет, совсем не родственник, но очень хороший, милый человек, с которым офицер генерального штаба долгие годы дружил. Поэтому возможное участие стоящего перед ним русского в убийстве этого прекрасного и очень полезного для его страны человека делало Лихунова в глазах офицера очень вредным, достойным самого строгого, взыскательного отношения.
– Не может быть и речи! – скороговоркой, словно боясь, что русский прервет его слезами, сказал офицер и захлопнул свой журнал. – Обмену вы не подлежите!
Странно, однако это сообщение не произвело на Лихунова впечатления ошеломительного – все в нем уже сумело подготовиться к нему, и теперь совсем другое чувство, чувство ненависти, но не жалости к себе, вдруг всколыхнулось в нем.
– Ну что ж, – сказал он равнодушным тоном, неспешно пряча в карман платок, – нет так нет. Впрочем, у вас, немцев, есть чувство на врага. Если бы вы, господа, выпустили меня отсюда, то, будьте уж уверены, я бы воспользовался своей свободой только для того, чтобы снова встать во главе батареи!
Я достаточно опытный артиллерист, чтобы не быть бесполезным на поле боя даже с плохим зрением! Да, господа, я был под Новогеоргиевском и до смерти своей гордиться буду тем, что батарея, которой я командовал, уничтожила порядка тысячи германских солдат и офицеров! Да, я счастлив, что убил так много жестоких, подлых людей, гордящихся своей культурой и не признающих за другими права быть людьми! Я ненавижу всех вас!!
И чем дольше говорил Лихунов, тем жестче, уверенней становился его голос. Ему было стыдно своих слез, но он презирал своих врагов уже так сильно, что не оставлял за ними права судить его. К концу последней фразы он, глядящий своим единственным, страшным глазом прямо в глаза немецкого офицера, уже ненавидел этого человека столь сильно, потому что видел в этих глазах непризнание себя как человека, что не в силах был сдержаться и кинулся к столу. Тяжелое мраморное пресс-папье уже было занесено над головой немца, успевшего поднять к своей плешивой голове обе руки, но на Лихунове повисли врачи, уронившие на стол свои белые шапочки, и красивый молодой комендант, неистово кричавший:
– Караульных! Караульных!!
Лихунова связали и отнесли в карцер, где бросили, не распутав веревок, на сырой, холодной пол. А через час большая рыжая крыса, долго наблюдавшая за лежащим на полу человеком, мелко-мелко перебирая короткими лапками, подбежала к нему, взобралась на грудь, но, не найдя ничего съедобного, снова соскочила на пол и скрылась в углу.
На хлебе и воде, лишенный прогулок, возможности менять постоянно наполняющуюся гноем повязку, Лихунов пробыл в холодном карцере две недели. Там, в тишине, он горько сожалел о своем необдуманном, мальчишеском поступке, лишившем его всякой надежды выбраться из плена. Его перевели в общий барак уже тогда, когда комиссия переосвидетельствование закончила и отбыла из лагеря Штральзунд-Дэнгольм. Из шестидесяти человек, среди которых был и Лихунов, были признаны годными к обмену лишь восемь: два священника, два душевнобольных, два чахоточных, находившихся почти при смерти и два полуслепых, подобно Лихунову, офицера. В лагере остались одноногие, однорукие, с тяжелыми черепными ранами, с атрофией конечностей, с тяжелыми внутренними болезнями, чахоточные больные, которые, по мнению представителя германского генерального штаба, могли еще быть способными причинить их армии пусть малый, но все ж таки вред. Лихунов, опустошенный, потерявший всякую надежду на освобождение, ни с кем не сходясь, ничем почти не интересуясь, посвящая свое свободное время прогулкам по садику, откуда открывался вид на серое, холодное море, почти постоянно мертвенно-спокойное, пресыщенно-сытое, а по вечерам – записям в дневнике, которые стал делать лишь по выходе из карцера.
«Лагерь Штральзунд носит характер пересылочный: отсюда прибывают как новые пленные с фронта в карантин, так и инвалиды на обмен, и соответственно этому время от времени партии офицеров отправляются в другие лагеря. Комендант фон Буссе пользовался этим, чтобы сделать невозможной всякую внутреннюю организацию в лагере; чуть заметит, что человек работает на общую пользу, он его высылает; так он делал, например, с музыкантами в оркестре, так же и с учителями и учениками создавшихся было общеобразовательных курсов для офицеров и нижних чинов… Кстати, о пище. Она с каждым днем становится все хуже и хуже. Даже дача картофеля сократилась до минимума (немцы посадили преимущественно скороспелый картофель, не выдерживающий хранения, и он на две трети погнил). За плату 45 марок в месяц утром давали кружку какой-то бурды под названием кофе, обычно и без молока. В обед на первое мучную болтушку или горячую воду с капустой, а на второе тоже суп, только немного погуще – из брюквы и картофеля. Раз в неделю в нем попадались кусочки мяса, примерно по 2-3 золотника на человека (на 700 человек клали 15 фунтов мяса, из которого половина доставалась немецким унтер-офицерам), или картофель и вареная малюсенькая камбала; на ужин опять мучная болтушка или затхлая овсянка, или, в лучшем случае, гороховый суп или картофель с селедкой. В воскресенье на второе давали кусочек мяса, примерно 0,1 фунта, и сладкое – мучной пудинг. Иногда выдавалось на неделю 3 ложки сахара, но это примерно через 2-3 недели раз…»
Бежать из лагеря, расположенного на острове, представлялось делом немыслимым, к тому же Лихунов, выйдя из карцера, ощутил какое-то тупое равнодушие к своей судьбе. Он уже не думал ни о свободе, ни о Петрограде, ни о борьбе с врагом – все в нем притихло, сжалось, сморщилось до каких-то мизерных размеров собственного тела, не живущего ничем иным, как только заботами сиюминутными, насущными, животными. Он стал крайне бережлив, часто ссорился с раздатчиком на кухне, когда ему отпускали хлеба или картошки меньше, чем другим, причем делал это не потому, что хотел торжества справедливости, – он очень боялся, что ему не хватит. Если он не съедал свою порцию за столом, то тщательно заворачивал еду в платок или в кусок газеты, приходил в барак и прятал сверток под тюфяк, чтобы потом, уже ночью, достать еду и съесть, поглядывая по сторонам. Он ни с кем не общался и любил находиться в той части лагеря, откуда было видно море.
Мысль о побеге явилась к нему внезапно, когда взгляд его натолкнулся на маленькую лодку, стоящую поодаль от больших паровых катеров – единственного транспорта, которым лагерь был связан с городом Штральзундом. А раньше этой лодки здесь не было, и это тут же подсказало Лихунову, что завтра ее может уже не быть на этом месте, – вероятно, кто-то ненадолго прибыл на Дэнгольм, чтобы завтра возвратиться на материк. Клубок противоречивых чувств и мыслей закружился в голове у Лихунова: «Куда я поплыву? В Швецию? В Данию? Но ведь у меня нет даже компаса, а в лодке, скорей всего, нет весел. Меня задержит первый же морской патруль. А долго ли я проплыву без еды? А шторм?» Но желание стать свободным, потухшее было в Лихунове, вдруг загорелось в его сердце с такой необоримой силой, что все доводы рассудка тут же покорились страстному желанию: «Да, я поплыву! Сегодня же! Если меня не заметит часовой, когда я буду перелезать через забор, то к лодке я подбегу в считанные секунды. Привязана ли она – не знаю! Есть ли там весла – не знаю. Если нет, то погребу руками, все равно, все равно!»
Барак, в котором поселили Лихунова, находился метрах в двухстах от того места, где следовало перелезать через забор. На ночь барак не запирался, но выходить на улицу было строго запрещено. Ночь выдалась безлунной, поэтому, выйдя из барака в третьем часу пополуночи, Лихунов лишь по памяти определил, куда ему идти. «Скорей, скорей! – шептало ему сердце и волчий, потаенный до времени инстинкт, руководивший каждым его движением. – Сейчас все прямо, прямо, здесь уборная, потом вперед мимо клумб! Только не наделать шуму, не натолкнуться на что-нибудь!» И этот полузрячий человек, потерявший в темноте способность видеть совершенно, ведомый лишь одним каким-то животным чувством, жаждой свободы, слыша раздающиеся где-то неподалеку голоса охранников, шел верно, уверенно, не издавая ни малейшего шума, способного выдать его. Вот он уже стоял у высокого забора, оплетенного наверху колючей проволокой. Нашел ладонями свободные от шипов места, подтянул свое ослабшее, истощенное пленом тело, чувствуя, как впиваются в его плоть проволочные шипы, перевалился на другую сторону, упал и минут десять лежал, прислушиваясь, не спешат ли охранники, привлеченные шумом, отдыхал, ожидая, пока утихнет жгучая боль в пронзенных проволокой местах. Встал, пригибаясь, кинулся туда, где в дегте воды застыли тяжелые катера, возле которых он должен был увидеть лодку, если ее не забрали оттуда. Но лодка на самом деле стояла на месте, вернее, лежала, вытащенная на берег. Толстая стальная цепь держала ее привязанной к столбу, который торчал из заваленного камнями берега. Лихунов ощупал кольца, державшие цепь, – они были надежными, и справиться с ними можно было лишь с помощью зубила или напильника, но инструментов Лихунов не имел, поэтому принялся расшатывать столб, пытаясь вытащить его из каменистого берега. Весь в поту, с текущей по исколотым рукам кровью, целый час он раскачивал этот столб из стороны в сторону, и с каждым движением его ненависть к плену, к войне и немцам становилась все сильнее, яростнее. Он знал, что назад возвращаться нельзя, и вовсе не потому, что у него не нашлось бы сил снова перелезть через забор, нет, – он просто снова полюбил свободу. Наконец столб пошел вверх. И Лихунов, шатаясь, стараясь не звякнуть цепью, положил его в лодку. Еще полчаса было потрачено на то, чтобы спустить ее на воду. И вот уже, посильнее оттолкнувшись от берега, он качался в лодке, плывшей по черной, остро пахнущей морем воде.
В лодке, на счастье Лихунова, оказались весла, и он вставил их в уключины и погреб, вначале тихо-тихо, но потом все быстрей и быстрей, не выбирая пути, лишь бы подальше уйти от острова Дэнголем, на котором он был несвободен, унижен, где знал об этом сам и видел, что враги, которых он так ненавидел за жестокость, тоже знают о его унижении.
Без остановки, не замечая, как лопаются на ладонях пузыри, он греб до самого рассвета и даже потом, когда встало солнце. Был август, и солнце светило ярко и горячо. Дэнгольм совершенно слился с берегом, который маячил вдали узкой черной полосой. «Господи, неужели я свободен?» – подумал Лихунов и здесь, посреди серого полотнища моря, неприветливого и угрюмого, не боясь, что его увидят, он зарыдал, прижимая к лицу свои окровавленные ладони. Потом опустился на дно лодки и, укачиваемый волной, крепко заснул, не слыша, как горланили над ним не знающие о своей свободе, а потому и несвободные морские птицы.
Лихунов спал долго, но, когда проснулся, солнце еще стояло высоко. Подниматься со дна лодки не хотелось, но он все же поднялся, и первое, что он увидел, был черный дым, валивший из трубы какого-то маленького судна. Он вперил свой единственный глаз в этот дым, пытаясь определить, в каком направлении движется судно, и скоро понял, что шло оно к нему и что было оно паровым катером, очень похожим на те, что стояли на приколе Дэнгольма. Не замечая, как обожгла его боль, он вцепился истертыми руками в весла, ударил ими по воде, молясь своему, русскому Богу, чего не делал уже очень давно, стал бешено колотить веслами, стараясь уйти от погони, хотя и не был уверен в том, что катер гонится за ним, но он все же греб и греб, и дыхание его скоро стало похоже на хрип.
Лихунов не бросил весел даже тогда, когда катер подплыл к лодке вплотную. Был спущен маленький железный трап, по которому в лодку сошли два немецких солдата. Обессиленный Лихунов хоть и поднял над головой весло, не желая подчиняться воле этих людей, не признававших в нем человека, но, измученный, воспользоваться своим оружием не смог. Его подняли на палубу катера, где молча долго били, наказывая за дерзость, за желание не подчиняться победителю, за причиненные хлопоты, за то, что пришлось потратить на его поимку топливо, так необходимое Германии.
Когда Лихунов был доставлен на Дэнгольм, его сразу же провели в покои коменданта фон Буссе. Немецкий аристократ поднялся с низкого дивана, на котором уже долго сидел, читая книгу, – преимуществами службы он пользоваться не забывал, – шагнул к пленнику и с очаровательной улыбкой, очень спокойным тоном спросил:
– На что вы надеялись? В конце концов, это неразумно. Вы должны были соразмерить свои силы и возможности с нашими. Глупо.
Комендант подождал, надеясь на то, что Лихунов попытается дать ответ и у него будет возможность аргументированно опровергнуть все доводы русского, – фон Буссе гордился своей способностью мыслить диалектично и логично. Но Лихунов ничего не ответил коменданту, и фон Буссе, немного огорченный и недовольный пленным, немного притушил досадой ясный блеск голубых, как воды Рейна, глаз и заявил:
– Мы вас должны наказать, сами понимаете. Вы будете изолированы, но прежде вас осмотрит один наш доктор. Я подозреваю, что вы все-таки скорей нуждаетесь в лечении, чем… Впрочем, вы свободны. Я вами недоволен. Я полагал, что русские разумнее. Обидно.
И Лихунова увели. Он в тот же день был осмотрен лагерным психиатром, учившимся когда-то у самого Шарко. Врач методично, тщательно исследовал состояние психики Лихунова, исходя из представлений своей науки, личных наблюдений и собственной методы, говорящих за то, что есть резкая граница, отделяющая людей психически нормальных от обладателей патологии, которых, без всякого сомнения, не спрашивая их личного желания (они больны и не могут делать верные суждения), следует лечить, дабы от их присутствия не страдало общество. Провозившись с Лихуновым целый час, проверив его на нескольких очень верных тестах – последнем слове психиатрической науки,– врач безоговорочно признал военнопленного душевнобольным. В больнице имелось две одноместные палаты для такого сорта больных, в одну из них и препроводили Лихунова, который не возражал и лишь попросил оставить ему его хронометр и тетради с карандашом. Видя в этой просьбе проявление недуга и не желая потворствовать углублению заболевания, администрация больницы хотела было вначале Лихунову отказать, но психиатр заявил, что до начала процедур больного волновать излишне, и ему великодушно было разрешено взять и тетради и часы с собой.
«Тяжесть положения в лагере Штральзунд усугублялась еще и той странной ролью, которую играл старший в лагере генерал-лейтенант Джонсон, который, боясь быть переведенным в другой лагерь и потерять некоторые предоставленные ему удобства, всячески заискивал перед немцами – жал руку всем немецким нижним чинам, поднимал оброненные ими на пол платки и так далее. О своих офицерах он нисколько не заботился, отказываясь подписывать жалобы испанскому послу на явно незаконные прижимки и вымогательства немецкой администрации или вообще вступаться за наши интересы. Наоборот, он даже силился нам доказать, что немцы совершенно правы, удерживая, например, 45% с денежных переводов и тому подобное. По поручению немецкого правительства он объехал образцовые солдатские лагеря, и немцы ссылались потом на него, восхваляя свои порядки относительно содержания пленных нижних чинов. Тех же нижних чинов, которые имели наивность принести генералу Джонсону жалобы, немцы за это подвергнули наказаниям.
Совершенно иначе себя держал с немцами ставший старшим в лагере, после перевода генерала Джонсона в другой лагерь, казачий генерал Усачев. Держал он себя с достоинством, а когда немцы вздумали по случаю дня поминовения душ умерших устроить что-то вроде братания между русскими и немцами, предложив генералу Усачеву совместно с депутацией от русских офицеров и нижних чинов возложить венки на могилы немецких солдат, взамен чего немцы хотели возложить венки на могилы замученных ими русских военнопленных, то генерал Усачев наотрез отказался, говоря, что русское правительство не уполномочивало его выступать на официальном торжестве…»
Первое время Лихунову в палате для умалишенных, напоминавшей скорее одиночную камеру тюрьмы, чем больничное помещение, было неплохо. Раздражал лишь голос больного, доносившийся из-за стенки. Тот человек, как видно, тоже был признан сумасшедшим, или на самом деле был таким, или, в конце концов, поверил в правоту научных мнений о себе лагерного психиатра. Нет, этот больной не кричал, не бился в дверь, не плакал, а пел. Песня его была лишена слов и, наверно, даже музыки и походила на одну длинную унылую ноту, нескончаемую и похожую на вой ветра, гудящего в замочной скважине. Вначале Лихунов отнесся к пению соседа спокойно, но скоро он уже не мог слышать этот вой, напоминавший стон умирающего, загробное пение, вырывающее из его души куски, полосующее душу, и без того надорванную и кровоточащую. Он пытался стучать в стенку, просил замолчать, и больной на самом деле утихал, но потом тонкой струйкой к нему просачивался вначале тихий, невнятный, но становившийся с каждой минутой все более отчетливым тот самый звук, впивавшийся буравом в голову Лихунова, и он скрипел зубами, закрывая голову руками, хватал приготовленные из мягкой ткани носового платка затычки, засовывал их в уши, но пение сумасшедшего достигало его сознания все равно, и Лихунов кидался на постель и там, извиваясь, будто от сильной боли, втискивал голову в тощий матрас, закрывал подушкой, но так и не мог уйти от страшной могильной песни человека, благоразумно распрощавшегося с разумом.
Иногда все же на несколько часов сосед прекращал свое пение, и эти часы Лихунов блаженствовал: писал или смотрел в зарешеченное крошечное окно. Он только сожалел, что окно смотрит не на море, а на материк, прямо на Штральзунд. Лихунов часто смотрел на здания города, типично немецкого, с высокой ратушей, со шпилями нескольких церквей, и чем дольше он смотрел на этот город из своего оконца, тем сильнее тот начинал казаться ему каким-то ненатуральным, словно созданным в качестве декораций к какому-то спектаклю, и даже не к драме, где играют люди, а к кукольному представлению. Он видел такие города на иллюстрациях к немецким сказкам, и теперь Штральзунд казался ему не чем иным, как только иллюстрацией или бутафорией, ненастоящей, но исполненной искусно и любовно, где, впрочем, все фальшиво и служит для того, чтобы вызывать симпатию к тому, что ее вовсе не заслуживает. Вот поэтому Лихунов и жалел, что его окно повернуто не в сторону моря, пусть скучного и серого, но зато натурального и честного.
Вначале Лихунов, чтобы хоть как-то поддерживать рассудок, отмечал дни недели и числа месяца, но в конце концов это занятие опротивело ему, и скоро узник уже не помнил, как долго он сидит в палате для умалишенных. Его, конечно, не лечили, хотя он надеялся, что процедуры хоть как-нибудь развлекут его. Утром к нему заходил служитель – молчаливый пожилой солдат – уносил ведро с нечистотами и приносил скудный завтрак, а потом обед и ужин. Бриться Лихунов перестал не потому, что стал абсолютно равнодушен к своему телу, а потому, что принадлежности для бритья в его положении были совершенно немыслимы, а больничный парикмахер его палату обычно обходил. Скоро одиночество, которого Лихунов искал, живя в бараке, стало невыносимо. Как-то он поймал себя на том, что разговаривает сам с собой, смеется и даже жестикулирует, испугался, пытался за собой следить, но поймал себя на этом опять и перестал следить. А больной за стенкой все выл, и как-то Лихунов заметил, но совсем не испугался этого, что сидит рядом со стеной, откуда доносилось пение, и тоже воет, и в этом звуке, в общении с другим таким же несчастным, как он, Лихунов нашел забвение и даже радость. Иногда он бросался к своим дверям и неистово колотил руками и ногами. Его пеленали в смирительную рубашку, но кто-то из служителей заметил, что Лихунову вся эта возня доставляет одну лишь радость, и теперь никто уж не бежал смирять находившее на него подчас бешенство, и Лихунов смирялся сам и шел к стене, чтобы повыть в дуэте с человеком. Он стал галлюцинировать, и это доставляло ему немало радости, потому что чаще к нему являлась Маша, порой покойная жена, а иногда и дочь. Он забывался в общении с этими придуманными его расстроенным рассудком существами, но был счастлив, потому что уже не ведал о своей болезни.
Однажды он услышал чей-то незнакомый женский голос, который доносился из коридора. Он подбежал к дверям, ухо приложил – да, он не ошибся: там говорила женщина, по-русски говорила, но тут же начинала говорить и по-немецки. Лихунов плохо понимал смысл слов – дверь была толстой и обита жестью, но слышал, что тон ее речи был властным, а голос сильным и густым. Вот задвигался ключ в замочной скважине, и дверь распахнулась. Лихунов отчего-то испугался и отпрянул к своей постели, влез на нее и закрылся одеялом, словно защищаясь им от входящих.
– Не надо! Не надо! Я с вами не пойду, не пойду!! – прокричал он почти что дико, но к нему уже подходили. Он сразу же узнал коменданта фон Буссе, лицо которого выглядело озабоченным и недовольным, увидел психиатра, определявшего, здоров ли он, но, главное, он увидел двух женщин в одежде сестер милосердия, русских сестер.
– Ну вот, сударыня, вы сами можете убедиться в том, – сказал психиатр, оттягивая пальцем нижнее веко единственного глаза Лихунова, – что мы здоровых военнопленных в сумасшедший дом, как вы сказали, не прячем. Больной, которого вы видите, обладает хореическим гиперкинезом и никоим образом не может находиться среди здоровых людей.
Женщина, к которой он обращался, была высокого роста, с властным, но и одновременно каким-то исстрадалым лицом. Она нагнулась к Лихунову, отвечая врачу по-немецки:
– Прежде всего, я вижу, что этот человек почти лишен зрения и, значит, подлежит обмену. Или я не права?
– Но, мадам! – с настойчивой вежливостью обратился к женщине в платье сестры милосердия комендант. – Этого пленного осматривала компетентная комиссия и признала к обмену непригодным!
– Это с хореическим-то гиперкинезом? – презрительно посмотрела на фон Буссе женщина. – Молчали бы уж! Знаю я ваши комиссии!
Женщина снова нагнулась над Лихуновым, который, с трудом понимая, о чем идет речь, одеяло от своего лица все же убрал, но все так же сидел на кровати.
– Назовите ваше имя и фамилию, – настойчиво и мягко одновременно попросила женщина.
Но Лихунов молчал. Он слышал русскую речь, но что-то в его сознании уже не воспринимало смысла обращенных к нему слов, поэтому женщина, лицо которой совершенно утеряло властные черты и теперь лишь только просило, сказала снова тоном, за которым тоже стояла большая просьба, и Лихунов догадался, что от его ответа сейчас зависит многое.
– Я очень прошу вас, скажите, как вас зовут?
– Константин…
– Так, так! – обрадовалась женщина и поправила косынку. – А фамилия?
– Ли… Лихунов,– вымолвил пленный.
– Так, так, очень, очень хорошо! – обрадовалась женщина и окинула строгим взглядом врача и коменданта. – Ну, а теперь скажите, где вы находитесь?
– В плену… в больнице… – ответил Лихунов вполне уже внятно, потому что понял теперь не только то, что спрашивали у него, но даже причину, заставлявшую эту русскую женщину задавать ему вопросы.
– Ну вот, видите?! – просияло лицо женщины, обратившейся уже по-немецки к коменданту и врачу. – И вы еще будете утверждать, что он сумасшедший! Хорошо же, я постараюсь уведомить Красный Крест о том, что происходит в вашем лагере! А сейчас я как представитель Комитета по обмену требую немедленного освобождения этого человека! Комиссия лагеря Нейсе совершенно определенно признала его заслуживающим отправки на родину для прохождения курса лечения!
Комендант, покрасневший, очень испугавшийся огласки, пробормотал себе под нос что-то непонятное и поспешил уйти из палаты. За ним последовал и врач. В комнате остались лишь Лихунов и две сестры милосердия. Строгая женщина сказала своей спутнице, молодой еще девушке:
– Милочка, пожалуйста, побудьте у дверей. Мне нужно сказать господину Лихунову кое-что наедине.
Девушка кивнула и вышла, а пожилая женщина присела на краешек постели рядом с Лихуновым. Ее большое, широкое русское лицо теперь не казалось строгим, но было лишь по-матерински мягким.
– Ну вот, – устало начала она, – вам больше нечего бояться, вы будете отправлены в Россию. Я – сестра Самсонова… вдова генерала… – и она вздохнула. – Вы теперь понимаете, что мне, испытавшей такое, близко горе всех без исключения, вот поэтому я в платье сестры милосердия.
Лихунов, конечно, знал о печальном конце покончившего с собой генерала-от-кавалерии Самсонова, не вынесшего позора окружения, и не одобрял генерала, но теперь его кончина вдруг представилась ему едва ли не подвигом, тем действием, на которое должен был решиться здесь, в плену, и он сам.








