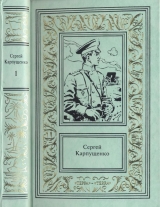
Текст книги "Капитан полевой артиллерии"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА 15
Наступление на передовые позиции русских немцы предприняли седьмого июля ранним утром. Лихунов, находившийся на своем командирском наблюдательном пункте, увидел, что немцы начали обстрел небольшой рощицы у фольварка Носково, в которой стоял батальон пехоты. Стреляли легкие орудия, взметывая землю на опушке, ломая деревья на самой кромке рощи. Батальон этот был вынесен за пределы основной передовой линии, поэтому немцы и начали с него. Постреляв минут пятнадцать, они вывели из-за деревни Писцидля свою пехоту, которая двинулась на рощицу. Потом германская пехота показалась ему в нескольких местах. От наблюдательного пункта Лихунова до колонн неприятеля было не меньше четырех верст, но через окуляры своей прекрасной двадцатикратной стереотрубы он хорошо видел не только фигуры, одетые в серо-зеленую форму, но даже орлов на касках. Держа винтовки наперевес, пригнувшись, немцы тяжело, уверенно шли на наши позиции, и Лихунов, у которого колотящееся сердце готово было, казалось, разорваться от страшного напряжения, понял, что очень скоро он станет тем, кто положит один из камней в основание будущего, совсем непохожего на настоящее.
– Первому отметиться по колокольне! – прокричал он в телефонную трубку, смотря только вперед и зная, что на батарее, у него за спиной, команда тут же принята Кривицким, мгновенно передавшим ее командиру первого взвода.
– Наводить, угломер десять двадцать пять! – замечая, как успокаивается его бешеное сердце, подал Лихунов вторую команду. – Первому и шестому взаимно отметиться! – И тут он не удержался, посмотрел назад, где люди на батарее неслышно копошились, подчинившиеся его команде словно механически, но Лихунов знал, что автоматизм этот только кажущийся и все эти люди по-настоящему думают теперь, думают быстро и действиями своими приводят механизм орудий, приборы в состояние полного подчинения своей собственной воле, направленной сейчас на подавление воли других людей, находящихся в четырех верстах от них.
Лихунов знал, что четыре версты – это слишком много и лучше будет подпустить противника на расстояние не менее двух с половиной верст, когда все двести шестьдесят картечных пуль каждого снаряда будут ложиться на пространстве в пятьсот метров длиною и шестьдесят шириною, и тогда всеми шестью стволами своих трехдюймовок он за четверть часа сможет уничтожить целый полк, идущий открыто, как идут сейчас эти колонны. И Лихунов ждал, но телефонная команда прозвучала с отчаянной требовательностью:
– Третья батарея! Третья батарея! Почему, дьявол вас возьми, не стреляете?! Немедленно, немедленно открыть огонь по колоннам немцев, идущим к фольварку Янушево! Немедленно, или будете отданы под суд!
Лихунов не знал, кто с ним разговаривает сейчас, но понял, что надо действовать, и не потому, что угроза устрашила, но просто почувствовав необходимость действий – кто-то там, в окопах, мог не выдержать, сорваться раньше времени.
– Кривицкий, слушай мою команду, – спокойно сказал он в трубку. – Цель – колонна немцев, идущих к Янушево. Угломер тридцать семь, отражатель ноль, прицел двенадцать, трубка шестнадцать, картечь!
Он не смотрел на батарею, но знал, что за несколько секунд будут поставлены угломер, прицел и уровень, откроются замки, будут взяты из лотка патроны, установлены трубки согласно его команде, будут вложены в канал ствола, а замки тут же закрыты. На все это уйдут секунды, и когда он услышит сообщение о готовности батареи, то даст другую команду…
– Взводами! – прокричал Лихунов в трубку, не думая о том, что кричать не надо. – Взводами! Огонь!
И спустя три секунды грохнули два орудия, потом еще два второго взвода и два третьего. Снаряды, расколов над ним застывший, спаянный июльским зноем воздух, воя, пронеслись туда, где, атакуя окопы у фольварка Янушево, уверенно и беспощадно, вскидывая к плечам винтовки, шли германские солдаты. Лихунов, прильнув к окулярам прибора, видел, как над колонной один за другим, белые, как букеты цветущей черемухи, всплеснули разрывы шрапнели, ударившие вниз, безжалостно и метко, в самую гущу неприятельских солдат, многие из которых тут же упали, иные сраженные насмерть, другие от раны, от страха, внезапного и безумного. Ряды наступающих тут же сломались, люди кинулись было в разные стороны, и в фигурах их не было больше уверенности, но какая-то сила, именуемая, наверно, суровым солдатским долгом, снова соединила их в ряды, двинувшиеся вновь на русские окопы.
– Взводами! – кричал Лихунов в трубку, нечеловечески радуясь удаче первого залпа, сделанного на таком большом расстоянии и сразу же поразившего так много врагов. – Залпами повзводно! Огонь!
И снова вспыхнули над немцами чисто-белые облачка, и вновь разорвались их ряды, не в силах повиноваться долгу, но подчиняясь могуществу горячего металла, подчиняясь могучему желанию остаться целым, пожить, пусть еще совсем немного, пусть до следующего слепого, немилосердного разрыва у них над головой, но все-таки пожить, пожить…
А батарея Лихунова все стреляла и стреляла по немцам, очень хотевшим выгнать из окопов своих противников, и теперь они уже не строились в шеренги, а копошились на взрыхленной картечью земле, взрыхленной судорожными пальцами умирающих, каблуками тяжелых, грязных сапог, бившихся в агонии людей, саперными лопатками тех, кто искал спасенья в наскоро вырытом окопчике, маленьком совсем, лишь бы голову прикрывал, только бы не видеть этого страшного мира, где умирали люди просто так, почти зазря. Бог весть ради чего, подчиняясь попросту приказу незнакомых им людей, сидевших очень далеко от этого взрыхленного и политого густой, теплой кровью поля. И, стремясь спасти себя, они бежали, но шрапнель настигала их везде, и эти люди в серых добротных мундирах, обезумев от страха, закрывали руками голову, думая, что спасутся этим, и метались по полю, бросив винтовки. И шрапнель догоняла их, и они тихо падали ничком, зарываясь лицом во взрыхленную землю, а другие громко кричали от боли и падали на уже убитых, а поэтому безмерно более счастливых, чем они, живые. И эти еще живые люди, словно завидуя мертвым, на последнем издыхании кусали мертвых и так умирали, впившись в своих товарищей, с которыми еще час назад завтракали гороховой колбасой и чашкой дурного кофе с куском серого невкусного хлеба. А Лихунов неотрывно смотрел на это шевелящееся человеческими телами живое серое поле, и звериное, темное нечто, бывшее, должно быть, в чувствах еще египетских, римских воинов, всех сражавшихся когда-либо мужчин, всех, кто находился сейчас на этом обширном пространстве с мирными озерками и тихими рощами, напрягло всю его мужскую природу, природу бойца, отважного и сильного, но страстно желающего мира.
Лихунов смотрел только туда, где рвалась шрапнель его орудий, а поэтому не видел, не мог видеть, что и на соседних участках происходило подобное. Еще две батареи дивизиона, которыми он еще совсем недавно командовал, располагались в трех верстах справа и слева от него и действовали ничуть не хуже батареи Лихунова. Но ему сейчас казалось, что весь мир совместился лишь в небольшом пространстве поля у фольварка Янушево, а сам он, повелевающий людьми на этом поле, словно был хозяином вселенной, могучим и безжалостным, как древний языческий бог. Лихунов видел, что уничтожил уже с батальон солдат, как разметал гранатами неосторожно выехавшую на позицию легкую батарею противника. Но он не видел, как в двух верстах справа от него германский бронеавтомобиль сумел подойти к линии окопов русских так близко, что вызвал страшную панику, и солдаты, бросая на ходу винтовки, в количестве двух-трех рот бросились бежать, и окопы непременно были бы заняты немцами, если бы артиллеристы соседней батареи не уничтожили его. Лихунов не видел также и того, что авангард Ставучанского полка, тот самый батальон, что укрепился в небольшом леске, подвергся артиллерийскому обстрелу, и низенький каменный валик их не укрыл на самом деле. Снаряды взрывались у них за спиной, ранили солдат осколками, прошивали насквозь их не защищенные ничем тела, попадали в камень, который тоже разрывался на сотни маленьких осколков, убивавших обезумевших от страха пехотинцев, уродовавших до неузнаваемости этих молодых, здоровых мужиков, неспособных ответить ни единым выстрелом. Прежде чем командиры дали приказ батальону уходить в лес, три роты так и остались лежать за разбитыми бризантными германскими снарядами каменными валиками, которыми капитан Настырко хотел сохранить солдатам жизнь во время боя. На очищенную позицию русских тут же бросились враги, но их остановила и принудила к бегству батарея полевых орудий, вовремя поставленная для обстрела утраченной опушки Новсковского леса.
Бой продолжался два часа. Атаки немцев на русские передовые позиции, охранявшие подступы к фортовой линии Новогеоргиевска, были отбиты на всех участках. Тишина, нарушаемая лишь случайными винтовочными выстрелами, после яростного, дикого грома канонады казалась исступленно-стылой и кромешной. На том поле, по которому стреляла батарея Лихунова, появились люди с носилками и принялись убирать раненых и убитых, но он уже не видел этого.
На батарее, куда Лихунов прошел, все еще носило следы недавнего боя. Канониры, бомбардиры, опустившись на землю, курили, молча, отупело глядя куда-то вниз или, наоборот, закинув голову, смотрели в небо, будто все земное после этого боя было для них невыносимо противно. Курили, оглушенные стрельбой, не замечая или не желая замечать подходившего к ним командира, но ни сам Лихунов, ни командиры взводов, ни фейерверкеры не решились поднимать артиллеристов – сейчас это было бы по отношению к ним настоящей жестокостью.
– Спасибо вам, братцы, – твердым, но негромким голосом произнес Лихунов, подходя к артиллеристам. – Хорошо стреляли. Спасибо.
– Рады стараться, ваше высокоблагородие! – вытянулся пожилой бородатый фейерверкер.
К Лихунову подлетел Кривицкий, сияющий счастьем:
– Господин капитан, ну, вы видели, видели?! Ведь размели же германцев к чертовой матери! Ведь вы хорошо должны были видеть!
Лихунов, снисходительный в эту минуту к свободному, неуставному тону поручика, ответил:
– Неплохо стреляли, господин поручик,– и добавил отводя глаза: – Но можно было кучней стрелять. В другой раз смотрите за тем, чтобы прицелы точнее выставлять. Но в общем – очень сносно.
Кривицкий, огорченный такой похвалой командира, хотел было оправдаться, но в это время к Лихунову подбежал связной с испуганными глазами, сбиваясь, заговорил:
– Вашесыкородие, там… на проводе… вас просють, генерал Колшмит, дивизии командир… пожалуйте…
Лихунов быстро пошел туда, где был укрыт телефон, соединяющий его батарею со штабом дивизии. Дорогой решил, что генерал Кольдшмидт хочет поблагодарить его за отличную стрельбу, и его сердце, не лишенное тщеславия, заколотилось быстрее. Лихунов услышал в трубке шипение, потом чей-то недовольный голос (Кольдшмидта он не знал и голоса его узнать бы не сумел) проговорил в телефоне:
– Кто на проводе?
– Капитан третьей батареи Лихунов,– ответил он. – Командир батареи. – И сразу понял, что благодарить его не будут.
– Так и надо представляться! – уже прокричали в трубке, и по тому, что говорили заметным акцентом, Лихунов понял, что с ним разговаривает Кольдшмидт.– Господин капитан, сколько патронов потратила ваша батарея сегодня? Говорите скорей, скорей!
Лихунов не знал наверняка, сколько снарядов потратила его батарея сегодня, к тому же тон, которым к нему обращались, оскорблял Лихунова, отвечать не хотелось, да и не хотелось думать, подсчитывать залпы.
– А с кем, собственно, имею честь говорить? – спросил он невежливо, вспоминая, что ему не представились и он имеет право на грубость как на ответ невеже.
– Как?!! – уже просто заорали где-то далеко. – Разве вас не уведомили? Я – генерал-майор Кольдшмидт! Я командую дивизией, в состав которой вы вошли! Извольте отвечать немедленно, сколько потрачено патронов!
Лихунов понял – нужно отвечать.
– Приблизительно триста…– коротко сообщил он в трубку, в которой в течение нескольких секунд не было слышно ничего, кроме шипения, но потом голос генерала прогорланил еще более грубо, чем прежде:
– Да вы что, капитан! – кричал Кольдшмидт, словно понял, что триста – это на самом деле много. – Да я вас под суд отдам! В крепости запасы патронов ограничены, а вы тратите в стрельбе по ничтожным целям триста патронов за два часа боя! Не сметь этого делать впредь!
Лихунова затрясло. Слушая гневную речь генерала, он навивал на нервные пальцы шнур телефона, борясь с желанием бросить трубку на рычаг. Когда Кольдшмидт умолк, он дрожащим голосом спросил:
– Ваше превосходительство, это вы батальон пехоты и батарею легких орудий, разгромленные нами, ничтожными целями зовете, да?
– Да! Да! – прокричал командир дивизии. – Ведь не тяжелых же орудий, а легких, легких, вы понимаете разницу или нет?!!
Вдруг Лихунов внезапно осознал, что говорит с неумным человеком, который, несмотря на свое генеральское звание, плохо знает военное дело, задачи и возможности батареи полевых орудий. И ему вдруг стало отчего-то необыкновенно легко.
– Ваше превосходительство, – спокойно и с чуть заметной насмешкой сказал он, – даже для уничтожения легкой артиллерии противника требуются снаряды, а не рекомендации.
На другом конце провода снова задержались с ответом – генерал оценивал смысл ответа, в котором виделась издевка и едва уловимая насмешка в тоне, но, чтобы не давать подчиненному повод воображать, что он имеет право насмехаться над командиром дивизии, Кольдшмидт, видимо, почел за лучшее не обратить внимания на дерзкий тон капитана и, чуть смягчившись, сказал:
– Ну хорошо, капитан. Ваша сегодняшняя удача извиняет вас. Но на будущее знайте – неумеренная трата патронов вас может привести под суд. Понятно?
– Понятно, ваше превосходительство, – уже совсем скромно ответил Лихунов. – Теперь мы будем реже стрелять, станем беречь патроны…
Генерал снова не пожелал увидеть колкости Лихунова или попросту не разглядел ее, поэтому сказал: «Хорошо», и в трубке телефона послышались гудки.
Лихунов снова подошел к Кривицкому, который по бледности и по тому, как было перекошено судорогой гнева красивое лицо командира, сразу понял, что произошел неприятный разговор.
– Их превосходительство звонил, – с глухой яростью сообщил Лихунов своему помощнику, – выговаривал за то, что потратил много патронов по ничтожным, как он выразиться изволил, целям!
Кривицкий совсем по-детски заморгал глазами. Он не мог постигнуть слова Лихунова.
– Как это… по ничтожным?
– А вот так! – залезая в карман брюк за портсигаром, громко сказал Лихунов. – Такими представились ему и батальон, и батарея, разбитые нами!
– Да нет, позвольте! – продискантил Кривицкий. – Генералу, должно быть, не так доложили, он просто не знает о нашем успехе! Чем же можно было достичь его?! Дистанция большая, четыре версты, даже первый залп удачным был! Да что же они, с ума сошли там, в этом штабе?!
– Нет, не сошли они с ума, – уже спокойно возразил Лихунов. – Попросту, я думаю, командование дивизии, да и крепости в целом, считает передовые позиции маловажными в оборонном отношении, на форты свои надеются, за толстыми стенами которых будто и можно спрятаться, что и решит исход сражения за крепость. А поэтому, зачем же воевать здесь, на передовых?
Лицо Кривицкого посмурнело. Он выглядел мальчиком-подростком, который оскорблен совершившимся в его присутствии чьим-то гадким, неблагородным поступком. Юноша испытующе посмотрел на Лихунова:
– Константин Николаевич… почему вы так думаете?
– Да уж, наверное, есть основания… – небрежно и уклончиво сказал Лихунов, прислоняясь к щиту орудия и затягиваясь папиросным дымом. Кривицкий, догадываясь о том, что командир не фантазирует, тяжело вздохнул:
– Ну, если это правда, значит, командование Новогеоргиевска хочет сдать крепость немцам с полным боевым комплектом. – Поручик произнес свою фразу серьезно, но его лицо сразу же повеселело, и легкомысленным тоном, который так не любил Лихунов, он спросил: – Господин капитан, а может быть, этот немец Кольдшмидт своих жалеет попросту? А? Не может разве такого быть?
Лихунов строго посмотрел на Кривицкого, и тот сразу же притих, как-то сжался и перестал улыбаться.
А рядовые уже не сидели у пушек, прижатые к земле усталостью и сознанием тяжелого, страшного и богопротивного дела, чинившегося в течение двух часов. Многие из них впервые побывали в бою, а некоторые в первый раз стреляли из пушек. Такие почти полностью оглохли и теперь ходили по батарее хмурые, тяжело переживая свою ущербность, думая, что останутся глухими навсегда. Этих фельдфебели не трогали, предоставляя их сами себе, – жалели. Другие же канониры, довольные тем, что прекрасно стреляли сегодня, чистили пушки, уносили в резерв лотки со стреляными гильзами, подносили на руках боеприпасы, с осторожной бережливостью укрывали в нишах, специально отрытых для снарядов. Все здесь, на батарее, жило привычной, скупой военной жизнью, где люди, не имея многого, привыкали пользоваться малым, выучивались получать радость, наслаждение даже от того, что имелось рядом, под руками, чего не мог лишиться и каторжный даже: солнечного неба, воздуха, возможности ощущать свое тело живым, способным двигаться и даже получать удовольствие от каждого движения.
ГЛАВА 16
До самого конца июля изо дня в день отражались атаки немцев на передовых позициях Новогеоргиевска, но Лихунов знал, что атаки эти настоящим штурмом крепости назвать нельзя, а главное начнется лишь тогда, когда к Насельску по железной дороге будут подвезены большие орудийные калибры, трехсотпятимиллиметровые и четырехсотдвадцатимиллиметровые гаубицы, копавшие своими ужасными бомбами воронки десятиметрового диаметра. Но пока этих орудий не было, и русская передовая держалась, хотя и с трудом, лишь при поддержке полевой артиллерии, но все-таки держалась. Немцы обычно шли в атаку тесными шеренгами, молча и не стреляя на ходу, и русская пехота, засевшая в окопах, помнившая, должно быть, носившийся в воздухе слушок о приказе на передовых не задерживаться долго, окопы покидала, не решаясь принять штыковую немцев. И только лишь когда вступала в дело полевая артиллерия, резавшая шрапнелью наступающие ледяным строем колонны германских солдат, пехота русских, слушаясь приказа своих желторотых командиров, бросалась в атаку и прогоняла остатки вражеских батальонов на приличное расстояние от окопов, которые тут же и занимали хозяева.
Батарее Лихунова часто приходилось отбивать атаки немцев даже ночью, и требование об открытии огня он получал обычно по телефону, когда в трубку кто-то неизвестный начинал кричать: «Немцы наступают! Немцы наступают! Немедленно откройте огонь, или мы отойдем!» – «Куда стрелять?» – «По немцам, по немцам, говорю!» И лишь благодаря какому-то обостренному чутью, по звукам выстрелов, выбирал Лихунов на восьмиверстовом фронте нужное направление для стрельбы своей батареи, и снаряды с воем летели в это черное пространство, обрушиваясь на не подозревающих об опасности людей, которые гибли от безжалостной, неумолимой силы посреди черного ночного поля.
Но случалось и так, что Лихунов давал приказ открыть огонь, не дожидаясь распоряжения начальства дивизии, и хорошо, если патронов при этом тратилось немного, – его удачных действий попросту не замечали, но в случае перерасхода боеприпасов тотчас следовал по телефону строгий выговор от Кольдшмидта, и снова он скрежетал зубами и проклинал прогнившую до вони российскую военную систему, бездумную, жестокую и порочную. Когда же Лихунов во время боя, командуя огнем, вдруг приглашен был к аппарату телефонистом и услышал требование немедленно подать в штаб дивизии сведения о количестве покрасочных материалов, имеющихся на батарее, он, забыв всякую осторожность, заорал на говорившего так громко, пытаясь объяснить, что во время отражения атаки подобные вопросы не решаются, что испугался сам себя, своей ярости, в которой, понял он, захлебнулось уже все его доброе отношение к людям.
А крепостная артиллерия, имевшая в своем составе до полутора тысяч орудий, борьбе на передовых помогала плохо. В спокойные дни ее снаряды летели куда-то в пустое пространство, но в нужную минуту ее содействия было невозможно допроситься. Крепостные упорно стреляли не туда, куда было необходимо для отражения атак, или, что еще хуже, – по своим. Лихунов не мог понять, отчего это происходит – от слабых знаний артиллерийской науки или попросту от злой небрежности, вселенского наплевательства или все той же глупости. За резервом батареи, у отведенных подальше передков стояло дерево – довольно-таки высокий тополь, который был облюбован наблюдателем от крепостных, веселым малым, игравшим на гармонике, не спускаясь с тополя. Всем нравилась его игра, Лихунову даже, но никто не мог понять, что может видеть этот наблюдатель оттуда и когда он сообщает своей батарее сведения о противнике. Лихунов, прекрасно зная, что с тополя обзор плохой, предложил было гармонисту воспользоваться его наблюдательным пунктом с широким обзором, на что весельчак с улыбкой ответил, что командиру его батареи сведения и не нужны, что сидит он здесь для блезиру, а крепостные пушки палят по карте и, по обыкновению своему, без наблюдателей обходятся.
Не могли помочь наблюдению и русские аэропланы – их было слишком мало, да и вылетали они крайне редко. Зато немецких появлялось в небе день ото дня все больше и больше. Со стрекотом они парили над русскими позициями, иногда бросали бомбы, но по большей части пытались засечь батареи. Когда появлялся германский аэроплан, Лихунов уже знал, что стрелять нельзя – засекут. Еще совсем недавно, правда, он не мог понять, зачем поднимается аэроплан, едва он начинает отвечать на огонь немецких батарей, но присмотрелся, и стало ясно. Германцы нарочно открывали артиллерийскую стрельбу, желая вызвать огонь противника, и сразу посылали в небо машину. Тут же затихали русские, улетал аэроплан, и снова начинала свою работу имперская артиллерия. О, Лихунов уже прекрасно стал понимать, что неприятель куда хитрее их.
А немцы постепенно, день за днем, захватывали у русских кусок за куском и везде тотчас начинали методично трассировать окопы, копали их лопатами, усердно и безостановочно, понимая, как им нужны хорошие окопы, копали их и специальными машинами, рыли разветвленные, как кротовьи норы под землей, ходы сообщения. Они укрепляли каждую пядь земли, зная, что укрепленная ими земля – уже их, немецкая земля, уйти с которой они уже не посмеют, а выбить их отсюда будет просто невозможно. Так же методично, как строили они свои окопы, немцы убирали и оставленный хлеб, молотили его даже с помощью пленных польских жителей. Зато командование Новогеоргиевска, надеясь, наверно, на огромные запасы сибирского мяса, хранящегося в огромных холодильниках, о сборе хлеба на прилегающих к крепости полях совсем не думало, хотя и готовилось к длительной осаде, имея, кроме почти стотысячного гарнизона, еще и массу голодных беженцев, среди которых, как это обычно и бывает в голод, могли начаться инфекционные болезни, приостановить которые сибирским мясом было бы, конечно, невозможно. Русские, правда, тоже кое-где снимали польский хлеб, но пускали его на корм лошадям, потому что от интендантства выпросить фуражного сена представлялось делом очень трудным.
В начале двадцатых чисел июля силы немцев, заметил Лихунов, увеличились значительно. Раньше, он видел в свою прекрасную стереотрубу, они передвигали батареи с места на место, пехоту тоже, смотря по надобности, теперь же орудий, хоть и не тяжелых, было на фронте гораздо больше, и часто четыре-пять батарей сразу отвечали на его огонь. Лихунов знал, что немцы уже заняли Варшаву и кольцо вокруг Новогеоргиевска сомкнулось. Знал он также и о том, что войска принца Леопольда Баварского взяли на Южном фронте Пальмирские высоты, откуда можно обстреливать новогеоргиевскую цитадель. Все ближе и ближе подкрадывались немцы к передовым позициям русских, и не знал Лихунов, что генерал Безелер – «покоритель крепостей», дождавшись того, что германские солдаты уже достаточно сильно укрепились перед окопами русских, уже снимает с огромных платформ сорокадвух– и тридцатисантиметровые гаубицы – всего пятнадцать тяжелых орудий, которых так боялись русские. Нужные для быстрого успеха силу и отвагу генерал Безелер мог ожидать от своей пехоты только тогда, когда ей проложит путь тяжелая артиллерия.
Но Лихунов еще не знал об этом, как не знали о подвозе страшных гаубиц, стреляющих «чемоданами», пехотинцы, с которыми ему приходилось встречаться. Эти простые люди, чьи души были малопонятны Лихунову, откровенно признавались «чужому» офицеру в том, что сидят в окопе по одной лишь присяге царю и отечеству, часто стреляя куда-то просто «в молоко» или «в солнышко», потому что не стрелять – нельзя. Ни до чего им дела нет, ни до себя, ни до немцев, ни до причин, вовлекших их в это бесполезное, злое дело, ни до мира вообще. Они, эти простые, не обремененные и прежде великим разумом люди, теперь и вовсе разучились думать и производили все свои действия почти машинально, потому что пусти они в ход свой рассудок, как тут же явилась бы крамольная мысль о том, что воюют они совсем зазря, и убивают тоже зазря, и умирают тоже напрасно, и что можно не убивать и не умирать, а быть сейчас подле своих родных в деревне или в городе, делать нужное себе и другим дело, есть щи и пить водку, спать с женой и просыпаться для мирного дела разбуженными звонким петушиным криком, а не скрежещущим воем снарядов.
Пехотинцы жаловались Лихунову, что герман стреляет по ним разрывными пулями, теми пулями, что вставлены в гильзу тупой стороной вперед, с поврежденными оболочками. Рассказывали, что раны, такими пулями наносимые, вырывают огромные куски из человеческих тел. Кровь, льющуюся из таких ран, остановить почти нельзя, и даже попадание в место неопасное часто приводит к смерти. Заживают эти раны плохо, долго заживают, оставляя страшные рубцы и шрамы. Лихунов вначале рассказам этим верить не хотел, полагая, что немцы договора о запрещении пуль разрывных нарушить не посмеют, но потом увидел и раны эти, и пачки патронов с разрывными и попорченными пулями, что были найдены в подсумках убитых немцев. Долго смотрел он на страшные патроны, потом заявил решительно и твердо окружившим его пехотинцам:
– И вы переворачивайте пули, клещами скусывайте часть оболочек! Чего на них смотреть?
Но пехотинцы смущенно переминались с ноги на ногу, потом за всех ответил пожилой, красивый унтер с медалью «За храбрость» на линялой гимнастерке:
– Так ить люди… негоже…
Лихунов заорал на солдат:
– Да почему же негоже-то?!! Для них-то гоже, они вон вас уродуют, на части разрывают такими пулями, головы ваши мозжат, а вам стыдно! С врагом равным оружием сражаться надо! Только тогда и можно на победу надеться, а вы – негоже!
Солдаты, испугавшиеся было его крика, понуро смотрели в землю, жалея о том, что не так ответили господину обер-офицеру, но унтер с медалью на груди повторил «негоже», но теперь уже с твердостью убежденного в своей правоте, и другие, видя его твердость, тут же воспрянули духом и уже глядели на Лихунова уверенней и видели, что их высокоблагородие чего-то недопонимает, но что объяснить ему будет трудно, почти невозможно, и они разошлись.
Чем дольше стояла батарея на позиции, чем дольше отражала она атаки немцев, становившиеся день ото дня все ожесточенней, упорней, тем более заметна Лихунову становилась усталость артиллеристов. Нет, не физическая усталость страшила его. Он знал, что эти люди, работавшие в прошлой своей мирной жизни, возможно, куда больше, чем сейчас, уже втянулись в каждодневный труд у пушек, совладали с усталостью первых дней и теперь уже почти ее не ощущают. Но утомленность психическая, когда изо дня в день тебя оглушает грохот пушек, необходимость быть предельно внимательным с прицелом, с дистанционной трубкой на снаряде, с замком орудия. К тому же батарея обстреливалась постоянно, и были жертвы, хоть и небольшие, правда, но способные стать доказательством того, что ты не вечен и завтра то же самое может случиться и с тобой. Особенно же, видел Лихунов, утомляли батарею отражения ночных атак. Темнота многое осложняла: не видно было лиц товарищей, ни снарядов, ни орудий. Артиллеристы работали лишь на каком-то бессознательном чутье, на вере в заученность, отточенность движений, когда совершенно не чувствуешь себя человеком, имеющим сознание, привычные способы ощущать, но становишься каким-то незрячим нетопырем, сообщающимся с миром одними лишь ушами, кожей и еще чем-то, вовсе непонятным, неизвестным, нечеловеческим.
Лихунов видел, что артиллеристы утомлены, подолгу молчат, все реже собираются кучками, но если собираются, то говорят о чем-то шепотом и замолкают, когда кто-нибудь из офицеров подходит к ним. И Лихунов боялся. Он, побывавший на Карпатах, помнил страшные картины внезапного помешательства некоторых солдат, когда после боя они начинали кататься по земле, рвали на себе одежду, рыдали, остервенело бранились или богохульствовали, начинали стрелять в своих или стрелялись сами. Другие, наоборот, словно теряли дар речи и неподвижно сидели, широко открыв глаза и устремив их неизвестно куда. Ни уговоры, ни приказы, ни крик на таких не действовали, и их увозили в госпиталь, потому что они производили более тяжелое впечатление на здоровых, чем буйнопомешанные. И Лихунов очень боялся такого срыва, боялся, что кто-нибудь не выдержит и его поведение тут же пробудит во многих слабость, неуверенность, заразит микробом психопатии всех остальных, и тогда – батарее придет конец. «И ведь еще не работали большие калибры! – со страхом думал он.– Так что же будет потом, когда немцы станут бросать на батарею „чемоданы“»?
Однажды вечером, оказавшимся на удивление тихим, Лихунов услышал голоса беседовавших артиллеристов. Собравшись в кружок у костерка, они варили что-то в закопченном котелке. Говорил белобрысый сибиряк Фомин, тот, которого нещадно ругал фельдфебель за незнание материальной части. Рядом с Фоминым сидел Левушкин, изнуряемый, знали все, какой-то внутренней медленной болезнью, слушал рассказчика приоткрыв рот, серьезно и благоговейно, да и все артиллеристы выражали лицами своими внимание самое пристальное.
– Так когда же ты видел ее, Илья? – расслышал Лихунов заданный смолкшему рассказчику вопрос.








