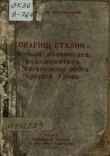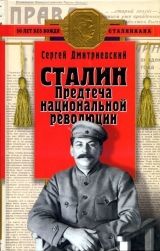
Текст книги "Сталин (Предтеча национальной революции)"
Автор книги: Сергей Дмитриевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Иногда – последнее время все чаще – он уезжает на несколько дней в одно из загородных имений. Там так же много, как и в городе, работает. Но много и гуляет. Свежий воздух – для него потребность большая, чем пища. Отдыхает обычно за пианолой. Говорят, он радовался как ребенок, когда ему впервые привезли пианолу. Изумительное изобретение: не надо знать музыки – и можно тем не менее разыграть самую сложную вещь. Душа дикаря радуется. Он любит такие чудеса техники. Когда он сидит за пианолой и из-под его грубоватых и сильных пальцев выходят любые звуки, именно те звуки, какие он поставил задачей извлечь, до самых нежных, – ему кажется, что он творит. Техника великая вещь! И, вероятно, он не раз думает:
– Почему мир, почему жизнь, почему люди не устроены так же, как пианола?
III
Он родился в 1879 г. в Грузии, в городке Гори Тифлисской губернии. Его семья – крестьяне села Диди-Лало той же губернии.
Под горячим солнцем Закавказья он быстро рос и креп. Пас баранов, водил лошадей, стриг виноградник. В свободные часы карабкался по горам со стаей таких же, как он, бесстрашных оборванцев, командовал ими, был их вождем. Это были счастливые годы. Воспоминания о них – почти единственное, что и сейчас, в сегодняшней напряженной и мрачной его жизни, падает в душу, как солнечные пятна, согревает ее, сгоняет с лица суровые складки, на минуту освещает его естественной, простой, почти детской улыбкой – и вызывает потребность рассмеяться, пошутить, грубовато, но беззлобно.
Вот он проходит по комнате своего секретариата. Все напряженно ждут: сухого замечания, короткого поручения, грубого окрика. Он останавливается возле личного своего секретаря, несколько секунд задерживается на его тощей, высокой фигуре, на замкнуто-молчаливом лице – и вдруг говорит:
– Знаешь что, Товстуха… У моей матери был козел, страшно на тебя похожий. Только он не носил пенсне.
Глаза, которые смотрят на Товстуху, не знающего, смеяться ему или обидеться и еще более замкнуться, прячут в глубине что-то любовное, даже нежное. Не думает ли управляющий ими мозг:
– Это, очевидно, хороший человек, ему можно довериться, с ним можно работать, – ведь недаром он так похож на приятеля детства, материнского козла.
Лицо Товстухи расплывается в неловкой, застенчивой, но довольной улыбке…
Это секунды. Сталин опять замыкается. Тяжело захлопывается дверь кабинета. За широким столом опять сидит недоступный диктатор, всех подозревающий, никому не доверяющий, никого не любящий. И все-таки несколько секунд, обвеянных теплым ветерком детства, сближают и связывают двух людей.
…Потом он учился: сначала в Гори, в духовном училище, потом в Тифлисе, в православной духовной семинарии.
В дальнейшем должен был пасти людей – может быть, в родном селе.
Жизнь была бы размеренная и ясная.
Он имел бы маленький дом, виноградник, лошадь, стадо баранов, пугливую и тихую жену, кучу детей. Гортанным кавказским голосом читал бы молитвы, поучал людей, разбирал бы несложные их дела, ссыпал бы в глубокие карманы рясы потные пятаки, пересчитывал бы кульки приношений – и сурово выговаривал бы тех, кто принес слишком мало. Работал бы до изнеможения в собственном поле, на винограднике. А вечером у окна тихо курил бы трубку перед стаканом мутного домашнего вина. Жена, укладывая спать детей, пела бы унылую однотонную песню. Облака, одно как другое, бесконечной вереницей ползли бы над синими верхушками гор. Этими горами была бы отграничена от всего мира его жизнь – и была бы однотонной и унылой, как песня жены, как полз облаков…
Вероятно, отец мечтал для него именно о такой жизни, как о величайшем счастье. И если б отец был жив, и все в том же селе, и сын приехал бы к нему сегодня, в расцвете своей необыкновенной судьбы, – старый Джугашвили сказал бы то же, что писал как-то отец-крестьянин Авелю Енукидзе, бессменному секретарю всесоветского ЦИК’а:
– Бросай все, приезжай домой, садись за дело. Хозяйство разваливается, работать некому, а ты глупостями занимаешься. Дурак!
Сосо Джугашвили рано разочаровал отца. Он не хотел быть православным священником. Судьба смиренного служителя религии сильных и богатых не привлекала его. Рано начал он задумываться о жизни. Глаза у него были пытливые и широко раскрыты: он вбирал ими не только яркое солнце, синее небо, сочную зелень родной страны. Он видел нищету, рабство, согнутые спины, выжженные глаза. Когда отец переехал в Тифлис и стал сапожником, сын помогал ему иногда в работе. И каждый раз, когда он брал в руки принесенную для починки обувь, она говорила ему то же, что улицы городов и простор полей, лица людей и покатые бока скота. Он ставил рядом уродливый башмак бедняка и блестящую туфлю – игрушку с барской ноги – и видел перед собой изуродованный несправедливостью мир. Нет, нет. Он не хотел умерять елеем сладкой лжи гнев и скорбь обездоленных.
Но что другое оставалось ему? Под спокойной внешностью трепетала страстная душа: требовала действий, борьбы, подвига. Может быть, уйти в горы, стать разбойником? Это тоже было почетным занятием на его родине. И в детских играх он не раз подражал героям родных гор, друзьям бедных, врагам богатых. Но это не было выходом для него теперь, в годы зрелой юности. Под низким лбом ровными пластами лежал практический, реальный, уравновешенный мозг. Романтика прошлого была не по нем. Так что же все-таки делать? Куда идти? – Он рано начал читать – и много читал. Это были девяностые годы прошлого столетия. Общественная мысль России переживала тогда медовый месяц увлечения марксизмом. Сухие и точные формулы этого учения как нельзя больше отвечали складу сталинского ума и его воспитанию. Он недаром начал формироваться в человека в духовной семинарии. Что-то общее было меж догмой марксизма и догмой учения святых отцов церкви. Та же обманчивая схематическая простота. Надо только усвоить несколько основных положений – и мир становится ясным, как глаз барана. Марксистские книги указали молодому Джугашвили путь.
Он не стал ни священником, ни разбойником, но сочетал и то и другое. Сочетал оба метода воздействия на людей: идейное убеждение и физическое насилие. Стал революционером.
В 1897 г. его исключают из семинарии за «политическую неблагонадежность». В 1898 г. Сталин вступает в тифлисскую организацию только что образовавшейся Российской социал-демократической партии. Ведет пропагандистскую работу в кружках железнодорожных и фабричных рабочих. В 1900 г. учреждается тифлисский комитет партии. Сталин становится его членом, а вскоре и одним из руководителей. В этот период, рассказывает его официальная биография, рабочее движение в Тифлисе начинает выходить из рамок старой, чисто пропагандистской работы с «выдающимися единицами» из рабочих. Агитация в массах путем листовок на злободневные темы, путем летучек и политических демонстраций против царизма становится злобой дня. Разгорается спор между «стариками», сторонниками старых методов чисто пропагандистской работы, и «молодыми», сторонниками «улицы»… Сталин на стороне «молодых»: его тянет к живым массам, к живому делу.
В этом же периоде он сталкивается с одним из друзей и приверженцев Ленина, Курнатовским, играющим большую роль в революционном движении Закавказья. Курнатовский знакомит Сталина с идеями Ленина. Вскоре Сталин крепко примыкает к Ленину – и становится уже на всю жизнь священником – воином его религии: якобинского марксизма, русского коммунизма, ленинизма.
IV
В маленькой каморке рабочего района Тифлиса над грудами книг и брошюр сидит молодой Сталин и размышляет.
Почему он стал именно марксистом? – Он вышел из крестьянской семьи. Был сыном страны, где преобладали интересы крестьянина и мелкого ремесленника, но не промышленного пролетариата крупных городов. Почему же он выбрал орудием борьбы учение, ставившее во главу угла именно интересы промышленного пролетариата, учение, такое далекое как будто своеобразным условиям России и особенно Закавказья? – Потому же, почему это учение в конце девятнадцатого века стало откровением для большей части русской интеллигенции.
Конец девятнадцатого века принес России неожиданный и бурный рост промышленности. Вместе с промышленностью вырос и обратился в потенциальную силу и русский рабочий класс. И в нем в первый раз за все свое существование революционная интеллигенция России нашла наконец тот рычаг, посредством которого – казалось ей – можно было осуществить заветную мечту о революции и повернуть на новый путь народные судьбы.
До тех пор революционная интеллигенция была слишком одинока в своей борьбе с царским самодержавием – и потому из этой борьбы ничего или почти ничего не выходило.
Вначале, когда во главе движения стояло либеральное дворянство, пытались действовать привычным ему методом военно-дворцового переворота. Ничего не вышло. Слишком узок был круг этих революционеров. Не на кого им было опереться. От своего собственного, дворянского круга они оторвались, выступали против его интересов, от народа же были страшно далеки.
Их преемники – революционеры-разночинцы 60-х и 70-х годов уже ближе стояли к народу, но все-таки недостаточно. Они пошли было в крестьянский народ. Решили, что он прирожденный социалист и революционер и стоит только разбудить пропагандой дремлющие в нем бунтарские инстинкты, чтобы он поднялся как один человек. Народ остался глух. Он жил жизнью, слишком отличной от жизни европеизованной интеллигенции, мыслил иначе, чем она, не понимал ее, как и она его не понимала. В то же время народ был слишком измучен тяжелой судьбой – и его усталая душа не подымалась еще ни на какой протест. Он боялся потерять и то немногое, что имел. Скоро революционеры разочаровались в возможности вызвать революционную самодеятельность масс.
Вот как описывает свое хождение в народ вождь народовольцев Желябов: «Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу; а чтобы сблизиться с ней, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по шестнадцати часов в поле, а возвращаясь, чувствовал одну потребность – растянуться, расправить уставшие руки или спину, и ничего больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомата. И понял наконец так называемый консерватизм деревни: что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба, до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого, являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжкого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего думать.
Насильно милым не будешь. Почти в таком же положении и фабрика. Здесь тоже непомерный труд и железный закон вознаграждения держат рабочего в положении полуголодного волка… Ты был прав, окончил он, смеясь, история движется ужасно тихо, ее надо подталкивать».
И начали подталкивать историю. Сказали: «вызвать революцию можно не организацией в слоях народа, а, наоборот, сильной организацией в центре можно будет вызвать революционные элементы и организовать из них революционные очаги». Потом пошли еще дальше и сказали: революция произойдет только тогда, когда сплоченная организация революционеров-заговорщиков захватит верховную власть в стране. Власть – это все. Имея власть, можно согласно своим идеалам переделать народную жизнь и самый народ.
Главным орудием борьбы сделали террор. Физическим уничтожением носителя верховной власти и его ближайшего окружения думали дезорганизовать самодержавие, создать обстановку, благоприятствующую захвату власти революционной организацией.
Террор скоро из подсобной задачи обратился в основную и единственную. И скоро оказалось, что им ничего не достигается. Убили одного царя. Только по случайности не убили другого. Казнили ряд сановников. Но самодержавие стояло на месте – не менее мощным, чем было. Мало того. В ответ на террор революционеров оно усилило свой собственный – усилило и общий гнет в стране. Под ножом правительственного террора силы революционеров таяли с каждым днем. За смерть одного сановника правительство платило казнью десятка революционеров. «Мы проживаем капитал», – говорил тот же Желябов. А либеральное общество, перепуганное террором и революционеров и правительства, отшатнулось от террористов. Народные массы по-прежнему молчали. Единоборство кучки революционной интеллигенции со всесильным самодержавием кончилось полным ее разгромом. Большая часть интеллигенции кисла, опустила безнадежно руки.
Началась реакция восьмидесятых годов: полоса «мелких дел», культурничество, земская работа, школы, больницы, кружки самообразования, личное самоусовершенствование. Мысль о революции, о захвате власти, коренном переустройстве русской жизни была, казалось, оставлена навсегда. Она тлела еще, но именно только тлела – в ничтожных, не влиятельных группах. Большинство же русской общественности начало мечтать уже не о свержении самодержавия, но о сотрудничестве с ним, не о революции, но о самой хотя бы маленькой реформе. А правительство отнимало одну за другой реформы прошлого.
И вот приходят девяностые годы, рост рабочего класса, рост его сознательности, рабочие волнения, массовые стачки. Рабочий девяностых годов не был уже тем забитым жизнью человеком, которого описывал Желябов. Он осознал себя силой. И вот внезапно как-то перед интеллигенцией, вчера еще чувствовавшей себя одинокой, непонятой, ненужной, оказался широкий слой народной массы, живший, как и она, под воздействием европеизованного города, мысливший поэтому близким ей образом, поддававшийся ее воздействию. В русской жизни распахнулось как будто широкое окно. Активная часть молодого поколения поспешила поднять вывалившееся было из рук отцов знамя революции.
Новые формы движения требовали и новой теории. Старые русские теории под народом почти исключительно понимали крестьянство. Собственную теорию, подходившую задачам работы с новой силой, рабочим классом, русская жизнь не успела создать. Теорию взяли с Запада. Так пришли в Россию идеи марксизма. И, пожалуй, ни в одной стране так быстро и так широко не распространялись они, как в России конца девятнадцатого века. Захлестнула волна марксистских идей и далекое Закавказье, где тоже к этому времени начала строиться промышленность и появился промышленный пролетариат. Он, Сталин, попал в общую волну – и стал марксистом.
V
Но скоро Сталин, как и большинство активной молодежи России, заметил, что механически усвоенный ими европейский марксизм их не удовлетворяет.
В первую очередь молодежь России пришла к выводу, что марксизм, принесенный в Россию, не был революционной теорией. Марксизм был принесен в Россию в том виде, каким он стал на Западе в конце девятнадцатого столетия. Это не был якобинский марксизм сороковых и пятидесятых годов, питавшийся от тех же революционных источников, что и русская мысль той же эпохи. Это был выхолощенный марксизм эпохи политического декаданса, марксизм старости, артериосклероза, марксизм бездейственных и продажных парламентов, партийных и профессиональных канцелярий.
«Мы искали смелое и молодое лицо богини баррикад, – пишет в письме другу один из марксистов той эпохи. – Вместо этого мы увидали старую подмазанную куртизанку. Мы с отвращением отвернулись от нее…»
Это были жестокие и немного слишком напыщенные слова. Но в них было много правды. Европейский марксизм не соответствовал темпераменту активных слоев русской молодежи того времени. Эта молодежь стремилась – по примеру своих предшественников, семидесятников – к революции: к революционной диктатуре, к безраздельному захвату власти, к коренному переустройству народной жизни. Она рвалась на баррикады, к революционным боям. А европейский марксизм звал ее к терпению, к вере в стихийность исторического развития, предлагал довольствоваться маленькими компромиссами, тощими косточками со стола господ.
Марксизм говорил: если капитализм неизбежен, если капитализм в своем развитии неизбежно меняет и политические формы, так, как он изменил их на Западе, – то зачем же толкать историю? – Россия должна прийти и придет к западному парламентарному строю.
Точно так же когда-нибудь придет и социализм. Надо только верить в силы пролетариата. Если пролетариат стихийно влечется к социализму, потому только, что он пролетариат, то опять нет надобности толкать историю: ничто не сможет свернуть пролетариат с его исторического пути, и социализм, независимо от активности или пассивности нашей, будет.
Зачем же тогда горячиться, зачем безрассудная борьба, истощающие усилия, ненужные жертвы? Нужна ли вообще политическая борьба? Не лучше ли основное внимание сосредоточить на экономических, бытовых вопросах, облегчать, устраивать материальную жизнь рабочих? А если уж бороться, то надо бороться в пределах реальности, бороться за достижимые цели, а не зарываться, не прыгать в неизвестность, не пытаться перескочить через неизбежные стадии развития. История Запада говорит, что на смену полуфеодальному строю царизма придет буржуазный демократический парламентаризм. Скачков история не знает. Следовательно, революционные задачи пролетариата сводятся сейчас к одному только: к завоеванию власти для русской буржуазии.
Но молодежь не хотела ждать. Она не хотела таскать из огня каштаны для других. Буржуазии своей она так же не доверяла, как и самодержавию. Она не отделяла одно от другого. Она помнила старые слова Михайловского: «Россия только покрыта горностаевой царской порфирой, под которой происходит кипучая работа набивания бездонных приватных карманов жадными приватными руками. Сорвите эту когда-то пышную, а теперь изъеденную молью порфиру, и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазию. Она не отлилась в самостоятельные политические формы, но только потому, что ей так удобнее исполнять свою историческую миссию расхищения народного достояния и присвоения народного труда… Европейской буржуазии самодержавие – помеха, нашей буржуазии оно – опора». В правильности этой старой мысли русская молодежь убедилась в первую революцию, когда русская буржуазия сомкнутым строем стала на защиту самодержавия против народа.
Первое, что сказала себе русская молодежь, всмотревшись в усвоенный ею марксизм:
– Назад к марксизму сороковых и пятидесятых годов! К якобинскому революционному марксизму.
…Но скоро выяснилось, что одной реставрации революционного содержания марксизма недостаточно, чтобы сделать его приемлемой для России теорией. Выяснилось, что марксизм вообще, даже очищенный марксизм, русским условиям не подходит: не покрывает жизненных запросов страны, не объясняет ее конкретной действительности. Марксизм прежде всего не мог разрешить аграрного вопроса в соответствии с интересами русского крестьянства. Марксизм вообще не понимал крестьянства – и не мог на него опереться. Он имел двух идолов, которым поклонялся: буржуазию и пролетариат. Что до крестьянства, то он почти совсем скидывал его с исторических счетов, рассматривал его, во всяком случае, не как силу будущего, но как какое-то историческое недоразумение, как промежуточный слой человеческих масс, обреченный на неизбежную гибель под колесницей капитализма и пролетаризации. Все это вполне понятно. Марксизм исторически не мог сомкнуться с крестьянством: он возник на Западе и в странах, где крестьянский вопрос вообще не играл такой большой роли, сложился в твердую догму в эпоху, когда крестьянские интересы временно были отодвинуты историей Запада на второй план. Но и на Западе однобокая узость марксизма, как чисто городской и построенной на временной и случайной конъюнктуре теории, должна была рано или поздно привести либо к его затуханию, либо к коренной реформе. В России же, по мере дальнейшего развития ее истории и прояснения сознания ее революционеров и ее народных масс, чистый марксизм неизбежно должен был оказаться в конце концов совершенно не ко двору – и быть выброшенным на свалочное место истории, как не нужная никому ветошь. Ибо в России крестьянские интересы стояли во главе угла. В России крестьянство было основным слоем населения и решающей исторической силой. Именно крестьянский вопрос создавал в России революционную обстановку, – и именно только переход крестьянства на сторону революции мог обеспечить ей успех. Это сказалось уже в первые годы двадцатого столетия, когда волна крестьянских беспорядков – и именно она – заставила задрожать царский строй. Это сказалось с особенной силой в революцию 1905 г. – отлив крестьянской волны обрек революцию на поражение, несмотря на все усилия пролетариата и революционной интеллигенции. Наконец, только крестьянство решило судьбу революции 1917 г. – как оно же решит и судьбу сегодняшнего дня.
Не разрешал марксизм и сложного в России национального вопроса. Не разрешал он многого другого. Самое главное: он не понимал и потому отрицал глубокое своеобразие русского исторического развития, навязывал России рабское подражание европейскому пути, повторение всех его стадий.
Вначале всего этого не замечали – пока борьба из подпольных каморок революционеров, от споров за чайным столом, не перешла в самую жизнь. Частью же не хотели этого замечать. Были слишком увлечены отрицанием старых теорий социализма, которые не сумели в свое время поднять на революцию массы, а поэтому, как казалось, никуда не годились. Слишком боялись отступиться от новой теории, чтобы не оказаться ни с чем, в идейном обнажении. И потому долгое время вместо коренной переделки марксизма, вместо приспособления его к русским условиям, пытались Россию приспособить к нему, насилуя для этого факты, цифры, всю свою политику. В конце концов зашли в тупик. В результате значительная часть нового революционного поколения, вступившего в жизнь в начале двадцатого века, отвернулась от марксизма, которым вначале так пылко увлеклась, вернулась к реформированным формам русского народнического социализма. Другая же – меньшая часть – пошла по пути переделки марксизма, оставив от него в конце концов только метод. В момент великой революции оба течения встретились: от их слияния образовалась чисто русская, хотя и принимавшая во внимание европейский опыт, революционная теория – ленинизм.
VI
Ленин был тем человеком, которому история поручила организовать русскую революцию: создать ее теорию и тактику, подготовить кадры ее руководителей. Вся жизнь ушла на это: жизнь, полная постоянной борьбы с самим собой и другими, неутомимой и напряженной работы, мучительных исканий, сомнений, тягостных ошибок, жестоких разочарований, радостного предвкушения и переживания побед. Но этой жизни не хватило. Ленин умер, не завершив поставленной перед ним историей задачи. Русская революция с его смертью не кончилась, постройка будущего не была готова. Ее окончание пало на плечи наследников Ленина – настоящих и будущих. Именно наследников: ибо и люди сегодняшнего дня России, и люди ее будущего выросли и вырастают под знаком его идей и дел.
…В 1900 г. тридцатилетний Ленин, отбыв сибирскую ссылку, приехал за границу. Приехал туда уже сложившимся человеком: с большим запасом знаний и опыта, с продуманным планом действий, а главное, с громадной уверенностью в своих силах, с сознанием своей исторической миссии. «В России, в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место», – пишет Троцкий.
Он не мог не чувствовать своей силы уже потому, что ее признавали все, с которыми он встречался и с которыми он работал… Ленин приехал за границу не как марксист «вообще», не для литературной работы «вообще»… Нет, он приехал как потенциальный вождь, и не вождь «вообще», а вождь той революции, которую чувствовал и осязал. Он приехал, чтобы в кратчайший срок создать для этой революции идейную оснастку и организационный аппарат.
Русская социал-демократическая партия в то время формально уже существовала. В 1898 г. состоялся ее первый съезд. Но фактически партии не было. Не было цельности ни теории, ни человеческого материала. Теория представляла собой разный у разных людей в общем довольно бессвязный набор механически усвоенных, не всегда даже понятых формул европейского марксизма. В составе партии были люди разных настроений и темпераментов: и будущие революционеры, и будущие «меньшевики», и вожди либерально-буржуазных течений. Крепкого организационного костяка у партии тоже не было. Не было прежде всего руководящего центра. Большинство самозародившихся местных организаций было разгромлено. Остальные действовали врозь.
В основе планов Ленина лежало: создать за границей, вне ударов царизма, общерусскую политическую газету, как центр идейного и организационного сплочения революционной партии. Газета скоро была создана: «Искра». Она сделала свое дело. Она очистила партию от чисто буржуазных элементов, притянула к ней новые слои революционного молодняка, создала и сплотила ее местные организации, создала возможность выработки первого варианта цельной партийной программы. «Искра» подготовила созыв в 1903 г. второго – фактически же первого, положившего начало ее существованию – съезда партии.
В руководстве «Искрой» объединились «старики» русского социал-демократического движения, люди громадного политического опыта, больших знаний, с громкими именами – Плеханов, Аксельрод, Засулич, – и «молодые», мало кому еще известные, но несшие с собой веяния зарождавшейся в России борьбы, – Ленин, Мартов, Потресов, несколько позднее – Троцкий.
«Старики», несмотря на весь их опыт и авторитет, скоро отошли на второй план. Развивавшаяся в России борьба хотя и зародилась не без влияния их агитации, но развивалась без их непосредственного в ней участия – и живых элементов этой борьбы, конкретной обстановки их бытия они не знали. Они были слишком оторваны от русской почвы – и потому не могли быть руководителями движения, сошли невольно на роль попутчиков. Вождями стали «молодые».
…Русское подполье внимательно следило за развитием «Искры». И особенно внимательно следило за Лениным. Как всегда бывает при зарождении революционного движения, люди, отдавшие себя целиком революционной борьбе, инстинктивно искали героя, вождя, первосвященника, который просветил бы их истинной верой, показал бы настоящий путь, к которому можно было бы слепо и всем существом и на всю жизнь прилепиться. Такого человека до сих пор не было. Такого человека они увидели, почувствовали, вернее, в Ленине.
– Я пришел к выводу, – рассказывает Сталин о своих тогдашних переживаниях, – что в Ленине мы имеем человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с другими руководителями нашей партии, мне всегда казалось, что соратники Ленина – Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие – стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед нашу партию по неизведанным путям русского революционного движения.
VII
Сам Сталин тогда еще не встречался с Лениным. Он знал его, как и большинство работников русского подполья, только по статьям, книжкам да по рассказам ездивших за границу. Те, кому удавалось повидать Ленина, приезжали обратно в восторге и подтверждали его собственные мысли об этом человеке. Они рассказывали все, что они видели и слышали за границей, в революционном центре. Сообщали, что в «Искре» нет уже согласия, что там напряженная атмосфера. По внешности все гладко, но чувствуется, что что-то внутри лопнуло. Хмурятся «старики». Нервничает Мартов. И все недовольны Лениным. За глаза его называют «самодержцем», «социал-демократическим ханом», упрекают в том, что он всех хочет подмять под себя, что он нетерпим, непримирим. Но сами приезжие этого не замечали. Природная властность Ленина им только импонировала. Их она не давила. Наоборот: Ленин им казался ближе всех.
Рассказывали о посещениях Плеханова. Он принимал нехотя, разговаривал свысока. Давал на каждом шагу чувствовать свое превосходство… Особенно неуютно чувствовали себя у него рабочие. Им непривычно было сидеть на мягких стульях в нарядной в сравнении с их русскими рабочими казармами квартире. Их поили чаем, и чай подавали на блестящем подносе в тоненьких фарфоровых чашечках.
– Того и гляди раздавишь!..
Рассказы о России Плеханов слушал неохотно, недоверчиво как-то, всем видом показывал, что он все заранее знает.
А вот когда приходили к Ленину, то там чувствовали себя как дома, как в Баку или в Тифлисе. Гостиной ему служила кухня. Сидели за простым белым сосновым столом, пили чай из простых стаканов, тут же стоял чайник, тут же хлеб. Ленин сам нарезает хлеб, мажет маслом – и непрестанно расспрашивает, всем, каждой мелочью интересуется: и как живут, и что думают, и что делают не только в политике, но и в простой жизни.
– Выйдешь потом от него и думаешь: да ты ведь, батенька, у него весь как на ладони… И никакого стеснения перед ним. И как он нас понимает!
Рассказывали о Мартове, который играл в редакции вторую после Ленина роль. Несерьезный он какой-то, легковесный. Придет, неряшливый весь, взъерошенный, заговорит быстро-быстро, никого не слушая, никому не давая слова сказать, говорит о чем угодно, на любую тему, быстро с одного на другое перескакивает, горячится, руками махает, слюной брызжет. А замолчит – и непонятно, к чему все это говорил, и неясно, что хотел сказать. Все ни к чему как-то. И сам он скоро то, что сказал, забывает…
И дома Мартов был такой же суетливый, бестолковый, беспорядочный. Везде у него ворохами лежат книги, газеты, бумаги. Когда ему что-либо нужно, долго суетится, ныряет в груды бумаг, пока найдет, что нужно. А у Ленина во всем удивительный порядок – и чувствовалось, что тот же строгий порядок и у него в голове, как тот же беспорядок у Мартова. Ленин неохотно слушает мартовскую трескотню – и часто уныло и укоризненно покачивает головой: нет ясности и твердости в Мартове. Приезжие чувствовали, что отношения Мартова и Ленина какие-то ненормальные, натянутые. Они и на «ты» еще, а все какой-то холодок ощущается. Приезжие чувствовали, что это не случайность и непоправимо.
– Разные они люди… Там знаешь, что о них говорят: Ленин твердый, Мартов мягкий. Нет. Долго им вместе не работать.