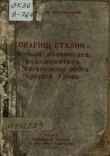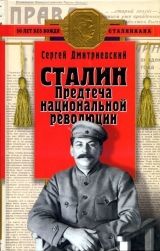
Текст книги "Сталин (Предтеча национальной революции)"
Автор книги: Сергей Дмитриевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Первая попытка была сделана в апреле 1917 г. генералом Корниловым. Он был тогда главнокомандующим войсками Петрограда. Состоялось первое выступление уличной черни против правительства. Корнилов был решительный и твердый человек. Он решил пресечь беспорядки в корне – сделать их невозможными в дальнейшем. Он приказал выкатить пушки, чтобы артиллерийским огнем ввести в берега революционную улицу. Другие аргументы – полагал он – бесполезны. Вероятно, он сумел бы увлечь за собой известную часть даже разложившихся войск Петрограда – тогда не было еще поздно, да и было в этом маленьком генерале с железной волей громадное обаяние, заставлявшее людей идти за ним. Вероятно, он достиг бы нужного: малой кровью улицы, да пары-другой олигархов предотвратил бы ужасы крови большой, будущей гражданской войны.
Но члены Советов почувствовали запах ненавистной им национальной диктатуры. Увидели себя сбрасываемыми с кресел власти. Некоторые ощутили у шеи жесткое трение веревки. Поднялась паника.
Смутились связанные с Советами члены правительства. Смутились все сторонники «демократии» и «народовластия». Они тоже хотели порядка, но чтоб он пришел как-то сам собой, не из руки железного генерала.
Войскам был отдан приказ не слушаться своего командующего, не выходить из казарм, если распоряжение не будет санкционировано Советами. Корнилов был смещен. Революционная чернь победила – и разнуздалась еще больше. Именно с этого момента правительство перестало быть правительством. И именно с этого момента национальные круги – и прежде всего офицерство – поняли, что рассчитывать на правительство не приходится, что надо не поддерживать его, а свергать.
Через некоторое время Корнилов стал Верховным главнокомандующим. К нему потянулись все национально настроенные круги: и офицерство, и крупная и мелкая буржуазия городов, жаждавшие порядка, и крупное крестьянство, и казачество, и даже люди революционного лагеря, наиболее действенные, обладавшие волей и темпераментом, которые не могли сидеть меж двух стульев, но которым левый, большевистский стул тогда не подходил: от него слишком пахло еще марксизмом. К числу последних принадлежал Борис Савинков.
Выступление Корнилова в августе 1917 г. могло оказаться поворотным пунктом в истории революции. Но оно по многим причинам не удалось. Одной из причин было то, что правительство не поняло всей спасительности для страны этого шага – объявило Корнилова изменником. Меж тем, история показала, что с точки зрения ее перспектив измена народу и государству была не на стороне Корнилова.
Активное офицерство прекрасно поняло это. И с тех пор оно стало ненавидеть правительство так же, как и Советы. Вот почему оно не поддержало правительство Керенского в Октябрьские дни, предпочитая видеть его свергнутым руками большевиков. Дальше национальные круги думали захватить власть сами. Вот это и была их громадная ошибка.
Власть, раз попавшая в твердые руки, ими не выпускается.
XI
Сталин принимал самое активное участие в подготовке и осуществлении Октябрьского переворота.
Он был введен и состав комиссии из семи членов Центрального комитета партии, образованной незадолго до переворота для политического руководства. Кроме Сталина, в эту комиссию входили: Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сокольников, Бубнов. Из этой комиссии выросло впоследствии политбюро.
Затем он был вместе со Свердловым, Дзержинским, Бубновым и Урицким введен в состав «военно-революционного центра» партии, который непосредственно руководил восстанием.
После переворота он был сделан комиссаром по делам национальностей. Ведь национальный вопрос считался его специальностью. Он больше всех других руководителей партии думал и писал о нем – и ближе всех стоял к ленинской точке зрения. Уже через неделю после переворота им была подготовлена и опубликована за его и Ленина подписью «Декларация прав народов России», которая заявляла, что национальная политика нового правительства будет проводиться на основе принципов: 1. равенство и суверенность народов России, 2. право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, 3. отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных ограничений, 4. свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Это был тонкий демагогический шаг, который сильно затруднил работу правых русских национальных кругов, упрямо стоявших на формуле: «единая и неделимая». Этот же шаг выбивал почву из-под ног разных национальных правительств, образовавшихся на территории России. В дальнейшем Сталин очень ловко ликвидировал эту декларацию и сам пришел к формуле: единая и неделимая.
Но главная работа Сталина протекала возле самого Ленина: он помогал ему в налаживании аппарата власти. Бывали дни, когда он почти не выходил из кабинета Ленина.
– Ленин тогда положительно горел в работе, – вспоминает один из секретарей Совнаркома М. Скрипник. – Часто и подолгу у него сидел Сталин, и тогда обычно из кабинета Ильича доносился громкий, открытый смех Сталина.
Сталин умел еще тогда смеяться – хотя время было трудное, положение нешуточное. Но такова была его натура. Он часто в грубоватую и лукавую шутку вкладывал очень серьезный смысл. Перед июльским выступлением Сталин сидел с Демьяном Бедным в редакции «Правды».
«Трещит телефон, – рассказывает Демьян. – Сталина вызывают матросы, кронштадтские братишки. Братишки ставят вопрос в упор: выходить им на демонстрацию с винтовками или без них? Я не свожу глаз со Сталина. Мне смешно. Меня разбирает любопытство: как Сталин будет отвечать – о винтовках и по телефону![4]4
Большевики, готовя вооруженное выступление и июле 1917 г., всячески отрицали свое в нем участие и подчеркивали, что это мирная демонстрация масс. Отсюда лукавая осторожность Сталина.
[Закрыть]
Сталин как-то смешно и лукаво до последней степени сморщил лицо, погладил свободной рукой усы и говорит:
– Винтовки?… Вам, товарищи, виднее!.. Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаши, всегда таскаем с собою… А как там вы со своим оружием, вам виднее!..
Ясное дело, что все братишки вышли на демонстрацию со своими „карандашами“!..».
…Время было трудное – период овладения властью, закрепления ее, постепенного затягивания на теле страны вожжей диктатуры.
Привычки к власти нет. Форм власти тоже. Всюду – враждебная стихия. Большевиков и сочувствующих им – горсточка.
Государственные учреждения рассыпались, не работают, либо работают, не слушаясь еще новой власти, не признавая ее. Чиновники частью ушли, а те, кто остался, от них нельзя добиться толку, они саботируют советскую власть. Важнейшие бумаги спрятаны, унесены куда-то. Самого простого дела поручить некому. Троцкому надо перевести на иностранные языки, облечь в принятые формы первые ноты. Он говорит об этом в собрании чиновников Министерства иностранных дел. Те молча выслушивают – и уходят все до единого, большие и маленькие.
У нового правительства нет денег. Чиновники банка отказываются оплачивать его ордера – и приходится, в конце концов, прибегнуть к единственному доступному аргументу: ввести в банки солдат, арестовать директоров.
По городу снуют бесчисленные автомобили. У правительства же почти нет автомобилей, и когда Дзержинский требует для только что образованной комиссии по борьбе с контрреволюцией перевозочных средств, правительство должно заседать больше часу, чтобы решить, откуда взять хоть один лишний автомобиль.
Смольный, где помещается правительство, это какой-то проходной двор, шумная казарма, вечный митинг, полное столпотворение, где нет порядка ни в чем. Снаружи – это вооруженная крепость. Легкие пушки у входа, броневики, пулеметы, многочисленные караулы, строжайшая охрана. Но вместе с тем пройти и выйти может всякий. Пропуск – клочок белой бумаги с печатью, который легче легкого подделать. Бывали случаи, когда проходили люди, которые никак не должны были быть допущены: приходили высмотреть, в случае удачи убить Ленина. Проникали даже в ленинский кабинет. Бывали тоже случаи, когда Троцкого, забывшего свой пропуск, не хотели впустить, а когда он назвал себя караульному начальнику, то тот стал чесать в затылке:
– Троцкий?… Что-то слышал. Но все-таки, товарищ, пропустить не могу. Много тут всякого народу шляется… Да и по какому вы делу? К кому?
Бывали случаи, когда приводили арестованных, а их не пропускали, и пока их охрана ходила хлопотать о пропуске, арестованные спокойно уходили домой. Бывали случаи, что арестованные, посаженные в одну из беспорядочных комнат Смольного, переодевались в своих комнатах и спокойно проходили мимо постовых. Те молча смотрели, выпускали. Раз человек так уверенно идет, значит, знает, что ему можно идти… Люди выходили на улицу – и уезжали на юг, в Киев или на Дон.
Комнаты, где собирается правительство, напоминают все, что угодно, но только не правительственное помещение. Кое-какой порядок еще в кабинете у Ленина, в маленькой комнатушке, где, когда происходят заседания, приходится сидеть и на подоконнике и на столе. Здесь даже ковер на полу лежит: дует от полу иначе. Но обычный зал заседаний правительства какая-то газетная экспедиция, право. На полу, на окнах, на столах кипы газет и бумаг. Пол грязный, засыпанный окурками, обрывками бумаги и веревок. Приходят сюда прямо с улицы, не раздеваясь, в калошах, в шапках, пальто сваливают в кучу на столах и на стульях. Стулья простые, венские по преимуществу, но есть и другие, и все расшатаны, поломаны, ободраны. Для заседания составлены в ряд разнокалиберные столы – и письменные, ореховые и дубовые, и простые, кухонного типа, из сосны. Окна не моются никогда, со стен местами слезла краска, ручки дверей расшатаны, замки не действуют. Как уважать правительство при таких апартаментах! Приезжает с юга группа казачьих офицеров, хочет войти в соглашение с большевиками против своих генералов. Вошли, постояли, повели в недоумении глазами – и повернулись, ушли, уехали.
Приезжает финская делегация. Только что подписан акт об отделении Финляндии от России: плод рук Сталина. Приезжают благодарить. Во главе Свинхувуд, бывший революционер, бывший каторжанин. Но одеты торжественно, держатся подобающе. Они представители независимой страны и приехали к правительству другой.
В Совнаркоме переполох. Переговоры вести, условия заключать, о деле разговаривать – пожалуйста. Но здесь – торжественный визит, церемония какая то, непонятная, непривычная. К чему?
Но принять нужно. Кому? Может быть, Сталину? Он комиссар по делам национальностей. Сталин машет и руками и ногами, хохочет: какой он ре-пре-зан-тант!.. Комиссару юстиции? Тоже нет. Надо Ленину.
Ленин обводит глазами помещение правительства. Только не здесь, не в этом сарае. Велит провести делегацию в комнату почище. Обдергивает полы пиджачка, поправляет съехавший на сторону старенький галстук. Выбегает. Возвращается через несколько времени, сконфужен, раздражен.
– Отделался. Только морщились они. По лицам видно было: мы люди вежливые, порядки знаем, приехали благодарить, но какое же вы все-таки правительство! Ну, и правы. Какое мы к черту правительство! Курам на смех… А тут я еще не сообразил, как с ними говорить, думал – Свинхувуд, революционер, каторжанин, и прямо: здравствуйте, товарищ. Ну, они так и скисли. Отвечают: здравствуйте, господин председатель… Господин!!
Усмехнулся.
– Ничего, научимся!
И научились в конце концов… Но пока что хаос, никаких традиций, никакого ритуала.
И Смольный живет своей жизнью, а Петроград, а страна – своей. И все говорят – одни с горькой болью, другие со злобной радостью:
– Какое это правительство!.. Они и месяца не продержатся…
XII
Открыто, вызывающе собираются разные организации, ставящие своей задачей борьбу с новым правительством. Во главе революционная демократия, круги умеренной буржуазии. Говорят, захлебываются в речах. Жесткие пальцы матросских рук судорожно тискают винтовки. Эх, пальнуть бы! Но правительство молчит. Правительство пока не трогает этих людей. С ними даже, убаюкивая их мечтами о власти, оно ведет переговоры. Эти люди ему не опасны.
Почти открыто происходят заседания членов свергнутого Временного правительства. Оно считает еще себя законной властью в стране, и даже публикуется об этом сообщение, и газеты его печатают.
Керенского, правда, нет, он передал свои полномочия Авксентьеву. Но и Авксентьев в заседания не ходит. Председательствует Прокопович, министр чего-то. Нет и большинства из министров, они разъехались по стране, изливаются там в речах, истощаются в бесплодных совещаниях, дезорганизующих антисоветское движение. Но заседают товарищи министров, и заседаниям ведутся протоколы, работает канцелярия, ведутся сношения со ставкой фронта, с саботирующими советскую власть министерствами.
И это нелегальное правительство имеет еще авторитет, имеет фактическое влияние на дела – и могло бы принести большой вред новой власти, если б только заседали в нем иные люди. Но большевики знают, с кем имеют дело!
Перед «Временным правительством» встает вопрос «о формальном непризнании сенатом большевистской власти как таковой». Подумаешь: кому какое дело, признают власть отправленные на покой старички, живые трупы прошлых режимов, или нет! Но вопрос обсуждается живо и серьезно. «Единственно, чего сенаторы боялись, – вспоминает один из членов этого „правительства“, Демьянов, – это выхода при обсуждении вопроса из рамок законности и перехода в политическую демонстрацию. Обошлись без демонстрации, а большевикам показали свое место».
Обсуждали вопрос о денежных выдачах. В то время, как советская власть сидела вследствие саботажа чиновников без денег, подпольное «Временное правительство», оказывается, могло распоряжаться и эмиссией, и выдачами денег.
Антибольшевистский Комитет спасения родины и революции, одно из многочисленных инвалидных учреждений того времени, обратился к «правительству» с просьбой отпустить ему 400 000 рублей. Деньги нужны были на издание антибольшевистских брошюр и прокламаций для распространения в войсках. «Эта задача, – вспоминает Демьянов, – могла тогда иметь некоторый успех. В войсках все же царила некоторая двойственность настроения и некоторая отсюда нерешительность».
Одновременно чиновники учреждений обратились к правительству с просьбой досрочно выплатить им жалованье. Чиновники рассуждали вполне резонно:
– Саботаж возможен только в том случае, если у нас будет на что существовать с семьями. Со дня на день Временное правительство может оказаться в невозможности распоряжаться суммами. Большевики же при выплате жалованья поставят непременным условием возобновление работы.
«Поднялись бесконечные споры – можно ли допускать нарушение закона о порядке выдачи жалованья».
Решительнее всех выступал председатель этого странного собрания Прокопович:
– Не имеем права!
Грозил даже «уходом с поста». Наконец, решили: из казначейства деньги на выплату чиновникам взять, но самую выплату произвести в установленный законом срок.
А Комитету спасения в деньгах так и отказали.
– Мы не имеем права тратить народные деньги на партийную борьбу, – говорил Прокопович.
О том, что решается вопрос о дальнейших судьбах народа, он, очевидно, не думал. Форма прежде всего!
…В дни Октябрьского переворота Сталин проходил по Невскому проспекту, направляясь к штабу округа.
Цепь матросов перегораживала Невский. На них напирала большая толпа. Все хорошо одетые люди, мужчины, женщины. Среди них много «вождей» революционной демократии: Авксентьев, Прокопович, Хинчук, Шрейдер, Абрамович. Они требовали пропустить их в Зимний дворец, где еще сидело Временное правительство. Кричали истерически:
– Идем умирать в Зимний дворец!
Матросы не пропускали. Сначала были спокойны, потом, когда толпа стала настойчивее, раздались крики возмущения, ругань, матросы озлобились.
– Пошли прочь, – закричал один из них. – Сказано – не пустим! А если что – прикладами, а понадобится, будем стрелять.
Новые крики возмущения и гнева. Тогда министр Прокопович взобрался на какой-то ящик, замахал зонтиком, призывая к тишине, и произнес речь:
– Товарищи и граждане, – сказал он. – К нам применяют грубую силу. Мы не можем запятнать руки этих темных людей своей невинной кровью. Быть расстрелянными этими стрелочниками – это ниже нашего достоинства. Вернемся в Городскую думу и займемся обсуждением наилучших путей спасения родины и революции[5]5
Текст речи взят по книге Д. Рида «Десять дней…». Рид тоже был свидетелем этой сцены.
[Закрыть].
…Сталин плюнул и пошел через цепь матросов, показывая свой пропуск. И эти люди думали удержать власть в своих руках в революционную эпоху!
XIII
Но были другие люди – и они представляли собой действительную опасность, потому что они мало говорили, но зато упорно работали. Это были правые национальные круги.
Сразу же после Октябрьского переворота они сделали попытку выхватить из рук большевиков власть: произошло восстание юнкеров. Оно было подавлено. Национальные круги поняли, что их пассивность в Октябрьские дни была ошибкой. Но не отчаивались, рук не складывали. Работа в военной среде продолжалась.
Через десять дней после переворота был арестован ряд руководителей офицерской организации. Среди них один из активнейших людей национального лагеря, Пуришкевич. При нем нашли письмо, адресованное генералу Каледину, донскому атаману.
«Организация, в коей я состою, – писал Пуришкевич, – работает не покладая рук над спайкой офицеров и всех остатков военных училищ и над их вооружением. Спасти положение можно только созданием офицерских и юнкерских полков. Ударив ими и добившись первоначального успеха, можно будет затем получить и здешние воинские части, но сразу без этого условия ни на одного солдата рассчитывать нельзя… Казаки в значительной части распропагандированы… Властвуют преступники и чернь, с которыми теперь нужно будет расправляться уже только публичными расстрелами и виселицами. Мы ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего подхода выступим со всеми наличными силами».
Тут была реальная опасность – и новая власть сознавала это. Она готова была даже на соглашение с национальными кругами. Ленин серьезно обдумывал возможности такого соглашения, в то время как вопрос соглашения с кругами «революционной демократии», с социалистическими партиями он считал несерьезным, нестоящим делом, рассматривая переговоры с ними только как выигрыш времени, как дипломатическое прикрытие военных действий.
9 ноября 1917 г., говоря о переговорах с другими партиями о создании правительства, Ленин заявил:
– Неправда, что мы не хотим соглашения для избежания гражданской войны. С такими силами, как Каледин, Родзянко, Рябушинский, мы готовы заключить соглашение, так как они опираются на реальные силы и имеют значительный общественный вес. Но «соглашательские» партии добиваются соглашения, не имея за собой силы. И не политики, а политиканы все эти Черновы, Либеры, Даны, полагающие, что соглашение с ними даст стране гражданский мир и удовлетворит Каледина и другие контрреволюционные элементы…
Но соглашение с национальными кругами тогда было невозможно. Гражданская война, путь террора, репрессий стали неизбежны.
…Вторая опасность – это было настроение революционной улицы.
Гарнизон ненадежен, колеблется, может всегда переметнуться на сторону новой силы, если таковая только появится. Солдатчина разочарована новой властью. Она думала, что победа большевиков будет означать полный разгул улицы, что все будет теперь позволено, вплоть до массовых грабежей. Но когда солдаты набросились на винные погреба Зимнего дворца, правительство прислало красногвардейцев и матросов, были расставлены пулеметы, пулеметным огнем уничтожали бутылки, не щадя и людей. Вино и кровь смешались на льду Зимней канавки. Пьяный погром был прекращен. Солдатчина затаила недовольство. И в Смольном не раз возникает тревога, все приводится в боевое положение. То говорят, что поднялись и идут свергать власть солдаты, то якобы маршируют колонны рабочих Обуховского завода. Через некоторое время, впрочем, солдат петроградского гарнизона частью разоружат, частью отправят на фронт Гражданской войны. Период серого преторианства кончится.
Рабочие тоже недовольны. Они рассчитывали, что их судьба сразу же переменится к лучшему. Но их кормят пока что только декретами, материальное же их положение, условия работы не улучшаются. Им объявили, что они сейчас хозяева фабрик и заводов, но фабрики работают еле-еле, нет топлива и сырья. Но главное: все хуже и хуже с продовольствием.
В самом правительственном центре, в Смольном, питаются преимущественно супом из воблы да кашей без масла, пахнущей плесенью. Высшее лакомство три бутерброда с колбасой, которые изредка дают к чаю наркомам. И это еще стол, доступный только правящей верхушке. В самом же городе пусто. В лавках ничего нет, продукты можно получать только из-под полы, втридорога, и рабочий опять с озлоблением замечает, что обеспечен продуктами не он, а прежние имущие классы, которые все еще имеют деньги. Идут темные слухи о хищениях, о распутной жизни в среде новых властителей, о том, что грязные элементы, вроде Козловского, Бонч-Бруевича, Ганецкого, за взятки покровительствуют буржуазии, сами всем обеспечивают себя.
Населению города выдают всего четверть фунта хлеба в день. Рабочие до сих пор получали дополнительный паек. Его отменяют. Иначе не хватит прочему населению. Правда, в рестораны первого разряда, где питается буржуазия, вовсе не отпускают ни хлеба, ни муки. Но у буржуазии есть ведь деньги и она может платить за подпольный хлеб…
И что за хлеб выдают!.. Его невозможно есть. Вот в Смольный приносят образцы такого хлеба: пусть «рабоче-крестьянское» правительство посмотрит, чем питают рабочих и солдат.
– На окне лежали, – рассказывает М. Скрип-ник, – куски не то засохшей глины, не то чернозема… Вид был потрясающий. В маленьких безобразных комьях хлеба было что-то зловещее. В них точно пряталась какая-то опасность.
Рабочие волнуются. В Смольном толпятся делегации. Но что может сделать правительство? Деревня не дает хлеба. Столыпинский сильный крестьянин начинает показывать зубы новой власти. А то, что есть, трудно подвезти: транспорт еле дышит.
– Правительство хлеба дать не может, – мрачно говорит Ленин, когда ему докладывают о новой делегации от рабочих. – Кулак не дает хлеба. За хлеб надо бороться с винтовкой в руках.
Начинают образовываться продовольственные отряды. Скоро начнется поход рабочего города на деревню: крестовый поход за хлебом.
Скоро в деревне начнется классовая борьба, деревня расслоится, бедняк примкнет к голодному рабочему, у богатого крестьянина начнут отбирать хлеб, скот, землю – и он обратится за помощью к генералам, в белый лагерь, и с юга на север, с востока на запад потянутся грозные полки контрреволюции, охватят железным кольцом красные центры… Все, как предвидел Ленин.
…Почти единственной опорой нового правительства – кроме красногвардейцев из молодежи – являются матросы. Но и они недовольны. Они считают большевистское правительство слишком слабым. Что, в самом деле, за правительство, которое разрешает свободно выходить газетам, ругающим его последними словами, призывающим к открытому ему неповиновению? Что за правительство, когда под носом у него происходят контрреволюционные собрания, а оно палец о палец не ударяет, и когда матросы сами приходят разгонять, появляется какой-нибудь нарком и просит разойтись не собрание, а матросов? А если кого-нибудь и арестуют – его выпускают через несколько дней…
Что за правительство, которое не может распространить своей власти на всю страну? Ведь что ни губерния, то своя власть. Финляндия уже отделилась. Украина готовится со дня на день отпасть. То же в Грузии, то же в Сибири. На Урале атаман Дутов организует свое правительство и свою армию. На Дону атаман Каледин, на Кубани атаман Караулов. Под их крылом организуется офицерско-юнкерская Добровольческая армия. А фронт? Там открыто конспирируют против правительства, ставка прямо заявляет, что не считает его всероссийской властью. А столица? На улицах генералы, офицеры в прежних золотых погонах – по лицам видно, что они только и ждут возвращения своего дня. Спекулянты становятся все наглее. Бандиты, чуть стемнеет – в городе начинаются грабежи. Порядка нет, власти не чувствуется. Матросы ворчат. И при первом удобном случае стараются показать, как надо действовать. Ночью отряд матросов приходит в больницу, где лежат бывшие министры Шингарев и Кокошкин, и убивают их. Когда правительство требует выдачи виновников, то сами матросы отказывают ему в повиновении: убийцы не выдаются, матросы грозят мятежом.
XIV
В самом правительстве много людей, которые не принимают его всерьез, не считают себя настоящей властью, все хлопочут о коалиции с другими социалистическими партиями. Стонут об изолированности, о неизбежной гибели, о том, что нынешнее положение – рискованная авантюра. Напоминают, что скоро должно собраться учредительное собрание, «хозяин земли русской». Полных результатов выборов еще нет, но уже ясно, что большевики в меньшинстве. В соглашении с прочими социалистами они могут играть роль и в учредительном собрании, иначе же потонут во враждебном море.
Ленин дает согласие на переговоры с «соглашательскими» партиями. Он знает: ничего не выйдет, но эти переговоры дадут передышку, дадут окрепнуть, стать на ноги, парализуют противника. Для него переговоры эти – только военная хитрость. Он знает: революционная власть не может быть коалицией, должна быть единой.
Пренебрежительно, свысока ведут переговоры вожди соглашательских партий. Ставят твердое условие: в коалиционном правительстве не должно быть ни Ленина, ни Троцкого – «виновников октябрьской авантюры», как они их называют. Председателем правительства до учредительного собрания должен быть Чернов или Авксентьев. А там… большевики вообще сойдут со сцены.
Каменев, ведущий переговоры, готов на все. Что ему Ленин, что Троцкий, что вся линия большевиков, что пролитая в октябре и безостановочно льющаяся и сейчас кровь!.. Но у Ленина твердая рука. И вокруг него – крепкое ядро таких же, как он, решительных и непримиримых людей. Каменеву дают нахлобучку. Отзывают. Вместо него посылаются Свердлов и Сталин, которые выступают резко, непримиримо. Переговоры срываются. Тогда Каменев, Зиновьев, Рыков, Ногин, Милютин, Рязанов, Теодорович, Ларин, Юренев и другие – члены ЦК, наркомы, руководители важнейших учреждений – заявляют о своем уходе.
«Руководящая группа ЦК твердо решила не допустить образования правительства советских партий и отстаивать чисто большевистское правительство во что бы то ни стало. Мы не можем нести ответственности за эту гибельную политику, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат».
Так пишут уходящие члены ЦК.
«Мы стоим на точке зрения образования социалистического правительства из всех советских партий… Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров. Мы на него не можем и не хотим вступать. Мы видим, что это ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства политической жизнью, к установлению безответственности режима и к разгрому революции страны. Нести ответственность за эту политику мы не можем и поэтому слагаем с себя звание народных комиссаров».
Так пишут уходящие наркомы.
Ленин пожимает плечами. Он возмущен, но ничего не поделаешь. Это естественно: он привык к колебаниям в среде своей «старой гвардии». Разве это впервые? Их уход, правда, разлагает власть, действует на массы. Тем более что уходящие грозят сказать свое мнение массе рабочих и солдат и призвать их поддержать клич:
«Да здравствует правительство из советских партий! Немедленное соглашение на этом условии!» Но пусть попробуют! Он не только не остановится перед их исключением из партии, но и перед их арестом. На карте ведь судьбы революции.
Сталин не хохочет уже, но сурово бросает:
– Можно и расстрелять…
– Ничего… Образуется… Приползут обратно, – замечает Ленин.
И, действительно, приползли. Первый через несколько уже дней покаялся Зиновьев. За ним потянулись другие.
А Ленин стал натягивать вожжи власти. Окончательно отмел, как ненужную вещь, всякие разговоры со «всеми советскими партиями». Но зато сумел заключить соглашение с отколовшимися от социалистов-революционеров революционными элементами этой партии. Левые с. р. вошли в правительство. Но их ограничивают ролью попутчиков: тон задают большевики, Ленин. А Ленин главной своей задачей в этот момент ставит – показать стране, что она имеет власть. Жесткую, ни перед чем не останавливающуюся власть.
– Путь террора? – говорил Ленин. – Единственный и неизбежный путь. Неужели вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?
«Это был период, – замечает Троцкий, – когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины, халатности – а всего этого было хоть отбавляй – возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают себе отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной энергии».
В то же время он старался и внешне приучить членов своего правительства к сознанию того, что они правительство, а не группа подпольщиков, что на их плечах серьезнейшая работа, к которой надо относиться ответственно, с аккуратностью.
Наркомы, например, никак не могли приучиться вовремя приходить в заседания. Однажды Ленин уже сидел в зале заседаний, а в соседней комнате собравшиеся члены Совнаркома вели оживленную шумную беседу и, несмотря на неоднократные приглашения, все не шли.
– Что они там баклуши бьют? – сердито вымолвил Ленин, обращаясь к секретарю. – Зовите их сюда немедленно…
И добавил:
– И скажите им, что они ведут себя, как хулиганы!
Секретарь опешил. С недоумением посмотрел на Ленина:
– Шутя?
– Да я вовсе не шучу! – разгорячился Ленин. – Как председатель Совнаркома приказываю вам передать им, что называю их хулиганами…
…Когда через несколько минут наркомы виноватой гурьбой входили в зал, Ленин встретил их окриком:
– Довольно, слышите – довольно! Нужно положить конец недопустимым запаздываниям, разгильдяйству, потере времени!..
XV
Первый решительный шаг был предпринят в отношении главного командования армии. Ставка Верховного главнокомандующего в Минске меньше всех, пожалуй, считалась с новым правительством. В ней шли беспрерывные совещания об образовании новой власти. Армейские комитеты, считавшие себя силой, обещали свою поддержку. Ленин решил играть ва-банк. Дальше неопределенное положение длиться не могло. Наличие враждебной ставки, окруженной силами фронта, могло погубить советскую власть. У Ленина был громадный козырь: мир.