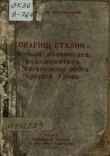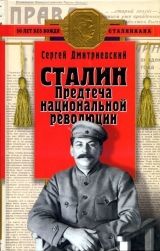
Текст книги "Сталин (Предтеча национальной революции)"
Автор книги: Сергей Дмитриевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Народные вожди из военной среды в конце концов дали бы, вероятно, повинуясь голосу интуиции, и организацию и идеологию национальному движению. Как клещами, охватили бы его жесткими щупальцами национальной партии, кадры которой, повторяю, были уже созданы Ледовым походом и походом Дроздовского. Но вождей не стало. Вслед за Корниловым погиб и Дроздовский – от заражения крови, в результате пустяшного ранения. В армии шли толки, что он погиб жертвой заговора генералов болота – и весьма возможно, что выстрел, сразивший много времени спустя, уже в Константинополе, генерала Романовского, злого гения армии и движения, каким его многие считали, был ответом на смерть Дроздовского. Но помочь делу это не могло. Новая сильная воля – Врангель – явилась слишком поздно. Да и Врангель менее Корнилова и Дроздовского подходил для роли вождя масс. Он был могиканом рыцарской аристократии. Он мог командовать, повелевать, мог гордо умереть, – но не умел читать в умах миллионов.
Оставшись без вождей, Белое движение попало в руки обывательского болота и спекулянтов тыла – и погибло, утонуло в этом болоте. Создавшиеся было кадры национальной партии распались без применения, рассосались, частью были загублены на фронтах. Положительной программы движение, лишенное близких народу вождей, создать и выдвинуть не могло. Оно оказалось, в конечном итоге, построенным на одном отрицании. Оно было антибольшевистским – и было коалицией всех элементов, которым по тем или иным причинам не был приемлем большевизм. Коалиция вещь хорошая по мирным парламентским временам. Но в борьбе нужна не коалиция, а единая, все своей воле подчиняющая сила. И программа этой силы должна не только отрицать, но и утверждать что-то свое. Ни того, ни другого не было – движение, так блестяще развернувшееся, погибло.
Напрасно истекали кровью герои фронта. Достигавшиеся ими успехи только увеличивали разложение тыла – увеличивали и пропасть, ложившуюся, вследствие политики высшего командования и действий тыла, меж народными массами и Белым движением. В имения возвращались помещики, – как будто ради этого проливалась кровь! Репрессиями выколачивали прежние владельцы свое добро и свои убытки – как будто для этого только умирали герои! На местах садились старые администраторы, раскрывали пахнувшие тлением законы… как будто именно к этому стремился Корнилов! Когда население, привыкшее уже размышлять, отказывалось подчиняться нелепому произволу живых трупов в генеральских мундирах, с ним расправлялись не менее жестоко, чем расправлялись большевики, лилась кровь, беззаконие нагромождалось на беззаконие, вместо порядка устанавливалось полное бесправие… будто в этом видел свой идеал Дроздовский! В городах тыла шел пьяный разгул. Шла безудержная спекуляция. Войска фронта были разуты, раздеты, нуждались во всем, вынуждены были сами содержать себя, вызывая этим недовольство населения, создавая почву для злоупотреблений. Семьи героев подыхали часто с голоду, а в тылу цинично торговали всем, что было нужно армии, шел пьяный разгул, безудержная спекуляция всем, чем попало. Русская буржуазия, промышленники, торговцы, в значительной своей части вместо того, чтобы отдать последнее для дела победы тех, кто их, в сущности, а не себя защищали, старались поскорее, как в пьяном бреду каком-то, содрать последнее с истекавшего кровью офицера. Когда нужны были деньги национальному движению – буржуазия туго затягивала свою мошну, но зато, когда приходили большевики, приставляли к ее груди свой штык, она платила, отдавала все, что только от нее требовали. Тысячи тысяч здоровых людей отсиживались в канцеляриях, переполняли тыловые кафе… Чего же удивляться, что в конце концов у людей фронта не раз подымалось желание обернуть штыки – и вспороть ими героев тыла! Чего удивляться, что постепенно охладевала к движению и оборачивалась против него крестьянская и казачья масса! Чего удивляться, что Белое движение в конце концов погибло!
Громадной ошибкой движения, между прочим, было неправильное понимание им принципа: «единая, неделимая», и неумение вследствие того разрешить национальный вопрос. Громадной ошибкой были и еврейские погромы, не организовывавшиеся, правда, но допускавшиеся «вождями» движения. Они отшатнули от Белого движения большие и влиятельные круги за границей. «Вожди» – эпигоны движения не понимали, между прочим, того, что большая часть евреев, особенно еврейской буржуазии, являлись и являются, при умелом и либеральном к ним подходе, очень полезным и важным для русского национального дела слоем. Ибо ведь еврейство, особенно верхи его, было большим приверженцем русской, а не отдельных национальных культур, и было энергичным ее проводником повсюду.
Последней каплей, переполнившей чашу, была та зависимость от иностранцев, в какую попали руководители Белого движения, не доверявшие уже собственным силам и народу. Иностранцы пришли на помощь, но как? Как приходят в колонии, господами, а не помощниками, в поисках наживы, собственных выгод, а вовсе не в интересах русского народа. Может быть, бескорыстнее всех была Франция. Но у Англии, по крайней мере у ее тогдашних политиков, у Ллойд-Джорджа, нынешнего друга большевиков, была одна цель – расчленить, поработить Россию, вырвать из ее тела наиболее лакомые куски. Эпигоны Белого движения в конце концов стали действовать против интересов России.
Народная гордость возмутилась. Народные силы стали сплачиваться вокруг московского Кремля, вплоть до старого офицерства во главе с генералом Брусиловым. Белое движение было разбито в конце концов своей собственной идеей – идеей величия и независимости нации. Только идея эта переместилась из лагеря белого в лагерь красный. Вот к чему привели неудачные преемники великого Корнилова.
Часть III
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

I
Три года Гражданской войны: напряженной, беспощадной, разрушительной, перевернувшей всю страну, всю ее залившей кровью. Пленных часто не берут. В лазаретах подымают на штыки раненых. Расстреливают заложников. Мучат, уничтожают целыми семьями мирное население. Не щадят ни женщин, ни детей. Разрушают города. Целые села сметают артиллерийским огнем. Так на красной. Так на белой стороне. Величайший героизм сочетается с невероятной жестокостью. Нет иных законов, кроме закона насилия, мщения, крови. И надо всем этим – невероятная разруха во всем, вся жизнь перевернута, холод и голод бродят по стране. Тысячи и тысячи погибают от сыпного тифа. Всюду стоят вагоны, целые поезда, груженные, как дровами, посинелыми, разлагающимися человеческими трупами. Смерть гуляет над страной… И под дыханием смерти вырастают, живут, думают и чувствуют люди. Жизнь теряет как будто цену – и вместе с тем никогда так страстно не хочется людям жить. И у тех, кто выживает и живет, меняются, становятся совершенно не похожими на прежние души. С холодным любопытством впитывают в себя окружающее пытливые глаза подрастающих детей. Все замечают. Все запоминают. Создается новая раса: суровых, жестких, ничего не боящихся, ни перед чем не останавливающихся людей.
«Страшная вещь гражданская война, – записывает в дневнике ее участник и герой Дроздовский. – Какое озверение вносит в нравы, какою смертельною злобой и местью пропитывает сердца. Жутки наши жестокие расправы, жутка та радость, то упоение убийством, которое не чуждо многим добровольцам… Сердце мое мучится, но разум требует жестокости. Надо понять этих людей, из них многие потеряли близких, родных, растерзанных чернью, семьи и жизнь которых разбиты, имущество уничтожено и разграблено и среди которых нет ни одного, не подвергавшегося издевательствам и оскорблениям. Надо всем царит теперь злоба и месть и не пришло еще время мира и прощения… Что требовать от Туркула, потерявшего последовательно трех братьев, убитых и замученных матросами, или Кудряшева, у которого недавно красноармейцы вырезали сразу всю семью? А сколько их таких?»… «… Нет-нет, да и сожмет тоской сердце, инстинкт культуры борется с мщением побежденному врагу, но разум, ясный и логический разум торжествует над несознательным движением сердца… Мы живем в страшные времена озверения, обесценивания жизни… Сердце, молчи, и закаляйся, воля!.. Признается и уважается только Один закон: „око за око“, а я скажу: „два ока за око, все зубы за зуб“. „Поднявший меч…“ В этой беспощадной борьбе за жизнь я стану вровень с этим страшным звериным законом – с волками жить…» Так резонирует «инстинктом культуры» напитанное сердце!
Чего же ждать от людей, которых никогда не касалась смягчающая рука культуры, в которых жизнь с детства воспитывала только едкую зависть и тяжелую ненависть? Чего было ждать от солдата-крестьянина, от рабочего-красноармейца?.. «В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда вниз головой пленных красноармейцев, оставляя их ноги до колен на поверхности земли, – описывает Горький. – Потом они постепенно засыпали яму землей, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позже всех. Забайкальские крестьяне-казаки учили рубке молодежь свою на пленных». В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям, на высоте метра над землей, и наблюдали, как эти нарочито неправильно распятые люди мучатся. Вскрытие пленным офицерам животов, сдирание кожи, вбивание гвоздей, вместо погон, «одевание по форме», – т. е. сдирание кожи по линиям лампасов и портупей, – все это делалось, все это требовало большого искусства… Перечень этих ужасов можно было бы продолжить до бесконечности: прибавить и распиливание живого человека деревянной пилой, и высверливание сердца, и все те зверства и издевательства, какие вытворяли моральные уроды типа Петерса в Киеве, в Петрограде… Город не уступал деревне. Красные белым. Кровавый психоз революции и гражданской войны исковеркал всех.
Грубела душа даже у ничем еще не озлобленной, только что вступившей в жизнь и инстинктивно еще вначале отворачивавшейся от убийства и крови молодежи… Вот комсомолец Грачев, почти мальчиком вступивший в Красную армию, рассказывает в своих «письмах»: «В конце месяца нагнали мы белых… Тут мне впервые пришлось убить человека… Эх, Петюнька, скверное чувство охватывает после того, как убьешь человека. Целую неделю мучили меня кошмары, даже приснился он мне лежащим в кровавой луже. Я бы не убил его, если б он не напал на Митьку. Но когда я увидел, что он схватил Митьку за глотку и душит его, я бросился на выручку, выхватил шашку и полоснул „беляка“ сзади по затылку. После боя товарищи нашли меня в степи, лежащим почти без сознания… Помню, что когда очнулся, всю ночь проревел, кусал себе пальцы. Тяжело, брат, чувствовать себя убийцей, – такая свинцовая тоска на сердце, ну, прямо, мочи нет никакой.
– С непривычки-то оно все кажется страшным, – успокаивал меня Миронов, наш командир. – Война, милок, это тебе не бабьи посидки.
Вскоре я убедился, что Миронов был прав, потому что сам быстро привык к смерти. Обстановка войны с ее ежеминутной опасностью быстро притупляет все чувства и не располагает к сантиментам. Чего, чего только не привелось мне увидеть, особенно на Украине! Едешь, бывало, на тачанке, а поперек дороги лежит наполовину разложившийся труп. Первое время не только подойти, смотреть и то тошно было, а потом притерпелся и, равнодушно оттолкнув труп с дороги, ехал дальше»…
В обстановке Гражданской войны вырастали, учились жизни, духовно складывались люди, которые потом стали властвовать над Россией – и те, кто идет в ней к власти сейчас.
В обстановке Гражданской войны получил свою окончательную шлифовку Сталин.
II
Первый год Гражданской войны: восемнадцатый.
«Если вы о ту пору зашли бы в ЦК, этот главный штаб ленинского авангарда рабочих масс нашей страны, – пишет Тарасов-Родионов, один из бытописателей революции, – и, протолкавшись по темным, узеньким коридорам невзрачного дома, через толпы обдерганных курток, получающих здесь путевки во все концы с неизменным одним боевым заданием: победить! – спросили бы, наконец, у кого-нибудь из секретарей: – А который же из всех этих фронтов, милый товарищ, сейчас самый важный и опасный? – то непременно получили бы один неизменный ответ:
– Царицын.
– Царицын?
– Да, товарищ, Царицын! Сейчас это единственный ключ к хлебу. Ведь без хлеба мы не продержимся. А самое главное – Царицын это сейчас единственный красный клин, вбитый нами в сжимающее нас кольцо объединенной контрреволюции. Если генералу Краснову удастся этот клин у нас вышибить, – чехословацкие учредиловские банды немедленно же соединятся с белыми сворами казацкого генералитета. Кольцо кровожадных бешеных хищников тесно сомкнется вокруг нас, и революцию сдавят в тиски. Центральный комитет большевиков считает Царицын сейчас решающим пунктом. Туда Лениным послан… его верный соратник, Коба Сталин».
…Сталин приехал в Царицын в июне 1918 г., с отрядом красногвардейцев, с двумя броневиками и неограниченными полномочиями, – для того, чтобы наладить снабжение хлебом голодающих центров. Но скоро казачьи полки окружили Царицын. Вслед за Доном против советской власти поднялись и казачьи станицы Кубани. Окрепла блуждавшая по кубанским степям Добровольческая армия. Под ее ударами изнемогала, отступала Советская армия Северного Кавказа – единственной тогда житницы красной республики. Сталин стал военным диктатором Царицына и северо-кавказского фронта.
7 июля, через месяц примерно, по прибытии в Царицын Сталин пишет Ленину (на записке пометка: «Спешу на фронт, пишу только по делу»):
«Линия южнее Царицына еще не восстановлена. Гоню, ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим. Можете быть уверены, что не пощадим никого – ни себя, ни других, – а хлеб все же дадим. Если бы наши военные „специалисты“ (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана. И если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им».
11 июля Сталин вновь телеграфирует Ленину:
«Дело осложняется тем, что штаб северо-кавказского военного округа оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши „специалисты“ психологически неспособны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они, как штабные работники, умеющие лишь чертить чертежи и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям… и вообще чувствуют себя, как посторонние люди, гости…»
И Сталин решительно заявляет:
– Смотреть на это равнодушно, когда фронт Кальнина[6]6
Командующий советской северо-кавказской армией. Был скоро наголову разбит Добровольческой армией.
[Закрыть] оторван от пункта снабжения, а север от хлебного района, считаю себя не вправе. Я буду исправлять эти и многие другие недочеты на местах, я принимаю ряд мер и буду принимать, вплоть до смещения губящих дело чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учреждениями.
Самочинно взятые на себя Сталиным функции руководителя всех военных сил фронта получают подтверждение Москвы. Несмотря на всю неприязнь Троцкого к Сталину, телеграмма реввоенсовета республики, носящая пометку, что она отправлена по согласию с Лениным – вероятнее: по настоянию Ленина – возлагает на Сталина «навести порядок, объединить отряды в регулярные части, установить правильное командование, изгнав всех неповинующихся».
Силы Царицына скоро увеличиваются. Через область Дона пробивается армия Ворошилова, составившаяся из остатков оттесненных и разбитых немцами украинских партизанских отрядов и рабочих Донбасса.
Во главе этой армии – Клим Ворошилов, донецкий слесарь и профессиональный революционер в прошлом. Он выдвинулся, как способный военачальник, в стычках с немцами. Бойцы армии слепо доверяют ему.
В Царицын Ворошилов приводит Сталину 15 000 закаленных бойцов. Из них и из других стекшихся к Царицыну партизанских отрядов создается регулярная 10-я советская армия.
– Во главе со Сталиным, – вспоминает Ворошилов, – создается революционный военный совет, который приступает к организации регулярной армии. Кипучая натура т. Сталина, его энергия и воля сделали то, что вчера еще казалось невозможным. В течение самого короткого времени создаются дивизии, бригады, полки.
Командующим армией Сталин назначает Ворошилова. Он знает и ценит его еще по временам подпольной работы. Они встречались в Баку.
Меняется под тяжелой рукой Сталина вся царицынская жизнь. Все сосредоточивается на вопросах обороны. Подтягиваются, пополняются новыми силами все местные партийные и рабочие организации, обуздывается партизанская вольница. Жизнь всего города охватывается клещами жесткой диктатуры.
«Физиономия Царицына, – пишет Ворошилов, – в короткий срок стала совершенно неузнаваема. Город, в котором еще недавно в садах гремела музыка, где сбежавшаяся буржуазия вместе с белым офицерством открыто толпами бродила по улицам, превращается в красный военный лагерь, где строжайший порядок и воинская дисциплина господствовали надо всем».
«…Город Царицын, – описывает Тарасов-Родионов, – совсем не походил тогда ни жизнью своей, ни своим деловым строгим обличьем на остальные города нашей страны… Размеренная и напряженная рабочая жизнь – с дымом фабрик и гулом заводов. Киношки – взятые под лазареты с белыми флажками Красного Креста. На улицах и на перекрестках красноармейские патрули. А посреди Волги на якоре высоко поднимала из воды свое черное пузо большая баржа, и, косясь на нее, обрюзгший чиновник в полинялой форменной фуражке тревожно шептал старушонкам на берегу:
– Там… Чека!..»
Но это была не сама Чека, а ее плавучая тюрьма. Чека работала в центре города, при штабе. Работала, как рассказывает перешедший впоследствии к белым полковник Носович, «полным темпом». «Не проходило дня без того, чтобы в самых, казалось, надежных и потайных местах не открывались различные заговоры».
В Царицыне была в это время довольно сильная белая организация. Деньги она получала из Москвы, была в связи с Доном, готовила внутреннее выступление в городе.
– К сожалению, – рассказывает Носович, – прибывший из Москвы глава этой организации инженер Алексеев и его два сына были мало знакомы с настоящей обстановкой и благодаря неправильно составленному плану, основанному на привлечении в ряды активно выступающих сербского батальона, бывшего на службе у большевиков при чрезвычайке, организация оказалась раскрытой. Резолюция Сталина была короткая: расстрелять!.. Инженер Алексеев, его два сына, а вместе с ними значительное количество офицеров, частью лишь по подозрению, были схвачены чрезвычайкой и немедленно, без всякого суда, расстреляны.
На черной же барже сидел почти весь присланный Троцким штаб военного округа. В том числе предназначенный в начальники штаба полковник Носович.
Троцкий прислал телеграмму о немедленном их освобождении. Подчинились, но к работе в штабе не допустили. Троцкий прислал новую телеграмму: немедленно вернуть Носовича на должность начальника штаба. Сталин кратко пометил на телеграмме: «Не принимать во внимание!..»
Тогда Носовича вызвали в Козлов, дали там при штабе южного фронта большую должность. А там он на штабном автомобиле, захватив все бумаги, какие только смог, переехал к белым. «А вскоре были изобличены в измене и расстреляны в Козлове начальник штаба южного фронта Козловский и начальник разведывательного отделения Шостак». Сталин злорадствовал. Все это било по Троцкому.
«…Царицын жил трудовой, боевой, напряженной жизнью. Обыватель сидел по своим деревянным квартирным щелям и, наблюдая из окон, как отправлялись на фронт вновь сформированные отряды красноармейцев, как выбегали из заводских ворот заново отремонтированные броневики, как обозы везли в базы дивизий горы печеного хлеба, тюки шинелей, сапог и ящики арбузного сахара, – безнадежно скулил:
– Ох, уж этот Сталин!.. Ох, уж этот Клим Ворошилов!..»
III
В центре города, в большом трехэтажном доме, принадлежавшем прежде горчичному фабриканту Воронину, помещается реввоенсовет 10-й армии.
В нижнем этаже телеграф и телефон: здесь иногда Сталин и Ворошилов проводят часы, разговаривая с фронтом и по прямым проводам с Москвой. Во втором этаже армейский штаб. «Посторонние сюда не впускались. Здесь был мир директив, оперативных приказов, разведочных сводок и шелеста расправляемых карт. Беспартийных в „том боевом святилище не было никого“.
В третьем этаже канцелярия реввоенсовета, тут же помещаются Сталин и Ворошилов.
В столовой квартиры Ворошилова – просторной, светлой комнате – обычно собирается обедать вся военная верхушка. Приходит и Сталин. Реже всех, пожалуй, обедает здесь сам хозяин, командарм. Обычно он застревает где-нибудь на фронте, и тогда Екатерина Давыдовна, спокойная, приветливая женщина, не только жена, но и ближайший друг его, печально глядя на темнеющее окно, с грустной задумчивостью говорила:
– Климент Ефремович опять в бою…
И вздыхала:
– Ну, что же, давайте обедать»…
Рядом большая, обычно пустынная комната, где происходят заседания реввоенсовета.
Председательствует Сталин. Рядом с ним Ворошилов.
Дальше – Сергей Минин, член реввоенсовета. Он сам царицынец. Молоденьким студентом участвовал в первой революции. Приобрел большую популярность среди царицынских рабочих. Вокруг его имени потом сплетались легенды. И сейчас он любимец рабочей среды – и умеет увлечь ее за собой. Когда враг особенно сильно наседает, почти у стен города, и силы армии слабнут, Минин бросается на городские окраины, на заводы. «Тревожно ревели тогда гудки. Шумно, с винтовками за плечами выбегали рабочие на близлежащие пригорки. Лихо выкатывали туда же на руках ремонтируемые ими пушки. Били по наседающим прямо в морду, в упор, на картечь. Враг отлетал, взбешенный, но бессильный. И стальное кольцо армейского фронта опять смыкалось». Впоследствии Минин был членом реввоенсовета буденновской конной армии. Поэт, мечтатель, человек больше порыва, чем систематического дела, он потом как-то завял. Но ярко описал царицынскую эпопею в пьесе: «Город в кольце».
Валерий Межлаук. Тоже член реввоенсовета. Самый, вероятно, молодой из всех. Сейчас он сталинский руководитель всей металлопромышленности России. Обрюзг, потолстел, но сохранил прежнюю энергию и твердость. Тогда он был худенький и гибкий, всегда в длиннополой кавалерийской шинели, со сдвинутой назад фуражкой, с маузером в деревянном футляре на боку. На красивом волевом лице тонкие губы сжаты в постоянной насмешливо-спокойной улыбке. С этой же улыбкой, не сгибаясь под пулями, с рукой на маузере, он ведет за собой в атаку армейцев на фронте. Он самая, пожалуй, неподатливая пружина «царицынской оппозиции». Его первого снимет за непокорность Троцкий.
Щаденко. Политический комиссар 10-й армии. Сердито насупясь орлиной бровью и непримиримо ощеря свой воинственный глаз, он неустанно горел и метался по фронту, стараясь быть у Клима его верною правой рукой. Глядя на этого человека с такой типичной солдатской внешностью, трудно подумать, что еще недавно он был самым мирным портным, кроил сукно, примерял штаны и не думал вовсе о войне и революции. В дальнейшем он создаст себе большое имя как один из организаторов буденновской конницы.
Рухимович. Нынешний сталинский комиссар путей сообщения. Спокойный, вдумчивый, предприимчивый. Он был «наркомом» по военным делам одной из выраставших тогда, как грибы, красных республик: Донецко-Криворожской. Это он поручил Ворошилову формирование армии. В походе через Дон он ведал восстановлением путей и мостов – и справился с задачей блестяще. Теперь он ведает снабжением армии. И о том, как он работает, можно судить по отзыву Троцкого:
– Ни одна армия не поглощает столько ружей и патронов, как царицынская! А при первом отказе Царицын кричит об измене московских спецов.
Но Рухимович умеет не только выдирать снабжение у Москвы. По приказу Сталина он налаживает хромавшую работу царицынских заводов. Чинят 39, строят вновь 11 бронепоездов. Строят 18 броневых автомобилей. Приводят в готовность 300 орудий. Таковы результаты работы нескольких месяцев.
Иногда приезжают и проходят командиры фронтовых частей. Вот Думенко – типичный партизан, лихой командир кавалерийской дивизии, человек, который, кажется, вырос в бою и только в нем живет. Под градом пуль он пляшет на седле, чтобы ободрить своих конников. Его ценят, но при нем немножко смолкают разговоры, ему не вполне доверяют. Это одна из тех шальных голов разбушевавшейся народной стихии, которой все равно где драться, лишь бы драться и иметь успех.
– Думенко, – говорит Ворошилов, – мужик боевой, но очень хитрый и не наш. Если нам будет здесь очень туго, он сможет сбежать. Неспроста прислал ему письмо генерал Краснов, обещая прощение в случае его перехода к белым со всей дивизией. За Думенко надо следить в оба. Надо дать ему в помощь лихих и испытанных коммунистов. А главное, надо поприсмотреть, кем бы его заменить из его же ближайших сподвижников, если попробует он нас предать. Есть там у него смелый и рассудительный командир бригады, Буденный. Если он твердо стоит за рабоче-крестьянское дело, его надобно выдвинуть на дивизию.
Насчет Думенко Ворошилов не ошибся. Год спустя, оказав массу услуг Красной армии, имея орден Красного Знамени, Думенко, обидевшись, решив, что его не ценят, сделал попытку перейти к Деникину, предварительно перебив политических работников своей дивизии. Его расстреляли, несмотря на протест, чуть не вылившийся в бунт, любивших его солдат.
Не ошибся Ворошилов и насчет Буденного. Получив дивизию, отличившись под Царицыном, он стал потом во главе конного корпуса, а потом конной армии – и стал одним из крупнейших героев Гражданской войны.
И Буденный иногда приходит сюда. Больше молчит, оглядывает всех хитрыми черными глазами, топорщит, как жук, усы. Разговаривать он не умеет и не любит.
Зато вечером, в спокойную минуту, либо на фронте, когда надо развеселить солдат, он откинет широкие рукава черкески, топнет ногой – и пойдет ловко и лихо отплясывать наурскую. Потом обойдет солдат, лошадей, посмотрит все ли в порядке, ели ли люди, лошади. Потом вскочит на коня, припустит шпоры и отправится во главе своей души в нем не чающей братвы рубить врага.
– Ну-ка, братцы… Живей! Воевать, так воевать! Тут их и всех на один удар…
Приезжают и заходят с фронта Жлоба, Городовиков, Савицкий, Худяков, Харченко, Шевкопляс, другие. Их много. Все суровые «рубацкие» лица, все люди, на плечах которых окрепнет Красная армия и пойдет к победам…
IV
Хмуро, с недоброжелательством говорят в этом реввоенсовете о московском военном центре, где Троцкий подбирает «спецов, военных академиков, высокие штабы». Еще более хмуро – о штабе южного фронта, которому они, по приказу Москвы, должны подчиняться, но которому фактически не подчиняются никогда. Почему? Троцкий недалек от истины, когда пишет: «К командованию южным советским фронтом царицынские военачальники относились немногим лучше, чем к белым». Психологически все это было вполне понятно. Царицынская группа составилась сплошь из людей революции, из ее активных бойцов, из красных партизан, проделавших все первые этапы жестокой Гражданской войны. Они были прямолинейны, мыслили очень примитивно, жизнь еще не обтесала и многому еще не научила их.
Как можно, думали они, строить Красную армию, армию революции, опираясь, как это делает Троцкий, почти исключительно на старое офицерство, да еще офицерство штабное. Страна в Гражданской войне. Страна разделена на два непримиримых лагеря. В каком могут и должны быть офицеры? Конечно, только в белом. Там все симпатии их. Только незначительное меньшинство офицеров, затронутых нашими идеями, таково, что на них можно целиком опереться. А другие? Даже если офицер прямо не будет изменять, он все-таки, как правильно говорит Сталин, психологически неспособен на решительную борьбу с контрреволюцией.
– Конечно, – часто говорит Ворошилов, глава царицынской военной группы, – мы все партизаны. В училищах и академиях не обучались. За это сейчас многим расплачиваемся. Но ведь мы зато большевики! Не наемная какая-нибудь сволочь и не мобилизованные, а красные добровольцы…
Сталин довольно ухмылялся, слушая такие речи. Нельзя сказать, чтобы он полностью разделял отрицательное отношение к офицерам. Он вполне резонно указывал, что при каждом почти из ворошиловских командиров тоже есть и были свои «спецы», которым они доверяли и у которых учатся и учились. Без знания военного дела побеждать в войне нельзя. И больше, как у старых офицеров, учиться не у кого. Но Сталин ощущал вместе с тем, что у ворошиловцев была своя – и большая – правда. Он говорил:
– Их увлечения пройдут, они сработаются в конце концов со специалистами военного дела, отобрав в их среде тех, на кого действительно можно положиться. Но их стремление самим стать военными специалистами, самим командовать, против чего так восстает Троцкий, надо только поощрять. Иначе мы не создадим армии революции и не победим. Даже верные раз взятому на себя долгу старые офицеры, особенно штабные, разве они могут быть руководителями в Гражданской войне? Нет. У них слишком много рутины. А обстановка сейчас необычная, и нужны люди, которые к этой обстановке всем своим нутром подходили бы, ею воспитанные. Нужна смелость, нужна воля, находчивость, уменье связать себя накрепко с массой солдат. Нужны природные, жизнью, а не школой только выращенные военные таланты. И как революция совершенно, казалось бы, неподходящих и неподготовленных людей научает управлять государством, так она же, совершенно из неожиданных источников, выдвинет свои военные таланты. Ведь вот белая сторона: разве там не происходит то же самое? Разве там душа дела, настоящего дела, старые генералы? Нет. Выдвинулись и выдвигаются новые люди, вчера еще никому не известные, сейчас становящиеся вдруг большими людьми, проявляющие большие таланты. Кто такие эти новые генералы Гражданской войны? Они все почти вышли из относительно небольших чинов, выдвинулись силой, волей, смелостью, дерзанием… Таков Дроздовский, таков Врангель, Кутепов, Каппель… Таковы же Шкуро, Покровский, другие… Такие же люди выдвигаются и на красной стороне. Вчера слесари, портные, крестьяне, в лучшем случае унтер-офицеры – завтра они будут красными маршалами. И стремление этих самородков обеспечить себе возможность выдвижения и действования – вполне естественно. Этого не понимает только Троцкий, с его приверженностью к схемам, к централизации, с его чуждостью народным массам и их психологии…