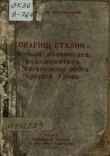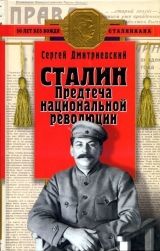
Текст книги "Сталин (Предтеча национальной революции)"
Автор книги: Сергей Дмитриевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Вот почему с первых же дней переворота большевики заняли самую неопределенную позицию. Когда перед только что образовавшимся Советом рабочих и солдатских депутатов стал вопрос: быть ли ему самому властью или же передать ее в руки умеренной буржуазии, и когда меньшевики всех партий высказались за последнее, – исполком Совета единогласно голосовал за установившееся таким образом двоевластие: в исполкоме было 10 большевиков. На пленуме Совета только 19 голосов раздалось против буржуазного правительства, большевиков же там было 40. Таким образом, большая часть большевиков шла тогда по течению, вместе с меньшевиками революционной демократии. Выпущенное питерскими большевиками воззвание к трудящимся говорило о «поддержке революционного правительства».
Правда, вскоре «молодые» во главе с Молотовым повернули влево. В «Правде», во главе руководства которой они стали, раздались голоса: Временное правительство – контрреволюционно. Самая крайняя группа «молодых» поговаривала даже о свержении Временного правительства – и находила отклик в части рабочей массы Петрограда, главным образом, в Выборгском районе.
Но приехали из Сибири «вожди»: Каменев, Сталин, Муранов. Они отстранили Молотова от руководства «Правдой». «День выхода первого номера преобразованной „Правды“ – 15 марта – был днем оборонческого ликования. Весь Таврический дворец, начиная от дельцов комитета Государственной думы до самого сердца революционной демократии – исполнительного комитета Советов – был преисполнен одной новостью: победой умеренных, благоразумных большевиков над крайними». «Когда этот номер „Правды“ был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей партии и у сочувствовавших нам и язвительное удовольствие у наших противников… Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что „Правда“ была захвачена приехавшими из Сибири тремя бывшими руководителями, то потребовали исключения их из партии». Так рассказывает один из оттесненных «левых», будущий вождь рабочей оппозиции, Шляпников. В его рассказе есть одно только преувеличение: лишь очень небольшая часть партийной массы и еще меньшая часть рабочих были настроены «лево». Революционная улица еще не осознала себя. Оборонческие настроения в ней были сильны. И Каменев, Сталин, Муранов шли по течению и могли не бояться угроз исключения из партии.
Как нельзя лучше подходил Каменев для роли «вождя» временно победившего в партии болота. Он был типичным героем безвременья. Он был человек без хребта, плоть от плоти, кровь от крови меньшевизма. В партии он всегда представлял меньшевистские течения. Стойкостью никогда не отличался. Еще во время войны он успел полуотречься от своих идей. Когда в Сибирь пришли первые вести о революции и когда там еще думали, что императором будет Михаил, Каменев поспешил от лица собрания местной буржуазии, на котором он председательствовал, приветствовать первого конституционного монарха. Потом так же горячо приветствовал Временное правительство. Вернувшись и войдя в Исполнительный комитет Советов, он там всем видом своим показывал, что ему даже немного стыдно представлять такую неприличную партию, как большевиков, но он сделает все, чтобы их образумить. Он готов был на любые уступки, лишь бы заключить выгодный компромисс и хоть краешком сесть у власти. В рабочей среде, в большевистских низах его никогда не любили. Вокруг его имени ходили мрачные слухи о связи его с царской охранкой. Но зато «старые большевики» верхушки партии видели в нем в эти дни безвременья как раз того человека, который был им нужен. Вокруг него группировались и Рыков со своими людьми в Москве, и Калинин. К нему же с первых дней по приезде в Россию примкнул изменивший Ленину Зиновьев. Словом, в те дни наметились уже линии и люди будущих «оппозиций» в партии.
Сталин, хотя и шел за Каменевым, но неуверенно, безынициативно, бездейственно. Он дал втянуть себя в политику соглашательства, но не мог играть в ней большой роли: это претило его действенной и твердой натуре. Поэтому он как-то застыл.
«За время своей скромной деятельности в Исполнительном комитете Сталин производил впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно», – записывает в своих воспоминаниях Суханов.
VI
Медленно движется поезд Финляндской железной дороги. Ленин задумчив. Он знает, что на том пути, который он выбрал, отступления нет. Или-или. Или победа, или полное поражение и смерть, не только его, но и его партии и его идей. Настал решающий момент, когда мечты и думы всей его жизни должны быть поставлены под проверку живой истории. Он крепко сжимает зубы. Решение принято. Отступления нет. Сегодня еще начинается борьба.
Рядом с ним бледный, дрожащий Зиновьев.
– Что будет, что будет? – шепчет он про себя.
Еще в Швеции им сказали, что их, вероятно, арестуют тотчас же по, приезде. Но только ли арестуют? В дни революции все страсти возбуждены. А они проехали через Германию, о них могут сказать, что они немецкие шпионы…
Зиновьев с удовольствием выпрыгнул бы из этого поезда, поехал бы один, незаметно. Там можно укрыться, переждать у кого-нибудь из друзей, осмотреться. Бог с ней, с политической карьерой. Жизнь дороже. Но поезд идет – и нет мужества скрыться из-под сурового ленинского взгляда, который как будто читает, что происходит в зиновьевской душе.
В окно на мелькающие домики и деревья смотрит Крупская. Ее мало интересует сейчас, что будет. Она привыкла уже ко всему. Она не думает сейчас о политике, о делах. Она переживает радостную минуту встречи с родиной. Ведь это же уже Россия, родная страна, русские березы, русские лица, русская речь! Все такое милое, родное, незабываемое. У нее на глазах слезы.
…Перед финляндской границей их встретили сестрорецкие рабочие и питерские большевики. Во главе – Каменев и Сталин.
Рабочие вносят Ленина на плечах на вокзал, просят сказать речь. Он отмахивается, кидает несколько приветственных слов. Ему не до речей. Ему хочется только знать, что делается в Питере. Но прежде всего он набрасывается на Каменева. Он знает уже, а еще больше чувствует его дела.
– Что вы там натворили в «Правде»?.. Что у вас пишется! Мы здорово вас ругали… Что за линия! Позор… Соглашательство.
Каменев виляет, как провинившаяся собака. Пытается улыбаться. Все объяснится, все уладится. Но Ленин забыл уж его. Обратился к Сталину. Деловито расспрашивает о положении в Петрограде, в стране. Сталин так же деловито отвечает. Его не смущают упреки Ленина. Ну что ж… если они ошиблись, неправы – Ленин приехал, выправит. Сталин доволен – и в первый раз за все дни революции чувствует себя уверенно. Нет, человек, который говорит так твердо и ясно, как Ленин, не может ошибаться. Он знает, чего он хочет. В Сталине опять просыпается доверие к вождю – и он готов уже стать рядом с ним.
Зиновьев и Каменев забираются в соседнее купе для интимного разговора. Настойчиво расспрашивает Зиновьев:
– Так вы уверены, что нас не арестуют?
Каменев успокаивает. Лицо Зиновьева разглаживается, принимает обычное наглое выражение. Он опять готов плести сеть привычных интриг. Поезд не успел подойти к Петрограду, как Зиновьев отрекся от Ленина.
…Финляндский вокзал. Почетный караул, музыка. Молоденький флотский офицер из делающих карьеру на революции произносит приветственную речь. Заканчивает надеждой, что Ленин вступит в состав Временного правительства. Ленин, в мятом пальтишке, в круглой шляпе, съехавшей немного набок, с огромным букетом красных цветов, который ему кто-то всунул и который он, не зная, что делать, плотно, как ребенка, прижимает к груди, молчит. Немного только улыбается, но лицо дергается. Ему не до приветствий.
Бывшие императорские комнаты. Депутация Советов. Чхеидзе говорит речь. Выражает надежду на дружную совместную работу. Ленин уже хмурится. Отвечает коротко и резко, обращаясь не к Чхеидзе, но к сгрудившимся тут матросам и рабочим. Ответ ясный:
– Да здравствует социалистическая революция!
Борьба началась.
Дальше толпа – из неизвестных людей, которых он никогда в своей жизни не видал, – но толпа близкая, своя. Мускулистые руки подымают крепкое маленькое тело, несут, как знамя, над тысячами голов. Дальше броневик, речи, медленная и торжественная процессия в ослепительном свете прожекторов, дворец Кшесинской, нарядные комнаты, серая толпа его большевиков, напряженно, с особенным ожиданием, смотрит на него. Опять приветствия, нудные, ненужные, – и вдруг он властно их обрывает и начинает двухчасовую речь, в которой рассказывает о всем, что передумал, к чему пришел, ожидая этого момента за свою долгую жизнь.
И выводы:
– Долой войну! Полный разрыв с международным капиталом. Пропаганда этого в массах. Братание на фронте.
– Никакой поддержки Временному правительству. Вся власть Советам! Через них – к революционной диктатуре.
– Земля народу! Конфискация всех помещичьих земель. Национализация земли.
– Банки из рук капиталистов. Единый общенациональный банк под контролем революционной власти.
– Контроль над производством и распределением продуктов.
– Долой постоянную армию! Долой чиновников!
– Не социал-демократия, а коммунизм.
– Создание революционного интернационала для борьбы с мировым империализмом.
Каждое слово, каждый лозунг, как резкий бич, ударяет по слушателям. Эти слова – самая сильная демагогия. Из них многое выкинет потом и сам Ленин. Но сейчас они для него – программа завоевания масс, единственный путь к власти. Слова эти, разлившись по телу страны, через месяц, через годы, как серная кислота, должны сжечь на нем все надстройки прошлого, нанося одновременно и тяжкие раны самому народу… Но сейчас этого никто еще не понимает. Сейчас его речь воспринимают, как она есть. Это разорвавшаяся бомба! Все оглушены. Лица одних загораются. Другие мрачнеют.
На следующий день начинается борьба против Ленина. Ленин в полном почти одиночестве первые дни. Рядом с ним только Сталин, Молотов, кучка «молодых». Против него все почти «старые большевики».
Английский посол записывает: «Среди вновь прибывших анархистов, приехавших в запломбированном вагоне из Германии, был Ленин. Он появился публично первый раз на собрании социал-демократической партии и был плохо принят». «В первые дни по его приезде, – вспоминает Суханов, – его полная изоляция среди всех сознательных партийных товарищей не подлежит ни малейшему сомнению».
Не только Каменев, не только Зиновьев, но и Рыков, и Томский, и даже Дзержинский были против Ленина. Недалекий Калинин плачется:
– Я принадлежу к старым большевикам-ленинистам. И я удивляюсь заявлению Ленина, что старые большевики стали помехой для настоящего момента…
…Но Ленин, опираясь на молодых, шел своим путем. Этап за этапом, упорно, медленно, но он продвигался к успеху. Сначала создание большинства в рядах собственной партии, победа над Каменевым и Зиновьевым. Затем создание большинства в Советах. Завоевание масс. Выявление и закалка в их среде инициативного ядра. И потом, наконец, решительным ударом – захват власти.
Начинается новая полоса русской истории. Расплывчатое безвременье кончается. Твердым шагом ступают на подмостки истории настоящие солдаты революции. Молча, со сжатыми зубами, пока что в стороне, в подполье, начинают выстраиваться для последней борьбы и суровые солдаты контрреволюции.
VII
С приездом Ленина политика Сталина становится все ясней, роль его все больше.
Когда после июльского выступления и разгрома Ленину приходится скрываться, к Сталину и Свердлову переходит руководство партией. Они ведут ее в точном согласии с линией Ленина, всячески борясь со всеми разлагающими и ослабляющими ее влияниями.
…В июльские дни, между прочим, в личную жизнь Сталина входит новый момент. Он знакомится со своей будущей женой.
В эти дни Ленин скрывался первоначально в Петрограде на квартире старого члена партии, работавшего на электрической станции, С. Аллилуева.
Сталин часто приходил туда. Шел вопрос: надо ли Ленину отдаться властям. Ряд большевиков, особенно «старых», высказывается за то, что надо. По городу ползут-де самые невероятные слухи. Говорят, что Ленин – германский шпион, что все июльское выступление, вся вообще работа большевиков ведется на немецкие деньги. Об этом говорят уже и в рабочей среде, и в полках гарнизона.
– Вождю партии брошено тяжелое обвинение. Он должен предстать перед судом и оправдать себя и партию. Иначе у партии не будет возможности оправдаться перед широкими массами.
Сам Ленин колеблется.
Сталин решительно против явки к властям.
– Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге!..
В то время вернулись с одной станции Финляндской дороги дочери Аллилуева. Они рассказали, что слышали в вагоне, что виновники июльского восстания и «тайные агенты Вильгельма» бежали на подводной лодке в Германию – и что очень жаль, что так случилось, потому что этих людей надо бы убить… Девочки были очень смущены, узнав, что главный виновник восстания сидит у них в квартире. Но их информация показывала, что попадаться в руки властям Ленину нельзя.
Сталин, смеясь, спросил младшую:
– Так убьют Ильича, а?
Серьезно глядя на него чистыми, еще совсем почти детскими глазами, она сказала:
– Конечно, убьют…
Уверенная твердость ее голоса, серьезность глаз, какая-то ясная определенность лица и фигуры произвели на Сталина впечатление. Его потянуло к этому полуребенку. Правильность информации девушек подтвердила и разведка Орджоникидзе и Ногина, которых Сталин направил в Исполком Совета узнать: гарантируют ли Ленину жизнь? Меньшевики гарантии дать не могли.
Было решено отправить Ленина сначала в Сестрорецк, а потом в Финляндию. Когда все возможности были выяснены, Ленина переодели и подгримировали, и поздним вечером они отправились на Приморский вокзал.
«Впереди шел Емельянов, за ним на небольшом расстоянии Владимир Ильич и Зиновьев, а я и Сталин шли сзади всех, – рассказывает Аллилуев. – Поезд был уже подан… Трое отъезжающих товарищей сели в задний вагон. Мы с тов. Сталиным непринужденно гуляли по платформе вдоль поезда. Перед самым отходом поезда Владимир Ильич вышел на заднюю площадку последнего вагона… Через несколько минут поезд тронулся. Мы с тов. Сталиным стояли на платформе и впивались жадным взором на стоящего на задней площадке Владимира Ильича… В душе посылали мы ему пожелания скорого и счастливого возвращения обратно, не делая ни одного жеста прощального приветствия. И как только поезд скрылся с нашего поля зрения, мы отправились пешком в обратный путь. На душе в одно и то же время было грустно и легко».
Сталин часто, несмотря на занятость, стал бывать в доме Аллилуевых. В последующие годы из случайной встречи родилась глубокая привязанность: он нашел человека, которому одному из всего своего окружения доверяет до конца.
…На съезде партии в августе 17-го года Сталин по поручению Ленина выступает с политическим докладом. Когда Преображенский к резолюции о «политическом положении», в которой говорится, что задачей революционных классов России является напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и для направления ее к миру и социалистическому переустройству общества, вносит поправку, обусловливающую успех наличием пролетарской революции на Западе, Сталин резко возражает:
– Не исключена возможность, – говорит он, повторяя свою и ленинскую давнюю мысль, – что именно Россия явится страной, прелагающей путь к социализму. Пора откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь.
…В сентябре 1917 г. Ленин прислал из Финляндии, где он еще скрывался, решительное письмо Центральному комитету партии.
«Большевики, – писал он, – могут и должны взять власть в свои руки».
Почему могут? Потому что они уже получили большинство в столичных Советах – петроградском и московском. Это значит, что большая часть активных революционных сил обеих столиц за них. Этого достаточно, чтобы разбить правительство. Предложив вслед за тем немедленный мир, отдав тотчас же крестьянам землю, большевики составят такое правительство, которое никто уже свергнуть не может.
Почему должны они взять власть? – Потому что растут силы противной стороны. Потому что предположено сдать Питер немцам, а это значит – разгром столичных большевиков. «Только наша победа в столицах увлечет крестьян за нами».
Итак: к захвату власти! – «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь».
Сталин ставит письмо Ленина на обсуждение Центрального комитета. Протестует, волнуется Каменев. Предлагает отвергнуть письмо Ленина, признать недопустимым какое-либо выступление. Предложение Каменева отклоняется, но внутри руководства партии вновь назревает раскол, который с особенной резкостью проявится в октябрьские дни.
VIII
Октябрьский переворот в Петрограде был типичным дворцовым переворотом, захватом власти небольшими группами активных революционеров, объединенных и организованных партией Ленина. Массы всколыхнулись уже после победы.
В состоявшемся 16 октября 17-го г., за несколько дней до выступления, совещании Центрального комитета большевиков с зависимыми от него организациями Бокий сообщал о настроениях рабочих районов Петрограда:
– Васильевский остров – боевого настроения нет. Выборгский район – обычная опора большевиков – тоже. Первый городской район – настроение трудно учесть. Во втором городском районе настроение лучше. Московский район: настроение бесшабашное, но выйдут только по призыву Совета, а не партии. Нарвский район: стремления выступить нет. Охтенский район: дело плохо. Рождественский район: тоже, сомнения, выступать ли. Пороховой и Невский районы: настроения улучшились в нашу пользу. Рождественский район: настроение выжидательное.
Надо заметить: «настроение лучше» или «настроение в нашу пользу» вовсе не означает готовности выступления. Это явствует из сообщения Шляпникова о настроениях рабочих-металлистов – самой влиятельной группы:
– Влияние большевиков преобладает, но большевистское выступление не является популярным. Слухи об этом вызвали даже панику.
Володарский – от Петроградского совета – подвел итоги:
– Общее впечатление, что на улицу никто не рвется…
Не лучше было положение в солдатской среде. Правда, петроградская солдатчина как раз накануне Октября увидела серьезную себе угрозу: намечался вывод петроградского гарнизона и замена его свежими фронтовыми частями. Поэтому питерские солдаты в подавляющем большинстве были против правительства и за большевиков. Но проливать свою кровь за последних они тоже не собирались: они были в конец разложены, потеряли всякую боеспособность. В октябрьские дни они «держали нейтралитет» – и только.
Ленин предвидел все это. Знал, что переворот может быть действием самых небольших сил – и это-то именно и заставляло его торопиться. Каждый день мог изменить обстановку.
Разговоры о сдаче Петрограда немцам были, конечно, только демагогией Ленина. Но замена петроградского гарнизона фронтовыми частями – вероятнее всего казачьими – это была серьезнейшая угроза.
Правда, правительство, под давлением Советов, все не решалось на эту меру. Советы понимали: для них эта смена была вопросом жизни или смерти. Они держались исключительно деклассированной солдатчиной. Приход войск, повинующихся своим начальникам, означал конец революционной олигархии. «Революционная демократия» предпочитала, конечно, спасать себя – и жертвовать Россией, государством, разжигать гражданскую войну. Ибо так стоял тогда вопрос.
Но, рассуждал Ленин, ведь может случиться, что генералы независимо от правительства пришлют войска. И тогда…
Ленин знал: национальная диктатура вполне возможна. Почва для нее была подготовлена. Страна шла к ней. Все дело было в том, чтобы национальные круги действовали быстро и умело. Все дело было в том, чтобы опередить их в захвате власти.
Вот почему Ленин ставил все на карту.
Вот почему Сталин в совещании 16 октября, на истерические протесты Каменева и Зиновьева, убеждавших не начинать восстания, но ждать учредительного собрания, где большевики будут играть-де почти решающую роль, говорил:
– То, что предлагают Каменев и Зиновьев, это объективно приводит к возможности для контрреволюции организоваться: мы без конца будем отступать и проиграем всю революцию.
IX
Национальная диктатура была возможна и даже неизбежна, если б в дело не вмешались большевики, потому что до октября – это надо твердо сказать – всенародной революции в народе не было. Революция ограничивалась городом – частично фронтом. Собственно, это не была революция, а почти что только бунт городской черни и тыловой солдатчины. Крестьяне же – решающая сила русской земли – до последних, предшествовавших октябрю месяцев оставались спокойными, покорно выжидали. Аграрного движения в России до августа-сентября 17-го г. не было.
Ленин учитывал это. Еще в апреле, вскоре после приезда из заграницы, он говорил:
– Аграрное движение только предвиденье, но не факт. Надо быть готовым к тому, что крестьянство может соединиться с буржуазией.
Несколько времени спустя он повторяет:
– Мы боремся за то, чтобы крестьянство перешло на нашу сторону, но оно стоит до известной степени сознательно на стороне капиталистов.
…Все дело в том, что столыпинская реформа, как ни скомкана она была после смерти ее творца, дала все-таки значительные результаты. К моменту революции Россия имела свыше трех миллионов выделившихся из общины крестьянских дворов. На земле вырос плотный слой сильных хозяйственно крестьян, окрепших и за счет пролетаризации части крестьянства, и за счет скупки помещичьих земель. Насколько силен был этот слой, насколько благодетелен был для страны все увеличивающийся рост мелкокапиталистических крестьянских хозяйств, можно видеть из того, что за 13 лет – с 1900-го По 1913 г. – цифра народного дохода по сельскому хозяйству от увеличенной продукции выросла на 33,8 % (с 2985 млн. руб. до 3995 млн. руб.). Самый мощный рост продукции сельского хозяйства относится ко времени после столыпинской реформы. За одно только пятилетие, непосредственно следующее за реформой – 1908–1912, – вывоз русских сельскохозяйственных продуктов за границу увеличился в полтора раза. Выросла и сельскохозяйственная техника. Например, ввоз сельскохозяйственных машин в годы, следующие за реформой, увеличился в четыре раза, ввоз удобрений – в 18 раз.
Все это не исключало еще революции вообще. Но все это давало возможность повести ее по пути союза буржуазии и крестьянства за счет помещиков – без коренной ломки государственного и общественного строя.
Крестьянство в массе непосредственно после Февраля не восставало, не захватывало помещичьих земель. Точно так же солдаты-крестьяне не уходили с фронта. Зачем? Земля и мир обещаны новым правительством, можно подождать. Беспорядка крестьянин не хочет. Наоборот. Землю он желает получить «по закону», от законной власти, чтобы потом никаких недоразумений не было. Мир тоже, думает он, может устроить только такая власть. Поэтому солдаты фронта, хотя уже и не воюют, но «держат фронт». К беспорядкам в городах крестьянство относится неодобрительно.
Но время идет. Из столиц приходят все худшие вести. Столичная толпа все бунтует, правительство ничего не может. Крестьянские ходоки возвращаются ни с чем. Нет никакой ясности, учредительное собрание все оттягивается, никакого просвета не видно.
Деревня начинает волноваться. Начинаются самочинные захваты земель. Начинается аграрное движение. Начинается народная революция.
Но и несмотря на это, национальная диктатура могла еще опереться на крестьян. Даже беднейшее крестьянство могло еще пойти за национальной диктатурой – и скорее, чем за большевиками, – потому что в каждом крестьянине жил собственник, союз с буржуазией городов был для крестьянства естественнее, чем союз с рабочими; каждый бедняк хотел, обогатившись за счет помещичьей земли, стать маленьким капиталистом.
Вот почему, если б перед Октябрем на место бессильного и непопулярного правительства стал национальный диктатор и гарантировал бы крестьянству и землю и мир, крестьянство дало бы ему и собственные кулаки и силы фронта для того, чтобы разогнать Советы и усмирить городской плебс. А если б дальше этот диктатор, во избежание новых потрясений, чтобы не передавать опять власти в руки революционной олигархии, разогнал бы учредительное собрание, крестьянство вновь поддержало бы его. Раз получена земля, раз есть или будет мир – к чему учредительное собрание… Характерно, что и накануне Октября, и во время и долго еще спустя в крестьянской среде говорили: царя бы надо… порядка иначе нет.
Произойди все это, осуществись то, что допускал Ленин: союз буржуазии с крестьянством под знаменем национальной диктатуры, в формах старого строя, но с реформированным существом, – основные противоречия русской социальной жизни могли бы быть устранены, исчезла бы потребность в народной революции, а следовательно, и в Ленине, и в его партии.
Ленин знал: в истории побеждает всегда тот, кто первый в решительный момент берет в свои руки инициативу. И он решил, рискуя всем, идти вперед, опередить круги национальной диктатуры, захватить первому власть, декларируя крестьянское право на землю и мир, выбить почву из-под ног и национальной диктатуры и учредительного собрания – и тем самым получить возможность произвести величайший в мире революционный эксперимент.
Власть – все может!
X
Но где же были национальные круги во время Октябрьского переворота? Почему они, будучи силой, которой больше всего боялся Ленин, дали этому перевороту совершиться?
Активной силой национального движения было русское офицерство. И оно в подавляющем большинстве палец о палец не ударило для защиты Временного правительства от большевиков.
По рассказу самого Керенского, в то время, как здание Зимнего дворца, где помещалось правительство, охранялось горстью юнкеров и декоративным женским батальоном, находившееся рядом здание штаба военного округа «было переполнено офицерами всех возрастов и рангов, делегатами различных войсковых частей».
– Один из преданных офицеров, – рассказывает Керенский, – отдав себе отчет в том, что происходит в штабе, и в особенности присмотревшись к действиям полковника Полковникова[3]3
Командующий правительственными войсками Петрограда в момент переворота.
[Закрыть], пришел ко мне и с волнением заявил, что все происходящее он не может иначе назвать, как изменой. Действительно, офицерство… вело себя по отношению к правительству, а в особенности, конечно, ко мне, все более и более вызывающе. Как впоследствии я узнал, между ними по почину самого полковника Полковникова шла агитация за необходимость моего ареста. Сначала о том шептались, а к утру стали говорить громко.
Находившийся в Петрограде союз казачьих войск, руководимый националистическими кругами, высказался за невмешательство казаков в борьбу правительства и большевиков. Казачьи полки, бывшие в Петрограде, все время осады Зимнего дворца «седлали лошадей» – но так и не выступили.
Наконец, еще накануне переворота в Петроград должны были прибыть вызванные Керенским, как Верховным главнокомандующим, фронтовые эшелоны. Они не прибыли. Когда Керенский сам бросился на фронт, командующий северным фронтом, генерал Черемисов, фактически отказал ему в помощи и затормозил движение войск.
Словом, военные круги, составлявшие ядро национального движения, сознательно выдали правительство в руки большевиков.
Конечно, это была ошибка. Громадная, непоправимая. Но психологически действия офицерства были вполне понятны.
Русское офицерство больше всех слоев населения пострадало от революции с первых же ее дней. Оно, надо сказать, в подавляющем большинстве отнеслось к революции вовсе не враждебно. Больших симпатий к старому строю даже у монархически настроенного офицерства не было. Слишком уж развенчала монархию война. Не надо забывать, что та же война сильно изменила офицерский корпус, демократизовав его. Но даже старое, кадровое офицерство принимало революцию как неизбежность. «Я никогда в жизни, – писал Дроздовский, – не был поклонником режима беззакония и произвола, на переворот смотрел, как на опасную и тяжелую, но неизбежную операцию».
Офицерство с готовностью стало поддерживать Временное правительство.
Но скоро пришло разочарование, дальше родились презрение и ненависть – сначала к Советам, потом к правительству.
Началось с того, что пролилась и в армии и во флоте офицерская кровь. Тут было, конечно, кое-что и от стихии. Взаимоотношения солдат и офицеров, особенно во время войны и особенно в армии, подобной русской, где высшее командование восстановило телесные наказания, вещь очень сложная. В момент вспышки революции отдельные эксцессы почти неизбежны.
Но в русской армии получилось нечто большее, чем отдельные эксцессы. Сброд, засевший с первых дней революции в Советах, систематически натравливал солдатскую массу на офицеров. Это делалось и для того, чтобы снискать себе популярность у разнуздавшейся уличной толпы: легче всего было принести ей в жертву офицерство, легче всего было кричать «Распни его!..» Это делали и для того, чтобы разложить армию и тем укрепить свое положение: армия, слушающаяся начальников, была величайшей опасностью для революционных олигархов. Но больше всего было здесь инстинктивной ненависти советской черни ко всему национально-русскому. Офицерство казалось ей – и это было верно – наиболее ярким воплощением русской национальной идеи, особенно офицерство фронтовое, жертвенное, героическое. И вот беспредельная ненависть к России, к русской нации, царившая в Советах в эпоху владычества меньшевиков, нашла естественную отдушину в травле офицеров. Не только лилась кровь: не было таких оскорблений и унижений, которые бы не пали тогда на долю русского офицерства… Единственно, что делало еще возможным существование офицеров на фронте, была поддержка самой солдатской массы, которой зачастую офицеры, связанные с ней боевым товариществом, были ближе, чем советские герои тыла.
Слабое правительство ничего не могло сделать для защиты офицеров и поднятия их авторитета – и офицерство невольно стало смотреть на правительство как на соучастника травли, творимой Советами.
Но унижения и оскорбления офицерство еще могло перенести, сжав зубы, собрав в железный комок волю. Не страшила и смерть – если б только она была полезна родине. Но страшила судьба родины. Видеть, как государство и армия с каждым днем все больше разваливаются, идут как будто бы к гибели, это было непереносимо. В офицерских кругах начала зарождаться мысль: не пора ли ему, офицерству, вмешаться в судьбы родины, помочь правительству, вывести его из тупика.