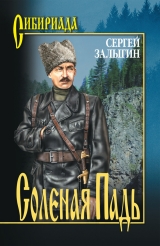
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Не оборониться, значит?!
– Ни в коем случае!
– А что же ты со мной сделаешь?
– Если еще вот так же будешь путаться, мешать нам – то я тебя стрельну.
– Это что же – твердо говоришь?
– Я ведь больше об тебе знаю, как ты думаешь. Много знаю: и кулацкую твою склонность, и в карасуковской степи твою агитацию знаю, чтобы не присоединяться покудова к партизанской территории либо даже свою сделать.
– Ты скажи-и-и-ка! – удивился Глухов. – Он что же у вас в штабе, Брусенков этот, – и со своими так обходится? Об ком что прослышит, не понравиться ему – так он того человека сразу к стенке? Вы-то ему все здесь нравитесь – так понимать? Счастье ваше! Другой так и верно что позавидует вам, счастливчикам!
– Ты, Глухов, не разыгрывай... – сказал Довгаль. – Война идет. И жестокая. Каждому очень просто до худого доиграться. Понятно?
– Понятно. Вовсе. И получается, я у себя дома, в степе карасуковской, вовсе не напрасно уговаривал мужиков – не спешить под ваше знамя. Лучше обождать. Придет Советская власть – она за это не похвалит, знаем. Но ведь и у нас будет резон ей, Советской власти, объяснить: не хотели идти под диктатора. Хотя под адмирала Колчака, хотя под Брусенкова-товарища. Не хотели, и вас ждали. Вот как придется объяснить!
– Навряд ли тебе придется объяснять что кому, Глухов! – сказал Брусенков. – Навряд ли...
Мещеряков подумал: слишком далеко зашло дело. Он-то дело затеял вроде шуткой, но не так обернулось. Взять Глухова под свою защиту? Сказать: он его привел сюда, он обязан его отсюда и живым выпустить? Чтобы не столкнуться с Карасуковской волостью, с мужиками степными? Решил повременить. Подождать решил, покуда останутся они с Брусенковым с глазу на глаз. Ссориться с начальником главного штаба на людях и при первой же встрече – надо ли?
Но тут получилось вот что: Глухов сам по себе от Брусенкова защитился. И вовсе неплохо это у него получилось.
– Ты, Брусенков, сильно вперед не забегай, – сказал Глухов. – Умные так не делают. Сроду! Ну, а когда ты все ж таки забегаешь, то я ведь тоже знал пользовался слухом, – к кому иду! И на всякий на случай доставил тебе махонький квиток!
С этими словами Глухов нагнулся, крякнул, сорвал с правой своей ноги сапог, а после стал разматывать длинную-предлинную, уже потрепанную, в дырах портянку. Когда нога у него осталась голой, в одной только черной шерсти, с желтыми выпуклыми ногтями, он взял портянку в руки и стал ее рвать. Не порвал – вцепился в портянку эту зубами, холстина затрещала, и он вытащил из нее небольшой лоскут клеенки. Голубая клееночка была, с синими цветочками, бабы такими любят на праздник стол в избе застилать. Глухов и эту клееночку порвал, достал из нее бумажку, расправил бумажку ладонью. Сказал Тасе Черненко:
– Ты, товарищ мой, по всему видать, крепко грамотная! Прочитай! Погромче!
Тася взяла бумажку, поглядела на всех кругом, но Мещеряков сказал ей быстро и строго:
– Читай, товарищ Черненко!
Тася Черненко стала читать...
"Товарищи мещеряковские и товарищи соленопадские! – написано было в этой бумажке. – Мы, карасуковские, посылаем от волости к вам своего представителя Глухова Петра. Выяснить настоящее ваше положение и на предмет нашего к вам присоединения. И чтобы вы не приняли товарища поименованного за колчаковского или просто так ему не сделали, то мы сообщаем вам, товарищи, для вашего же сведения: мы на всякий на случай поймали ваших партизанов в степу, четырех человек, как-то: товарища Семена Понякова, жителя села Малая Гоньба, товарища Корнея Сухожилова, жителя Верстова, товарища Павла Сусекова, жителя села Каурово, и еще жителя того же селения товарища Ивана Коростелева. Так что будет с нашим товарищем Глуховым вами сделано какое недоразумение – сообщаем вам, что и мы безотказно сделаем ту же меру с вышеуказанными товарищами. Но мы душой надеемся на правильный исход, и да здравствует народная власть, долой тирана Колчака!"
– Вот и видать сразу стало, – сказал Глухов, когда Тася Черненко кончила читать, – видать, что карасуковские мужики не кое-как деланные! А ты гляди бумагу-то зорче, товарищ женщина, – она еще и вашими заложенными товарищами тоже подписанная, бумага. Чтобы не вышло вдруг сомнения.
Все молчали.
Молчали долго, и Мещеряков подумал: надо сказать.
Весело так хлопнул Глухова по спине.
– Так это верстовский мужик – Сухожилов Корней – у вас заложенный! Ты гляди, сосед ведь он мой! Не то чтобы ограда в ограду, но и не так далекий дворов через пять и по той же стороне улицы! – И еще засмеялся Мещеряков.
А Глухов на него поглядел и громко заржал тоже, размахивая волосатой ногой.
Брусенков сидел – мрачная туча.
Ефрем и ему сказал:
– Да ты засмейся, засмейся, товарищ начальник! Смешно же!
Но Брусенков не засмеялся. Сказал Глухову:
– Погодь. Я подумаю. Может, по своей вредности ты и стоишь того, чтобы четырьмя нашими товарищами пожертвовать?
– Может, и стою! – согласился Глухов. – Но еще поимей в виду, что в те самые в деревни, из которых жителями происходят заложенные товарищи, из Карасуковки письма посланы. С объяснением и для всеобщего сведения. Как ты после в деревни те покажешься – тоже подумай! И еще сказать, ты знаешь теперь, что я вовсе не зря в вашем штабе нахожусь. Известно стало, что я представитель.
– Товарищи! Ну что же, товарищи! – сказал Довгаль. – Давайте так: по первому вопросу у нас не слишком получилась договоренность – насчет лозунга мировой революции. Когда считать вторым вопросом переговоры с Карасуковской волостью в лице товарища Глухова – то же самое, не слишком. Но это в данный момент не должно нас останавливать. Среди нас не найдется ни одного, который подумал бы на этом остановиться. Мы должны сознавать – нам всем нужна победа над кровавым Колчаком, и все мы ждем как можно скорее родную нашу Советскую настоящую власть, которая безусловно и сделает уже все возможное в интересах всех трудящихся масс. Наша же задача на сегодняшний день – окончательно оформить объединение в связи с прибытием товарища Мещерякова и с принятием им фактически всей полноты военного командования... – Довгаль посмотрел на присутствующих, потом обернулся к Тасе Черненко: – Товарищ Черненко сейчас огласит протокол, который и явится для всех нас, для всей Освобожденной территории радостным известием и самым важным документом! Прочти, товарищ Черненко!
Черненко поднялась над столом.
Ее тоненькая фигурка в ситцевом, в голубую крапинку платье, поверх которого надета была гимнастерка военного образца, и темная косынка, и руки с чуточку вздрагивающим листком бумаги – все попало в яркую полосу света, падавшую через окно. Тень Тасиной головы, рук и этого листка, темная и четкая, падала как раз на середину большого стола, так густо замазанного разноцветными чернилами, что все мелкие пятна сливались в одно большое радужное пятно, сквозь которое лишь слегка просвечивался стол – щели между досками, прожилки сосновых досок, выцарапанные на нем буквы и слова. Листочек в ее руках дрожал почти незаметно, тень же от листочка перемещалась от одной щелки до другой, как будто не находя себе места.
Тася Черненко заметила свое отражение и совсем немного, совсем слегка отвернулась от окна... Тень не исчезла, но стала сразу же нескладной – ни Тасиной головы, повязанной косынкой, ни ее рук, ни дрожащего листка уже нельзя было различить.
Тася Черненко начала читать:
– "...Главный штаб объявляет:
Отныне образуется главный штаб Объединенной Крестьянской Красной Армии – ОККА – с местонахождением в селе Соленая Падь.
Главнокомандующий ОККА, избранный на совещании командного состава обеих армий в июле сего года, товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич с сего сентября четвертого дня тысяча девятьсот девятнадцатого года фактически приступил к исполнению своих обязанностей.
Приступил также к исполнению должности избранный там же начальник штаба ОККА товарищ Жгун Владимир Дементьевич.
Все действующие армейские соединения сведены с сего четвертого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года во фронт действующей армии. Командует фронтом бывший командир армии восставшей местности Соленая Падь товарищ Крекотень Никон Кузьмич.
Переименование частей ОККА, а также назначение командиров будет произведено особым приказом главнокомандующего товарища Мещерякова Е.Н.
Главнокомандующий ОККА товарищ Мещеряков Е.Н. входит в состав главного штаба Освобожденной территории как член штаба и заместитель начальника товарища Брусенкова И.С. по военным вопросам.
При штабе ОККА создается ставка верховного командования в составе четырех человек: начальника главного штаба товарища Брусенкова И.С, начальника штаба ОККА Жгуна В.Д., командира фронта товарища Крекотеня Н.К. и комиссара сельского штаба Соленая Падь товарища Довгаля Л.И."
Протокол был уже известен Мещерякову, он был принят совещанием командного состава партизанских армий еще в июле месяце. И все этот протокол знали, разве только Глухов не знал его. Но все равно – все слушали с интересом. Будто только сейчас и сразу как-то поняли, для чего все вместе собрались.
Тася Черненко села.
Мещеряков поглядел на нее, подумал: "Курносенькой такой, а ведь все надо понимать! Тут сам-то не сразу разберешься... Брусенкову я подчиняюсь в главном штабе, заместитель я его по военным вопросам. А он мне как главнокомандующему подчиняется в ставке... Ну, сейчас спорить, выяснять не будем. Дело покажет. Протоколом всего не решить. – И еще поглядел на Черненко, удивился: – А ведь не курносенькая она вовсе".
Вынул из кармана гимнастерки трубку, стал набивать ее махоркой. И Куличенко стал вертеть цигарку. И Брусенков тоже. Все вдруг вспомнили слишком давно не курили.
– Ну, товарищи, – сказал Довгаль, – я считаю, все ж таки самое главное совершилось. Дай-ка твоего, Ефрем! – И через стол потянулся за кожаным кисетом Ефрема. – Самосад? Либо покупной?
– А я уже спутался! – ответил Ефрем. – У меня в походном в ящичке мешочек – я, каким бы ни разжился, все туда, в одно место, и сваливаю.
– Тоже – объединение! – сказал Глухов. – Ну когда у тебя большой мешок – угощай всех!
Мещеряковский кисет пошел по рукам.
Коломиец, затянувшись перед тем из огромной цигарки, поднялся с места.
– У меня тут есть еще одно предложение. Совместное от нашей старой части главного штаба, еще, сказать, бывшей до Мещерякова.
Видно было – говорить Коломиец не очень-то умеет, но старается, и так как говорил он, обращаясь к Мещерякову, тот кивнул:
– Давай.
– "По случаю укрепления центральной власти, то есть главного штаба Освобожденной территории и объединения армий, а также во имя торжества идей революции предлагается: сделать амнистию, и всех товарищей, совершивших преступления, кроме шпионства, освободить и отправить в действующую армию, где они должны исправить свое поведение и заслужить прощение", – прочитал Коломиец, сказал: – Далее! – И снова начал читать: – "Произвести пересмотр концентрационного лагеря военнопленных для особо тщательного выяснения лиц, мобилизованных Колчаком насильственно. Выявленных товарищей освободить немедленно, с правом вступления в доблестные ряды ОККА. На военнопленных добровольцев колчаковской армии настоящая амнистия не распространяется". Еще далее: "Подрывной отряд, действующий на железной дороге, переименовать в Первый железнодорожный батальон и впредь именовать "Первый железнодорожный батальон "Объединение". И еще – совсем уже далее: "Для комплектования частей и установления однообразия в мобилизации объявляется призыв на военную службу всех солдат сроков службы с тысяча девятьсот девятнадцатого по тысяча девятьсот девятый год включительно. Штабам полков озаботиться пополнением за счет лиц упомянутых сроков службы. Всем районным штабам принять этот приказ к точному исполнению!"
– Вот тебе раз! – удивился Глухов. – То была амнистия, то мобилизация! Верно, что и совсем уже далее! Это как же все тут в одно сложено?
– А что же, – ответил ему Коломиец, – так и должно быть! Народ чтобы понял – произошла радость для него; власть укрепилась и армия. Единение произошло. А под эту радость и единение мобилизацию провести! Для общей нашей победы!
Глухов, натянув наконец на правую ногу сапог, спросил:
– А какое единение? Мне вот не вовсе понятно. Что обсуждали – так ведь разъединение же одно? И с соединением пролетариев всех стран, и хотя бы с одной нашей Карасуковской волостью – одно разъединение. На том и сошлись только, чему вовсе обсуждения вашего не было! Потому, может, и сошлись? А?
Никто Глухову не ответил.
Может, каждый в уме ответил ему, только промолчал. У Мещерякова же, у того мысль одна мелькнула насчет Глухова... Он стал ее обдумывать.
Тем временем приступили к следующему вопросу: о съезде.
Брусенков коротко сказал, что в Соленой Пади на 30 сентября намечен второй съезд крестьянских и рабочих депутатов. Военная обстановка с тех пор осложнилась – как раз в это время могут разгореться бои непосредственно за Соленую Падь, но и необходимость в съезде возросла. В связи с объединением возросла. Нужно, чтобы съезд принял решения, обязательные для всей Освобожденной территории, чтобы он способствовал укреплению обороноспособности.
– А когда будут в то время за Соленую Падь бои – то и делегаты все пойдут на позиции. Мы и первый съезд проводили – пальба день и ночь слышалась, – сказал Брусенков, а Мещеряков подумал: "Съезд так съезд... Не надо покуда мне в гражданские и уже заранее решенные дела мешаться. Будет настоящая война – все и сами про съезды забудут".
Он все еще обдумывал занимавшую его мысль.
– У меня возражениев нет! – сказал он рассеянно.
Выбрали тайным голосованием заведующего агитационным отделом главного штаба, поскольку прежний заведующий замечен был сильно пьяным. Покуда тайно голосовали, опуская в ящики стола пуговки разного цвета. Мещеряков все думал, думал. Ему было все равно, кого выбирать заведующим агитотделом. Двоих голосовали, он не знал ни того, ни другого.
Стали подписывать протокол заседания. И тогда он вдруг сказал:
– Подпишись и ты, Петро Петрович.
– А я-то при чем? – удивился Глухов.
И все удивились предложению Мещерякова. Мещеряков же спокойно-тихо ответил:
– Присутствовал ты зачем-то здесь? Чего-то ради? А? Зачем-то мы тебя здесь держали? Вот и подпиши, что присутствовал представителем Карасуковской волости... Что считаешь возможным, чтобы волость, участвовала в съезде. Чтобы помогала, сколько возможно, своими военными действиями. Или ты против?
– Так ведь и не было об этом разговора! Что откуда? Откуда взялось?
– Ну, тебе виднее, товарищ Глухов! Виднее! А когда ты не подписываешься, то я предлагаю записать и объявить так: "На заседании главного штаба присутствовал представитель Карасуковской волости товарищ Глухов П.П. Вышеуказанный товарищ не высказался о возможности присоединения волости к Освобожденной территории и о совместных военных действиях. Поэтому главный штаб, обращаясь ко всем волостям и селениям с призывом о мобилизации и тем обязуясь защищать эти селения от белой банды, такое обязательство на себя по Карасуковской волости не принимает".
Не видел еще Мещеряков мужика этого растерянным, вовсе глупым... А тут Глухов под шерстью своей покраснел, часто-часто заморгал махонькими глазками. Потом вскочил и заорал:
– Так ить это же ты что? Ты во всеуслышанье подставляешь нас Колчаку? Объявляешь в гласном приказе?
– Насчет Колчака – не знаю. Насчет тебя лично – подставляю тебя карасуковским мужикам. Когда они от белой банды пострадают, то и спустят с тебя с первого шкуру. Вместе с шерстью.
И Глухов сел и зажал свою кудлатую голову руками, а после протянул руку, кому-то помахал ею, неизвестно кому.
– Давай бумагу...
– Еще я пошлю с тобой приказ вашей армии! – сказал Мещеряков, когда Глухов подписался.
– Да нету у нас армии никакой! Нету же! – воскликнул Глухов.
– Ну, ополчения есть.
– Ополчения по селам вовсе малые! Какая у их сила?
– Какая бы ни была, передашь приказ первому же, какое встретишь, сельскому ополчению. Приказ и не сильно секретный. Я его товарищу Черненко сейчас будут говорить, она напишет.
Тася Черненко торопливо взяла бумажку, ручку обмакнула в чернильницу-стекляшку, точь-в-точь такую же, какая стояла на столе Мещерякова в штабе армии. Приготовилась писать.
– "Товарищи карасуковское ополчение! – начал Мещеряков, обойдя стол кругом и приблизившись к Тасе Черненко. – Когда вы не хотите остаться одни перед лицом белой банды, а хотите в дальнейшем опираться на помощь Объединенной Крестьянской Красной Армии, приказываю вам, – диктовал Мещеряков, заложив руки в карманы галифе и поглядывая в бумажку через Тасино плечо, – составить отряд не менее как пятьсот конных и вооруженных человек и задержать продвижение одной из белых бандитских колонн на какой вам, удобнее будет дороге – Карасуковской либо Убаганской. Нам это все равно. Но задержите и нанесите потери на марше. Окажите нам свою преданность, а также защищайте смелым нападением самих себя, свою собственную жизнь. Когда вы примете настоящий приказ к исполнению, немедленно сделайте сообщение телеграфом на станцию Милославку следующими шифрованными словами: "Карасуковские хозяева согласны продать Милославскому обществу столько-то пудов муки". Пуды эти будут названы по числу собранных в конный отряд человек. После того можете быть уверенными в случае необходимости на помощь нашей армии".
Тася писала быстро, разборчиво. Красиво писала. "Ладная бабенка. Может, и девица еще. Все может быть..."
– "В случае крайней необходимости, хотя бы и на самое короткое время, возьмите телеграф вооруженной силой! – продиктовал дальше Мещеряков. – Когда заложенные наши товарищи не сильно вами обижены, то советую назначить командиром отряда Сухожилова Корнея. Смело и решительно идите в бой. Внезапность – это успех!.." Ну а теперь как это было в письме карасуковском написано? Которое ты в портянке принес, Глухов? Написано было ими: "Да здравствует народная Советская власть и долой тирана Колчака!" – вспомнил Мещеряков. – Так же и в этом приказе напиши! После уже и роспись сделай: "Главнокомандующий Объединенной Крестьянской Красной Армии Мещеряков!"
И Мещеряков снова посмотрел на всех присутствующих. Очень внимательно.
Нравилось ему все, что нынче он сделал. Он и не скрывал, что нравилось, – посмеивался. Куличенко вслед за ним тоже засмеялся, только еще громче. Довгаль улыбался, и Коломиец. Тася Черненко, кончив писать, подняла на Мещерякова большие темные глаза. Удивлялась ему или еще что?
Мещеряков сказал ей:
– Вот так, товарищ Черненко!
Не улыбался Брусенков.
А Глухов – тот жалобно сказал:
– Сильно уж ты меня окрутил, товарищ Мещеряков! По рукам, по ногам. Не думал я. Ну, никак не думал!
– Думал бы! – ответил ему Мещеряков. – Кто тебе не велел? Послушать – я тебя с интересом послушал. Дорогой, когда ехали, и нынче, в штабе. А сделал я – как война велит делать. Ты ровно котят нас тыкаешь-тыкаешь! А сила-то наша. И еще ты забыл: мужики карасуковские не зачем-нибудь – за помощью тебя послали к нам. И с тебя за это спросят. А ты? Увлекся то да се за нами замечать. Забыл свое назначение. А я вот не забыл, нет. С первого же разу и понял, зачем Глухов к нам посланный. И покуда ты у нас в гостях прохлаждался – колчаки поди-ка и еще народ в карасуковской степе успели потрогать. Имей и это в виду.
Глухов обе руки воткнул в бороду, сидел за столом не шелохнувшись, негромко Мещерякову отвечал:
– И все ж таки об тебе не думал я, что ты со мной сделаешь. Про кого бы другого, про тебя – нет! Я когда на тебя в путе только глянул – ту же минуту угадал. Хотя и не сразу ты признался, угадал Мещерякова. Почему? Говорил уже – заметный твой сразу военный талан. А у меня другой – хлебопашество мое дело, торговля тоже. Я и почуял: мы на этом друг дружку хорошо поймем. Не будем искать, чтобы ножку один другому подставить бы. И не побоялся я тебя ничуть, вестового твоего Гришку и того опасался больше, как тебя. Ты еще и Власихина освободил, подсудимого, ни на кого не поглядел. А со мной? Хотя бы поаккуратнее сделал, а то взял и под колчаковский удар волость погрозился подставить! Так это же безбожно! Это же разве аккуратно? На угрозе капитал делать? А? Может, он и главным-то потому называется, штаб ваш, что пуще всех других умеет таким вот манером грозить и угрожать? Хорошо... Я вернусь домой, что я об тебе, Мещеряков, должон буду мужикам сказать? – Глухов приподнялся за столом, ткнул пальцем в Мещерякова: – Ты мне объясни – как объяснишь, так и скажу! Ну!
Мещеряков усмехнулся.
– А чего же тут объяснять? Вовсе не трудно! Все, как было, в точности скажи. Передай мои слова: когда нас не поддержат нынче карасуковские, пущай пеняют на себя. Еще передай: Мещеряков велел сказать – война! Они поймут. И тебе самому это понять тоже надо бы куда больше!
Брусенков, до тех пор долго молчавший, сказал:
– Может, и не нужно объединение с карасуковскими? Богатые они слишком? И от нас далеко?
Брусенкова не поняли – или он еще хотел постращать Глухова, или в действительности так думал. Тот разъяснять не стал.
Мещеряков поднял с пола лоскуток клеенки – голубенький, с синими цветочками, – передал его Глухову.
– Возьми! Рано, видать, обулся-то! Сейчас и распоряжусь – дадут тебе коней, сопровождающего, сопроводят до района военного действия. Там ужо одиночно доберешься. Бывай здоров! – Похлопал Глухова по плечу.
Разувался теперь Глухов совсем не так, как в первый раз это делал... Тогда он сапог с себя сбросил – едва успел его в руках удержать, а то бы улетел сапог в угол куда-то, и портянку разматывал – словно флаг какой.
Теперь сдирал-сдирал обутку с ноги, кряхтел, носком левой ноги в пятку правого сапога упирался, но соскальзывал, не снимался сапог, да и только.
Кое-как осилил Глухов эту работу... Вздохнул.
– У меня в эту пору, в страду-то, в бороде пшеница прорастает, и я правда что глухой делаюсь: уши половой забитые и еще от грохота от молотильного ничего не слышат...
Удивлялись нынче находчивости Мещерякова все, кто был в штабе. Так ли, иначе ли, а удивлялись.
А ведь никто по-настоящему так и не знал, для чего Мещерякову наступление карасуковцев нужно было.
А нужно было вот для чего – для плана контрнаступления. Хотя командующий фронтом Крекотень и сдерживал белых на всех направлениях, но в тыл противника не заходил – неохотно отрывались нынче партизанские части от своих сел и деревень, не о рейдах по тылам – о защите деревень этих думали. Все силы свои, до единого человека, Крекотень хотел вывести на оборонительный рубеж. Задерживал противника на марше, а сам только и думал, как бы от него оторваться, занять оборону. И потому, что не стояло такой задачи – дать решительный бой хотя бы одной колонне белых, – все пять колонн с запада, севера и северо-запада, сближаясь друг с другом, двигались на Соленую Падь. Чем больше сближались, тем проще могли оказать поддержку друг другу.
Теперь же Мещеряков рассчитывал так: внезапный удар карасуковцев с тыла приостановит наступление одной колонны. Остальные задержатся вряд ли – будут еще день-два продвигаться вперед. И вот тут-то и нарушится между ними связь, и Мещеряков, предпринимая контрнаступление, имел бы против себя одновременно не более двух колонн, и то не сразу: в начале операции только одну, вторая подтянулась бы позже.
И еще было соображение у Мещерякова... Весь ход нынешних военных действий, конечно, раскрыл противнику план крестьянской армии. На рытье окопов выходили деревнями – это в тайне не могло остаться. А действия в тылу противника его бы дезорганизовали. Тут и еще можно кое-какие демонстрации провести, окончательно сбить противника с толку, а тогда и бросить все силы в контрнаступление.
Мещеряков указал карасуковцам две дороги – Убаганскую и Карасуковскую. А сделал он это, чтобы скрыть свои намерения. Ему будто бы все равно, где будет поддержка, – лишь бы она была. На самом же деле карасуковцы если выступят – так только по Убаганской дороге. Она была не открытая, не степная, перелесками шла и оврагами. Устроить на такой дороге засаду, после уйти без особых потерь – сама местность подсказывала. Ко всему еще Убаганская дорога почти вся проходит за пределами волости, ясно, что мужики карасуковские воевали бы на ней, до поры не навлекая на себя карательных белых экспедиций. Как будто неплохо было придумано?
Из своего приказа Мещеряков и не думал делать секрета. Зачем? Пусть все видят и понимают – он заботится о том, чтобы оттянуть сражение за Соленую Падь. И только.
Доволен был нынче Мещеряков.
Распрощался со всеми по ручке, Тасе Черненко так пожал обе и быстро-быстро поспешил в свой штаб, откуда хотел еще засветло успеть на позиции.
Кончилось заседание главного штаба.
Остались Довгаль и Брусенков. Закурили. Довгаль, потянувшись, расправил ноги и руки, сказал:
– Ну вот, а ты про Мещерякова говорил! А? Как он с Глуховым-то? А?
– И сейчас говорю... – хмуро кивнул Брусенков. – Говорю – не отказываюсь.
– Да что ж ты нынче-то еще можешь сказать? Уже вовсе не понятно мне!
– Давай поглядим, что человек этот представляет... Первым делом пошел против народного приговора и Власихина освободил. Ему-то что – комедию нужно было с нами, со всем народным судом сделать, или как?
– Ну, на это махнем... Было – прошло. Поважнее есть дела.
– Как бы только это. Комиссара он сам себе назначил. Какой из Куличенки комиссар? Мальчишка сопливый и бестолковый. Глядит начальнику своему в рот. Не хочет над собою никакого руководства Мещеряков, только наоборот и желает. Далее: начальник штаба у него – капитан царской службы. И Глухова он привел в главный штаб, с нами посадил его. Тот безобразничал, издевался всяко, а в результате что? Секретный приказ с собой увез, вот что! И распрощались они, видишь ли, друзьями. Друг дружку поняли! А когда он шпионом окажется, Глухов, – я нисколько не удивлюсь! Ничуть. Еще: в Знаменской деревне Мещеряков эскадронца застрелил. Напрасно и застрелил. Это не самоуправство ли? И еще: корову-то, видать, не зря когда-то Мещеряков с чужого двора увел. Вот тебе об нем картина. Плюс нынешний хотя бы разговор о лозунге соединения пролетариата. Кто-кто, а ты почему об этом забыл?
– Мнится тебе, Брусенков! Да разве можно на все это глядеть? Разве нас с тобой завтра же нельзя засудить, что мы в войне этой кого-то напрасно стрелили? Ты гляди на действия человека, вот на что! Как армия его слушается, как идет за ним! Как революцию он делает, жизни за нее не жалеет!
– Не сильно хорошо он делает! Нет! Я на его месте сделал бы, как замышлялось с самого с начала: оборонительных рубежей создал бы не один и, может, не два и всякий раз заставил бы колчаков рубежи эти с бою брать, наносил бы потери им побольше того, как нынче Крекотень на марше наносит. А на последнем рубеже и дал бы решительный бой.
– Вот что, Брусенков, – главнокомандующего мы сами выбирали. Народ верит ему. Давай и мы с тобой поверим. Он же год воюет – ни единого сражения им не проиграно!
– И сейчас не захочет – не проиграет. Не захочет – ничего худого в Соленой Пади не будет. Ну, а чего он хочет – не знаю. Прежде будто знал, стал на его поведение зорко смотреть – теперь не знаю.
– Та-ак... – сказал Довгаль. – Еще вопрос: после власихинского суда возвращались мы с тобой домой, ты обещал мне тогда – уберешь Мещерякова. Всерьез обещал или под горячую руку сказано было? И пошли вы все – и Коломиец, и товарищ Черненко – к Толе Стрельникову в избу. А я не пошел и жалел после сильно... Об чем был между вами разговор? Как решено?
Брусенков молчал.
Терпеливо ждал ответа Довгаль. Не дождался. Напомнил:
– Жду я. Может, и мне не веришь уже?
– Все может быть... – вздохнул Брусенков. – Не кто, как ты, ездил нашим представителем в Верстово. Не кто, как ты, с Мещеряковым тот раз вел переговоры. А вдруг он обошел тебя? Так же вот и обошел, как нынче Глухова, а?
Довгаль посидел, помолчал...
– Ну, когда так, то убирать надо тебя, Брусенков. Подумай об этом. Покуда сам подумай – после за тебя уже подумают.
Брусенков поднялся, молча постоял. Подошел к Довгалю, положил ему руку на плечо.
– С тобою, Лука, мы знакомые уже, вспомнить, годов более пятнадцати. И я нынче об тебе сказал – только как пример привел. Вообще. Как нужно глядеть кругом себя, как строго друг с другом быть. – Помолчал Брусенков, вздохнул. – Когда бы не Черненко, девка эта, то было бы тогда, в избе Толи Стрельникова, постановлено – тут же Мещерякову насчет Власихина и предъявить. Чтобы он взял назад свое приказание об освобождении подсудимого.
– Он бы на это не пошел, Мещеряков! Ты это знаешь.
– А тогда его убрать.
– Совсем?
– Совсем.
– Значит, когда бы не Черненко, так и решено бы стало?
– Стало бы. Она против пошла, и Коломиец за ней, и Толя Стрельников колебания проявил. И решено было: еще на Мещерякова поглядеть. Показать ему всю нашу власть, как устроено в Соленой Пади. Как главный штаб управляет. Чтобы он понял и согласился с этим. Чтобы сам подчиняться этому управлению тут же и согласился. Ну, а когда он покажет себя против, не понравится ему... Поведем его по всем отделам главного штаба. Завтра, либо послезавтра поведем подробно. Чтобы поглядел бы. А мы чтобы – поглядели на него. И сделали об нем окончательный вывод.
– Да в уме ли вы? Об чем вы думаете в настоящий момент? – воскликнул Довгаль и покраснел весь и задрожал. – Белые же завтра подойдут вплотную, зверства сделают невиданные, а вы твердите: "Поглядим на Мещерякова. Поглядим, как с ним сделать".
– Ну и что же? Главное сделано! Сделано объединение. А Крекотень – тот ничуть не хуже Мещерякова управится в главном командовании... В остальном же был уже сегодня между нами этот разговор, но ты, видать, не все понял: пусть белые придут! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое великое дело! Войдут в революцию с головой, без остатка. Каждый до тех пор в нее войдет, что обратного хода уже ни у кого не будет. Поэтому данный момент чем он кровопролитнее, тем это даже нужнее. И если существует подозрение, что Мещеряков – пусть в месяц однажды, но назад оглядывается либо жертв боится, то и убрать такого надо без сожаления. Отклонение каждого из нас от истинной линии страшнее, чем колчаковские банды. Пережить однажды – пройти сквозь горячий костер! Надо! Колчак – тот огня не боится. У него решение – сгореть, но не отступить. И он ни своих, ни чужих – никого не жалеет для огня этого. А мы почто слабосильнее его оказываемся?! Он-то – как зверь в клетке гибнет загнанный и будущих проклятиев не боится! А мы? Нам за нашу гибель история памятник сделает!








