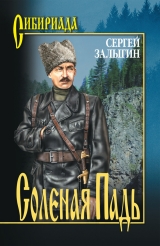
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Но на самом-то деле этот товарищ солдат не слишком оказался способным, слово "корректный" так и вовсе не смог произнести – закаркал.
Мещеряков немножко засомневался в старшем: правильно ли он объясняет, будто слово "корректный" и "вежливый" обозначают одно и то же? Кому бы и зачем это понадобилось – два одинаковых слова ставить рядом, бумагу напрасно переводить? У него мелькнула мысль, что "корректный" может обозначать "точный" либо "правильный", поскольку для точного и правильного артиллерийского огня всегда необходима корректировка.
Следующий пункт инструкции был такой:
– "В нашей армии, как среди самих начальников, так и среди солдат, сильно развито сквернословие. Наш русский язык настолько богатый словами и выражениями, что вполне можно обойтись без слов и мыслей, которые неприятно действуют на слух порядочного человека. Нужно всем сознательным социалистам стремиться не употреблять сквернословия в разговоре".
Мещеряков подозвал своих командиров ближе и тихо, строго сказал им:
– Они вот нынче выучатся – рядовые солдаты, поймут, как надо, а назавтра вы, командиры, приходите к ним и перед строем во всеуслышание провозглашаете: "...в бога мать!" Учтите, товарищи командиры, – чтобы отныне ни в коем случае такого не было! Понятно?
– "Каждый солдат должен охранять и беречь народное хозяйство, а также строго следить за лошадьми и отнюдь не злоупотреблять ими, – читал между тем старший. – Каждый должен помнить, что это его собственность в отдельности и в общем – собственность всего народа. Каждый член семьи бережет свое хозяйство, а мы все представляем из себя членов общей народной семьи. Кроме того, мы должны развивать в себе жалость и любовь к животным".
И опять Мещеряков строго поглядел на своих командиров, а те поглядели на него: никто уже не озирался сердито на Петровича. Комполка двадцать четыре заметно притих...
И Мещеряков тронулся идти дальше, но Петрович показал рукой, чтобы командиры еще постояли на месте, еще задержались, а сам приказал старшему:
– Давай пункт девятнадцатый! Покуда мы еще здесь – давай!
Девятнадцатый пункт и солдаты, и командиры, и главнокомандующий слушали с особым вниманием.
– "Чтобы победить капитал и быть свободным, мы должны иметь сознательную, убежденную добровольческую армию. Сознательный человек всегда знает, за что идет и что ожидает его в будущем. В борьбе он не считается ни с чем. Сознательность – это условие дисциплины, товарищества, дружбы и любви друг к другу. В этой товарищеской дружбе, в этой связи между собой – наша сила навсегда!"
Командиры поглядывали на Мещерякова, тот сказал:
– Исстрадался народ по человеческому! За века – исстрадался.
Но командир полка двадцать четыре все еще не оставлял до конца своей точки зрения.
– Занятия занятиями, – сказал он, – только при чем здесь рапорты и линейки? При чем цельная контора при цейхгаузе? Каждая шелудивая пара сапог находится под замком и под печатью писаря? Тут явное противоречие у красных соколов: когда они такие сознательные, то и бояться, что эту пару сапожонок кто-то сопрет, – им тоже не следует. Это для темного дореволюционного мужика либо для врага-буржуя необходимая мера, а для социалиста она есть не более как надругательство!
– А что же, – вдруг согласился Петрович, – что же, это твое замечание, товарищ комполка двадцать четыре, учтем... Это замечание не в бровь – прямо в глаз!
Мещеряков сказал:
– Покуда, товарищи, хватит наших общих толкований о предстоящем сражении с ненавистным врагом. После я снова соберу всех вместе, выслушаю мнения... А пока – подумайте.
Командиры ушли, последним как-то неохотно ушел комполка двадцать четыре.
Мещеряков и Петрович остались один на один...
Сели на стол для чистки стрелкового оружия, поделанный не из досок, а из жердей, отесанных на одну сторону.
Посидели.
За деревьями где-то рядом кто-то по-настоящему, по-фельдфебельски, командовал:
– На обед – ста-а-новись! Живо!
Послышался ретивый, дружный топот, потом – снова команда:
– Ша-а-гом... – ложки взяли? – арш!.. Правое плечо – вперед!
– Ну, – сказал Мещеряков, – объясни-ка, Петрович, шутка природы, – с чего ты все-таки свою дисциплину в полку начал?
Петрович, умостившись на столе, сказал:
– Начал с того, что без нее мне нельзя. И только с ней можно. Ты же сам только что говорил: революция – дело народное. Ну, а кто пришел нынче в революцию и в полк красных соколов? Объяснял уже – мадьяры, шахтеры. Соленопадские мужики. Эти – революционеры до мозга костей. Но есть и другие – более роты штрафников, осужденных трибуналом за преступления против революции, вчера амнистированных по причине слияния партизанских армий. На прошлой неделе прибыли кулаки, прямо-таки капиталисты – кожевенные предприятия имеют, лесопилки, мельницы, пимокатные заведения и тоже – воюют за Советскую власть!
– Откуда этих-то взял? – удивился Мещеряков.
– Как бы брал... У них у многих Колчак сильно разорил хозяйство. Кто поумнее, видит – колчаковская власть против народа не устоит, разбой это и вообще никакая не власть. Вот они и захотели вовремя с народом встать в ногу. Некоторые есть – в прошлом году уничтожали Советскую власть, а Колчак пришел, на словах им – спасибо, на деле – разоряет. Они схватились за головы и вместе с заядлым казачеством нет-нет – приходят к нам. Восстановить себя в наших глазах. Есть случаи – хозяин нанимает батрака, оставляет его дома и сам идет в партизаны. Воюет неплохо, ему так и надо – он свою вину чувствует. Вот как по-разному воюют люди и даже проявляют героизм. Покрутив за дужку очки, Петрович вдруг спросил: – Ты, командарм, вчера в главном штабе заседал?
– Было. А что?
– Подписал протокол объединения армий?
– Было. А это и тебе все известно, товарищ Петрович?
– Мне известно... Я ведь тоже член главного штаба. Только сейчас вот укрепляю полк...
– Тогда понятно!
– Зато мне не все понятно, товарищ Мещеряков... Ты сейчас заместитель начальника главного штаба по военным вопросам. Как со штабом знакомился? Ты что же – военный спец, и только? Что и как главный штаб делает – тебя не касается и касаться не будет? Не вникаешь. Прячешься. А ведь мы, когда выбирали главкома, помнили, что ты член партии, вступил за два месяца до Октября. Что ты – за народное дело и требования революции всегда поймешь, немедленно исполнишь.
Мещеряков выслушал, подумал и сказал:
– Вот, товарищ Петрович, история: только человека стало побольше других видать – на трибуну он залез или во взводные вышел, – он уже за себя не толкует, толкует за народ. Народную волю выражает либо народный гнев и суд, до чего бы ни довелось – везде у него самое народное. Колчак, гад, и тот объявляет: "Мы – народ...", "От имени народа...", "Ради народного счастья..." Но ты скажи, товарищ Петрович, как это на себя взять: прийти в главный штаб, вот как я пришел, и тут же заговорить от народа? Не умею. Не научился еще. Как-никак научился воевать, но не более того. И знаю, на что я способный, что могу, что – нет. Не надо, слушай, товарищ Петрович, обмана, будто мы можем все. Не надо! Проще нет – сделать обман, куда труднее его не делать. Не мешай его не делать!
Петрович веточку березовую с единственным листочком потрогал...
– Ты уже сейчас о чем мечтаешь, товарищ Мещеряков, не на Курейский ли край своей деревни забиться? В свою избу?
Мещеряков прикрыл глаза.
– Стал уже ее забывать, за войной этой, свою избу. Но только вот что: я тогда скорее всего товарища солдата и партизана обману, когда у меня в голове, кроме мыслей о необходимой победе, еще и другое что-то будет. Скажу не более того, что знаю: восстановим Советскую власть – она с умом будет дальше делать, и не хуже меня, а несравненно лучше, потому что первый шаг, первая победа для того и делается, чтобы самое лучшее пошло в ход! Мещеряков примолк, глянул на Петровича и вдруг очень строго спросил у него: – Вот еще что. Вижу-то я тебя первый либо второй раз, не более того. Кто ты такой?
Петрович чуть замешкался. Мещеряков еще требовательнее спросил:
– Какого года рождения, товарищ командир полка?
– Тысяча восемьсот семьдесят шестого, товарищ главнокомандующий! ответил Петрович и встал – руки по швам.
– С какой местности?
– Из Нижнего Новгорода!
– Теперь скажи, сколько же лет ты находишься в военной службе, товарищ комполка? Если взять в сумме – сколько лет?
– Нету у меня никакой суммы, товарищ главнокомандующий! – ответил Петрович.
– То есть как? Что же ты служил в своей жизни: год, два, три или десять?
– Три месяца был на германской, три – в рабочем красногвардейском отряде, два – в партизанской армии. Все!
"Ах ты варнак! – сердито подумал Мещеряков, – тоже мне командир и допросчик – испытывает главкома!"
Не стал дальше Петровича о его жизни расспрашивать. Отложил на после когда-нибудь. Вздохнул и сказал:
– А ведь я что надумал нынче? Надумал свести полки в дивизии, после на совещании командного состава проголосовать кандидатуры комдивов. И – твою кандидатуру.
– Ну, это нехорошо, товарищ Мещеряков! Я же тебе только что говорил: опыта нет... – сказал Петрович. – Боевой опыт недостаточный.
– Отказываешься? А ежели революция требует, чтобы ты стал комдивом? Ты что же – это требование не исполнишь? И – не поймешь?
Но не сердито сказал это Мещеряков Петровичу. На белесовато-рыжего этого человека он ничуть не сердился. Он задумался...
Шел к месту, где оставался коновод.
В обратном порядке миновал дорогу, на которой встретился нынче с Дорой, миновал боковую линию окопов, несуразную, никому не нужную, может быть даже вредную, но выкопанную народом так же тщательно по приказу товарища Брусенкова.
Народу страдовало, пожалуй, даже больше, чем до обеда, только сдвинулся он в глубину полей, хлеб убирался теперь не только на той местности, где предстояло разыграться сражению за Соленую Падь, но и на дальних подступах к этому полю. Где-то там все ложилась пшеница в горсти, в валки, и вязали ее потные, горячие бабы с подоткнутыми подолами домотканых юбок, охрипшие мужики погоняли лошадей в косилках и самосбросках, метали снопы на подводы, и подводы, груженые и порожние, текли в разные стороны – одни медленно, а другие быстро – пыльными дорогами-большаками, невидимыми проселками, просто без следа – по стерне.
Кипел народ, как будто бы вот-вот уже должно было заняться сражение, кони ржали громко, тревожно и в то же время торжественно, в сентябрьски синем небе таяли последние обрывки белесой дымки, и плыли своими путями крутые чуткие облака. Будто знали о близкой и дальней судьбе всех этих мужиков, баб, и ребятишек, и коней, но до поры спешили унести за горизонт свои тайны.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Только вошел Мещеряков в главный штаб, как в коридоре опять встретил Брусенкова, Коломийца, Тасю Черненко.
Все они были серьезные очень, особенно начальник штаба.
А встречали его с почетом – трое одного. Хотели представить свой главный штаб, свою власть во всей красе. "И понятно! – подумал Мещеряков. Войну воевать – это каждый мужик может, его этому на действительной учили и на фронте. А вот власти его никто не учил. Даже наоборот – всегда ему внушали, что власти он коснуться не может... Ну что же, поглядим, что это такое – наша мужицкая власть. – Поплотнее надвинул папаху. – Поглядим!"
Тепло сильно было в папахе. Жарковато. Но и ждать, покуда придет зима, тоже можно не дождаться.
Тут откуда-то подошел еще Лука Довгаль Станционный, этот с Ефремом поздоровался приветливо, и все вместе начали обход главного штаба по отделам. Начали с посещения отдела народного образования. Он по коридору первым был – в бывшей кухне кузодеевских хором помещался.
До сего времени пахло здесь щами, печеным хлебом, вареным-пареным еще каким-то, а с большой печи, с одного ее угла, торчали черенки ухватов. Вся же остальная печь, и шесток, и два подоконника, и все четыре угла комнаты завалены были книжками.
За большим кухонным столом, сильно порезанным ножами и сечками, каждый спиной к небольшому узкому оконцу, сидели двое – заведующий отделом и его заместитель, он же секретарь.
Они сидели, а посреди пустой половины комнаты перед ними стоял посетитель – еще молодой, с русой бородкой, румяный священник. Ряса на нем была чистенькая. Аккуратный батюшка.
Когда распахнулась дверь и один за другим вошли Брусенков, Довгаль, Черненко Тася, Мещеряков, а чуть позже еще и Коломиец – батюшка потеснился в угол, а завотделом народного образования и помощник его встали. Помощник старый-старый учитель – загасил желтым пальцем цигарку и бросил ее под стол. Но оба они тут же и сели снова, поздоровались с вошедшими уже сидя.
Брусенков стал объяснять Мещерякову, кто они такие – нынешние руководители отдела, тыча пальцем то одного, то другого. Когда Брусенков говорил о них что-то не так, неточно – те поправляли его.
Мещеряков слушал внимательно, боялся что-нибудь пропустить, не понять.
Заведующий был только чуть помоложе своего помощника, в недавнем еще прошлом – знаменитый в Соленой Пади, да и в других окрестных селах плотник. Строил он церкви, моряшихинская церковь тоже была его работы, жилые дома бывший кузодеевский дом – он и начал и кончил, теперь в нем и помещался весь главный штаб, а еще, когда стали строить школы, он и школы тоже ставил, не один десяток успел по деревням поставить школ. Тем более постройки немудрящие, одноэтажные, под старость лет как раз по силам ему приходились. Построил он школу и в Соленой Пади – из камня даже сделал дом, – и в тот же год просило его общество стать школьным попечителем. Он и стал и уже бессменно в этой должности состоял, а нынче главный штаб, как опытного в деле человека, назначил его заведовать отделом народного образования.
Помощника ему дали с умом – учителя все той же школы.
– На первый случай, – сказал Брусенков, – работники они обои вовсе не худые. А навсегда нам их не надо – придет Советская власть, та и возьмется уже за дело, как должно быть. У нас до недавнего времени сильный был на этом месте работник, давно уже партийный. Нынче на другой должности – полком командует.
Мещеряков подумал: на этом же месте сидел ведь товарищ Петрович! Нынешний командир полка красных соколов. И вспомнились ему порядки, которые тот смог сделать в своем полку, и его собственное неудавшееся намерение сделать Петровича комдивом.
Тем временем учитель пошарил рукой под столом и сбросил окурок с узла, на котором тот начал было тлеть. В узел завернута была постель – он здесь и спал, учитель, в отделе.
Сбросив окурок на пол, учитель вышел из-за стола, похлопал Мещерякова по плечу и сказал:
– Ты вот что, товарищ Мещеряков, ты, голубчик, будь добр, сделай сражение как следует, а то мало того – народ пострадает, еще и детишек нынешнюю зиму учить никто не станет. А это плохо, очень плохо!
– Постараемся! – кивнул Мещеряков. Он хотел сказать: "Постараемся, товарищ учитель", но не получилось. "Товарищ" и "учитель" – не складывались у него слова эти вместе, тем более что говорили с ним, словно урок ему на дом задавали.
– Постарайся! – сказал учитель, одобрительно поглядев на Мещерякова из-под растрепанных, но редких бровей. – Тут вот Ваня, то есть товарищ Брусенков, обещал сразу после сражения и всех учащих из армии вернуть. Хотя занятия еще не начались, но ведь и готовиться к занятиям некому – кусочка мела в школах нет, грифеля, дров! Окна всюду побитые. Но главное – это учащие. Их еще Колчак брал в армию, отменил льготы, а нынче – мы сами берем. Ничего хорошего в этом нет.
– У нас порядок – учителя от воинского призыва освобождены. И только по силе необходимости, на период решающего сражения, призваны. Все, кто на нашей платформе, посланы в армию как агитаторы, – пояснил Брусенков.
– Давай, слышь, товарищ начальник главного штаба, отпустим их седни же! – предложил ему Мещеряков. – Что там взрослых агитировать? Они жизнь готовые за правое дело положить, а их агитировать! В чем еще-то? Детишек будут учить – вот это сильная агитация!
Брусенков главнокомандующему не отвечал, тот еще предложил:
– Ну, давай так: отпустим учителей по школам, но обяжем сражаться по месту ихнего жительства. Дадим по бердане, кто поздоровше – пику, и, когда дело дойдет до сражения за собственный заселенный пункт, пусть идут в первом ряду. Личным примером пусть агитируют!
И опять Брусенков ничего не ответил, а вступился плотник:
– А что? Он верно говорит – товарищ наш главнокомандующий! И вот они, он кивнул в сторону своего помощника, – они тоже верно положение обрисовывают!
Тут Брусенков обернулся к священнику:
– По какому делу, благочестивый?
Священник вздрогнул, приподнял руки к груди:
– Не могу я дать подписку, каковую люди эти от меня требуют! Не могу!
– А мы не требуем! – сказал плотник. – Мы вам, отец, предлагаем. И сказать – уважительно предлагаем.
– У нас, товарищ главнокомандующий, – снова пояснил Брусенков, порядок: церква отделенная от государства. И мы со всех попов и дьяков, которые учат, берем подписку, чтобы они в школах об законе божьем нынче не заикались. Хватит дурману! А которые родители все ж таки желают этому детей учить – мы не тормозим: нанимайте попа за свою особую плату, учите, но без школьных стен, а у кого хотите в избе. Об этом разговор у вас нынче идет?
– И все равно надо посмотреть, – заметил учитель, – чтобы и вне школы отцы святые не забивали детям головы всякими небылицами. Если уж учат, пусть учат только ради пробуждения в детях добрых чувств к людям. Никак иначе!
– Но совесть моя, совесть слуги божьего! – снова и торопливо заговорил священник, тут же сбился и продолжил почти фальцетом: – Я не более как слуга его! Не о своем достоянии, о достоянии бога, о божьем законе совесть моя умолчать не может!
– А вот это ты зря, отец! – сказал учитель. – Вовсе напрасно. Говори о себе, о своей нужде, что касается учения божьего – не тебе его спасать!
– Богу – его закон нужон ли, нет ли – не знаю! – пожал плечами Брусенков. – Видать, несильно, когда он довел до нынешней убийственной войны. Но есть ли он или нет – этот закон, а выгода тебе от его, батя, все равно идет. Как на тебя глянешь, так и скажешь: идет. Даже и двух мнениев быть не может.
Мещеряков тоже засмеялся:
– Ну, еще бы!.. Солдатки, те, безусловно, к батюшке этому только и ходят причащаться! – Посмотрел на Тасю Черненко и смеяться перестал, стал серьезным.
Священник тоже серьезно поглядел на него, а потом обернулся к учителю:
– Согласен я с тобою – спасать великое учение немыслимо, когда оно есть бессмертно само по себе!
– Неправильно понял меня, отец! – ответил учитель, как будто даже осердившись. – Совсем неправильно! Учение тебе не спасти и не спасти никому, потому что губит оно самое себя!
– Но в словах этих кощунства более, чем смысла! – смиренно произнес священник, а потом, будто раззадорившись, спросил: – Поясните еще о великом учении и законе.
– Отчего же! – согласился учитель. – Поясню. Учение тогда учение, когда никого не страшится. Особенно если оно великое. А божье – оно, едва народившись, уже искало еретиков даже среди своих же мыслителей. Оно еще до рождества Христова преследовало Сократа. Король Фридрих-Вильгельм от своего лица и от лица церкви выражал полное неудовольствие Канту. Великий писатель всех времен – искатель божьего в мире – Толстой отлучен от церкви, проклят от имени того же бога с церковных амвонов. Кто учит божественному – не знает, что такое бог, а кто хочет познать – того объявляют преступником... Даже уничтожают. Что же говорить о людях, которые и вовсе не хотят бога, его добра? Учение отказывает таким в признании за ними человека. Отсюда следует, что учения этого и вовсе нет, а есть тень его, догма или суеверная легенда, потому что все истинно человеческое, и тем более все духовное – не что иное, как познание человеком самого себя... Без этого познания какое же может быть человеческое? И все, что нынче происходит вокруг нас с тобой, отец, что творится учащимися вокруг нас, учащих, – творится для того, чтобы никогда уже не повторилась роковая ошибка, то есть боязнь мысли! Чтобы учение о жизни сущей и духовной отныне и навсегда создавалось беспрепятственно!
Священник задумался, и все вокруг примолкли – ждали, что он ответит.
Он ответил так:
– Именем процветающей ныне на скорбной нашей ниве революционной идеи тоже творится непотребное. Однако же идею ты стремишься от непотребного отделить, а не утопить оную в нем? Отделить, как злак от плевела. Не дано человекам чистой веры в мыслях, тем паче в делах рукотворимых. Будем же ее, веру, лелеять, а не отвергать, ибо по сему случаю она еще более человеческая есть потребность. И счастие его.
Теперь подумал учитель, постучал прокуренным пальцем по столу.
– Революция, отец, не объявляет себя ни вечной, ни высшей... Она прямо о себе говорит, что есть насилие над насилием, что она – меньшее из двух зол и не больше того. Но если даже меньшее зло ты, отец, и бог твой возводите в высшее, вечное и божественное, то это срам, фарисейство и самая вредная из всех вредных догм.
Спор разгорался нешуточный, но вдруг, поглядев еще раз на учителя, на Мещерякова, на всех присутствующих, священник спросил:
– А – дальше?
– Что – дальше? – пожал плечами учитель.
– Почему же вы требуете от меня подписки? Не проистекает этого из слов ваших! Отнюдь!
И учитель, усмехнувшись и еще пожав костлявыми, согбенными плечами, стал объяснять дальше:
– Мы не требуем. Мы объясняем. И прослушай меня, отец, еще раз внимательно: не даешь подписки – значит, не учишь в школе. Не учишь значит, не занят в труде. Не занят в труде – значит, бери лопату, иди с ополчением копать окопы. Вот и все! Как же тебе не ясно? А ведь когда-то был смышленый мальчик! Я помню!
– Как знаешь, батя! – снова сказал Брусенков. – Не хочешь давать подписку – зачем пришел-то? А когда пришел – не задерживайся тут! Простому гражданину давно бы уже объяснили, а с тобой без конца и краю канитель! Мы тоже люди занятые!
– Не отказываюсь я! – воскликнул священник. – Не отказываюсь устами произнесть обещание, но приложить персты претит совести! И Святому писанию.
Брусенков возмутился:
– Бога нет, а закон божий все одно по печатному написанный! А ты – от гражданского закона хочешь, чтобы он на словах только был. Не выйдет! Кончим разговор!
Но тут снова вступился Мещеряков, обращаясь к учителю, спросил о священнике:
– Он что же – не хочет писать бумагу, а сам согласный? В этом весь вопрос-то?
– Только! – подтвердил учитель, и священник тоже воскликнул:
– Истинно!
– Да бросьте вы разъяснять ему! Он и сам все понимает! И дело-то вовсе простое, – засмеялся Мещеряков. – Пусть батя пишет бумагу, принесет, покажет нам. После возьмет к себе домой, а уже после сражения принесет и навсегда оставит вашему отделу. Все!
Брусенков вздрогнул, резко обернулся:
– А ты догадливый, товарищ главнокомандующий! Как это ты быстро понимаешь их? Таких-то?
– Просто! – засмеялся Мещеряков. – Он чего, отец этот, боится? Боится мы сражение проиграем, придут белые, бумагу его найдут. И погладят его после того по головке – волос-то длинный, кудрявый, есть что погладить! А боишься ты этой самой причины, батя, вовсе зря – белых мы расколотим, ни один в Соленую Падь не зайдет, бумаги твоей не увидит!
Священник вдруг обратился к Брусенкову:
– Когда вы желаете окончить на сем разговор... – Поклонился и быстро вышел, а Мещеряков поглядел ему вслед, вздохнул:
– Незавидная жизнь у их нынче! До чего незавидная!
Завотделом спросил у Брусенкова:
– Я к ночке, товарищ начальник главного штаба, по школам хочу ехать, и мне надо путевую бумагу выдать от вас. О содействии.
– Далеко собираешься?
– Да вот в ихний, в Верстовский край, раз уже мы полностью с ними объединились.
– Белых не боишься? – спросил Мещеряков. – Их там у нас поболее нынче, чем в других местностях, блуждает.
– А я – с инструментом. Плотник. Топор да рубанок – кто на меня подумает, будто я – от главного штаба? И в действительности тоже школы буду ремонтировать.
– Один – много ли сделаешь?
– Почто один? Инструмент – для собственной работы, мандат – для организации всеобщей. А что ты еще-то мне можешь для этой цели дать, товарищ главный штаб? Все одно ведь – ничего больше?!
Вместо ответа Брусенков кивнул на книги, заполнившие комнату:
– Конфискацию книжек закончили?
– Ни в одном частном владении более десяти книг не оставили.
Учитель встал, погладил на подоконнике книги:
– Богатство! Только божественного слишком много, а для обучения детей почти ничего нет!
Брусенков тоже внимательно осмотрел книги.
– Глядите – ненужное всякое, против народу направленное, чтобы к народу не шло вовсе! Когда будет какое затруднение самим решить – принесите книгу мне. Не стесняйтесь, если я шибко буду занят важными какими делами. Найдем время – поглядим. Списки учителей и школ составлены? Полностью? Наличные и потребные?
– Полностью! – кивнул учитель и развернул длинный список, лежавший перед ним трубочкой.
– Сельские отделы народного образования организованы? На местах?
– Этого еще нету. Но – будут.
– Решение первого нашего съезда в части народного образования чтобы висело у вас на стенке! На видном месте, с чистописанием.
– А оно и висит, товарищ Брусенков, – сказал завотделом. – Надо лишь глядеть хорошенче. – И кивнул в простенок.
Там и в самом деле висело тщательно переписанное решение первого съезда:
"Образование прежде всего необходимо русскому народу. Это самая важная потребность населения, которую может удовлетворить только народная власть Советов. Впредь же, до полного восстановления Советской власти, съезд считает необходимым:
– открыть школы грамоты, где есть помещения и обучающие;
– требовать от обучающих плодотворной работы, направленной к воспитанию детей, будущих граждан и будущих культурно-развитых работников.
О смысле внешкольной культурно-просветительной работы:
а) устроить, где возможно, отделения добровольного общества "Саморазвитие";
б) проводить, где возможно, беседы по общественно-политическим вопросам и по текущему моменту;
в) воспретить продажу без разрешения учебных пособий – бумаги, карандашей, чернил и пр.;
г) все штрафы, взимаемые от самогонщиков, передавать отделу народного образования".
К этой бумаге подошла Тася Черненко, стала ее читать. И Мещеряков тоже прочел все внимательно. Потом спросил:
– А золота вам не надо, товарищи? Может, пригодится вам?
– О чем это ты? Какое еще золото? – спросил Брусенков.
– Обыкновенное! Золотое! – ответил Мещеряков. – Мои ребята в Знаменской конфисковали серок семь тысяч. Да еще игрушки всякие поделаны тоже золотые. Вот-вот в Соленую Падь должен доставить все добро мой эскадрон.
– Не-ет, – махнул рукой учитель. – Зачем нам золото? Что мы с ним будем делать?
Прощаясь, Мещеряков пожал руку учителю, приняв сначал стойку "смирно", потом улыбнулся ему:
– Учителей я вам из армии освобожу! Своим собственным приказом и освобожу, когда главный штаб это долго решает!
Брусенков сказал резко:
– Пошли. Пошли в финансовый отдел!
По пути Мещеряков засмеялся:
– Ладно учитель-то сделал батюшке проповедь! И по памяти сделал – всех помнит христианских учителей, даже которые до Христа еще были!
– Не совсем ясно говорил учитель... – ответила Тася Черненко, как будто даже не Мещерякову, а так, вообще ответила. – Не каждому понятно...
– Ну чего тут не понять-то? – удивился Мещеряков. – Он ведь что сказал? Что ложь всякая сама себя и губит. И – правильно! Взять хотя Колчака. Кто ему первый враг? Первый враг ему – Колчак! – И тут Мещеряков снова вспомнил о золоте, и, как только вошли в финансовый отдел, он тотчас спросил: Здравствуйте, товарищи! Золота не нужно вам?
Финансовый отдел помещался в комнате узкой и длинной, вдоль одной стены стояли деревянные и железные шкафы – такие же точно, как в помещении штаба армии, вдоль другой – плотно друг к другу прижались столы, за столами сидели финансовые работники. Четыре человека.
Трое вытаращили на Мещерякова глаза, четвертый, в блузе, с бородкой клинышком, в очках и небольшого росточка, стоя за столом, громко стукнул костяшками – положил на счеты какую-то длинную сумму, прижал пальцем строку на разлинованной и тоже длинной бумаге, и только после этого поднял голову. Часто-часто поморгал, будто что-то вспоминая, и спросил:
– А – много ли?
– Сорок семь тысяч. В империалах и в червонцах. Еще – барахлишко золотое.
– А-а-а... Сорок семь... У Коровкина в Знаменской конфискованное?
– У него! – подтвердил Мещеряков. – Ты скажи, и здесь известно уже, оказывается, дело! А мы не слишком и рассказывали о конфискации!
– Когда привезете золото?
– Ну, не сегодня, так завтра.
– Богатство! Большое!
– Ну, еще бы не большое!
– С охраной везете?
– Эскадрон сопровождает!
– Кому здесь сдадите? В Соленой Пади?
– Хотя бы тебе. В отдел.
– Нет, нам не надо... – И небольшой человек у окна снова пощелкал костяшками, после этого отнял палец от длинной ведомости.
– Как это не надо? А может, пригодится?
– Не надо!
– Так вы же контрибуции деньгами делаете!
– Делаем. Керенками. Керенские билеты двадцати и сорока рублей достоинством у нас ходят. Мы на белой территории для этой цели кассы экспроприируем.
– А золото и ни к чему?
– Обсуждали вопрос. Вот с товарищем Брусенковым и обсуждали. Не имеется смысла. Не получается.
– Не получаться тоже может по-всякому.
– А вот как не получается: если мы не можем со всяким и повседневно расплачиваться золотом, то и не надо начинать. Иначе бумажный билет потеряет силу. Получится инфляция. – Завотделом выговорил это слово громко, со значением, посмотрел на Мещерякова и еще сказал: – А вслед за тем необеспеченным деньгам будет уже полная аннуляция! Верно я говорю? – И завотделом хитро так на Мещерякова поглядел.
Мещеряков подумал...
– Ты, товарищ завотделом, с деньгами давно сталкиваешься?
– А всю жизнь! Вот с таких лет! – ответил финансист и показал рукой у пояса. Совсем у него низко получилось. – Мальчиком был при лавочке, после бухгалтером Кредитного товарищества. Много слишком я их перевидел! Помыслил о них.
– А что же помыслил?
Завотделом подошел к Мещерякову, снова и часто-часто поморгал на него:
– Вот вы воюете. Люди – с людьми. А воевать надо всем против денег. Когда такую войну сделать в свою пользу – наступит справедливость. Раньше нет!
Мещеряков стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, и смотрел на маленького финансиста. И тот, на минуту примолкнув, тоже разглядывал главнокомандующего, а потом стал говорить дальше:
– Жизнь начинаем новую, только один ее начинает с двадцати рублей, другой – с двадцати тысяч. Человека можно убить, осудить, деньги его не убьешь: он их скроет, на другие обменяет – все успеет. Скончается – сыну передаст. В земле схоронит – другой, совсем нечаянный человек найдет клад и тут же станет уже не за себя – за прежнего владетеля жить с деньгами. Как же понять? Чтобы денег было у всех ровно и не более того, сколько в действительности необходимо человеку? В Панковской волости еще до присоединения к нам подумали. Сделали так...








