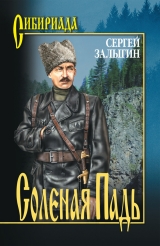
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Это как же понимать?
Пришелец задумался. Огонек в леске светил неярко, партизаны сидели вокруг неподвижно. Который пришельцем был – нельзя понять.
– Конечно, хужее колчаков на всем свете никого нету, – сказал бас. – А все ж таки самим бы управиться, упредиться, по-доброму посеять, после Красной Армии и Советской власти новоселье справить...
– С недоверием, значит, кругом относишься?
– А мне кто когда верил? Белый не верит. Красный тоже глядит, не обманываю ли я его.
– Ну, а по какой же тогда причине ты к Мещерякову подался?
– Слово ему сказать.
– Об чем?
– Об военной тайне... Ну, видать, вы свои здесь. Прямо-то говорить так об сене я.
– Чьи же сена тебя заботят?
– Хотя бы и твои... Сенов бы на зиму Мещерякову Ефрему Николаевичу поставить. Снег падет – помается он без сена. У мужика его не отымешь возропщет, да и не повезешь на подводе в районе военного действия. А вот нынче не поздно еще покосить бы в западинах, в камышах и копешки схоронить. Зимой конными были бы против пеших колчаков.
Ефрем крякнул: сам в сене, в чужой копешке лежал, но как следует о сене не думал, нег. А вот мужик карасуковский – тот подумал...
И ясная же ночь была – удивительно. Легла на землю тихая, обняла ее от края до края, будто ни войны, ни тревог на земле этой сроду не бывало. И забот тоже не бывает никаких, хотя бы и об сене.
У костра кто-то по дому заскучал:
– Рядна не хватает... Постелить бы под себя какую ряднушку, чтобы избой пахла!
– А ты дымка, дымка понюхай от костра-то – он кашей пахнет. Будто каша с загнетки бабой только что снятая!
...У костра и дальше разговор, а с тобой рядом – твое сердце постукивает, да еще мысли теплятся, как тот огонек. И надо же – задумался Ефрем о сапогах своих новых и о новой куртке.
В эту куртку одетому, обутому в хромовые сапоги, ему бы смотр партизанским войскам устроить!
Смотр был сделан недавно, в Верстове, недели две-три каких, но ведь куртки-то не было тогда еще у Ефрема, и сапог тоже не было хромовых! В зипунишке проехал он перед войском. Папаха, верно, добрая на нем уже тогда была – из серебристой мерлушки сшитая, и каждый завиток на ней будто своей собственной росинкой сияет, и красная лента вокруг, но не на одну же папаху войска глядели?
Нет, скажи, трудно мужику воевать в начальниках, очень трудно! Мало того что против Ефрема Мещерякова стоит генерал Матковский – начальник тыла Колчака, в академиях обученный, – мало этого, надо еще точно решить: в каком виде перед своим же партизанским войском следует предстать?
Генералу об этом и заботы нету – ему мундир навешан на всю его жизнь, а какие портки к сражению надеть – о том денщик знает. А мужику?
Ладно, он смотр устроит, в новой куртке и в сапогах хромовых предстанет, войско крикнет ему "ура!", это уж верно. А после что?
За зиму с Колчаком управишься, придешь домой, начнешь пахать. Весной пахать либо осенью зябь – прохлада стоит на дворе. А ежели, скажем, ты летний пар выдумал поднять да еще словчился пар этот сдвоить – ведь это в ту пору жарища немыслимая!
Тут спина у тебя мокрая, вроде ее с ведра окатывают, в штанах вся твоя мужицкая справа на три слоя в пене! У коней тоже пена в пахах, но им все же куда удобнее – они ее клочьями на пашню роняют. А ты за плугом ходишь, коней подстегиваешь, а им же завидуешь: тебе пену ронять некуда, она вся при тебе... Ну и сбросишь портки-то, идешь в одних исподних, а коли рубаха подлиньше – так и вовсе без них...
А тут является на межу твой сосед, какой-никакой Иван либо Петро, а то взять – щербатый Аркашка, и лыбиться зачнет во весь рот:
– А-а-а, Ефрем Николаевич? Товарищ Мещеряков! Робишь, милок? Землю пашешь, милок?! Паши, паши, милок, это тебе не в кожаной курточке вершни перед военным строем красоваться! Это вовсе другой вид!
Вот он как скажет и не припомнит вовсе, что в твоей же армии рядовым служил, тебе полностью подчинялся и тебе на том смотре "ура!" во всю глотку провозглашал! Не припомнит, гад!
Не-ет, генералом воевать несравненно легче! Скажи, хотя бы и Наполеон решающее сражение проиграл, потому что насморк его прошиб. Да мужик постеснялся бы об этом говорить вслух. На крайний случай сказал бы, что животом вконец замаялся либо сердце у него зашлось, а то из-за собственной сопли воевать кончил, и все одно – герой!
Вот Россия мужицкая сейчас воевать взялась – так ее и холера трясет, и вша грызет тифозная, и сербы-японцы разные, о которых сроду-то никогда не слыхать было, явились порядок устанавливать и кусок урвать, но она воюет, мужицкая Россия, и воевать так ли еще будет!
Решил Ефрем войскам смотр устроить...
Почему? А потому, что очень просто могло убить нынче, так уж пускай люди помнят его живого на добром коне и в добром обмундировании. Чтобы не обидно им было, будто за правду воевал, командовал ими варначишка какой-то.
"Все правильно, – подумал он, – и смотр войскам устроить надо, и сено поставить точно так, как подсказал мужик из Карасуковки..."
После потекли у него мысли и догадки, свободно так потекли, и надумал в ту ночь Мещеряков Ефрем воевать с генералом Матковским по-генеральски: выбирать и удерживать позиции, из обороны переходить в наступление. Тыл по всей форме устраивать, снабжение армии, гражданскую власть в тылу... Голова кругом, сколько дела. Но – пришла всему этому пора, и дальше оставлять села Колчаку, чтобы он их грабил, жег, мужиков и баб шомполами охаживал, никак было невозможно. Для чего тогда народная армия, когда она не может народ под свою защиту взять? Кто в такую непутевую армию пойдет? Чего ради мужики будут ее обувать-одевать, кормить?
А жаль... Сильно жаль было Ефрему Мещерякову с прежней тактикой расставаться. Хорошая тактика, и жизнь при ней шла не так уж плохо: налетать, на марше разбить колонну противника, а то устроить засаду, да бог ты мой, когда у человека голова на плечах и рисковый человек – чего только он не выдумает, чтобы своему противнику хороший фитилек поставить?!
Как-то теперь будет? Соленую Падь, убейся, удержать надо. Но ведь и сидеть в окопах партизанская армия не способна. Потеряет маневренность, значит, и все свои преимущества. Трофеи откуда она возьмет, в окопах сидя? Откуда возьмет победы? А без побед партизаны воевать не любят и, прямо сказать, не умеют. Начинают скучать.
Были у Мещерякова еще и другие заботы: он сильно боялся за жену, за ребятишек.
Дора должна была ехать с ним, чтобы в Соленой Пади не подумали про главнокомандующего, будто село-то он оборонять взялся, а семью уберегает где-то далеко, в тайном месте.
И еще была на этот счет причина, хотя о причине этой он вспоминать не любил: жена его от себя не отпускала.
Он еще был "кустарем", то есть с малым партизанским отрядом, человек десять – пятнадцать, скрывался в кустах, а она уже и тогда была с ним.
Теперь он главнокомандующий, у него личная охрана – три отборных эскадрона, но баба есть баба: не хочет ничего понимать, не верит, что три эскадрона его спасут. На себя только и надеется.
И нынче тоже вот поехала с младенцем и двумя другими, еще довоенными ребятишками, в пути они несколько раз уходили от белых разъездов, да и сами спуска не давали, тоже налеты делали, и решено было спрятать Дору и ребятишек в стогу сена, чтобы после один из эскадронов заехал, взял ее и к месту доставил.
Как-то там она в стоге нынче?
Все-таки ужасная жизнь у баб! Довольно б с них и того, что они – бабы, ребятишек родят, мужиков обихаживают, пьяными их из гостей увозят, а когда так и от беляков. Довольно бы этого, но нет – пошла война, у них опять же забот и хлопот не меньше, чем у мужиков. Ну-ка, посиди в стогу с грудным младенцем! Да еще с двумя пестунами довоенного образца!
В полдень похлебали горячего, заседлали и тронулись. Заехали на пресное озерко, попоили коней, после того погнали еще шибче, не таясь: противника здесь уже не было...
И пошел день – пестрый какой-то, из лоскутков скроенный, но не сшитый. Что ни час – то вроде и новый день начинается. Тот не кончился – уже другой наступает. Рассвет был, полдень был, закат подходил, а дня вроде не было и не было.
Про ночной уютный колок тут же и забыли. Будто его и не встречали – ни копны той бабьей, в которой спал Ефрем, ни костерка. Днем человек о ночном редко вспоминает, другое дело ночью – дневные заботы спать не дают. Это случается.
Вскоре степь стала изжелта-красной, колки березовые и камыши налились киноварью, а дорожная пыль посинела. Только вода в озерах совсем светлая оставалась. Издали – так она прозрачная. Подойди, загляни – не то что дно увидишь, а еще и сама-то земля на неведомую глубину сквозь нее откроется. А солонцы на месте высохших озер – те похожи были на облака. Плыло облако, после опустилось на землю, распласталось и тянет к себе со всех сторон солнечный свет, сияет – глазам больно. Правда, в нынешнем году дождей выпадало немало, хорошо и вовремя падали дожди, пересохших озер было немного.
Она будто бы везде одинаковая – степь: и колки березовые и осиновые везде одинаковые, и дороги, и пашни, и мельницы-ветрянки, а хотя бы только на десять верст отступи от той грани, за которой никогда прежде не приходилось бывать, – она уже и другая, степь, незнакомая. Что в ней другое, не сразу поймешь: то ли цвет, то ли запах, то ли почва другая.
Любил Мещеряков эту новизну, любил угадывать: вот здесь, по едва заметному проселку, не иначе как за водой на бочках ездят, когда на своей пашне – ни озерка, ни колодца, а вот дорога перед низиной вдруг круто взяла в сторону, в обход – значит, низина сильно мокрая, болотная, либо солончаки там внизу даже после малого дождя совсем непроходимые.
Мужик – он всю степь, всю землю пашенную и пастбищную своими собственными знаками обозначил, он зря, за просто так, ничего не делает – ни дорогу не топчет, ни колодцев не роет, ни избушек лишних, никому не нужных не ставит. Соображай вместе с ним, со здешним мужиком, и все ясно станет. Даже заранее угадывать можно, что там, за ближним увалом, скрывается поселок ли, заимка ли чья-то, пашня, пустошь или пастьба овечья и летняя кошара из дерна сложена...
Память была у Ефрема на местность цепкая: один раз в жизни по дороге проедет, а случится помирать, закроет глаза – и всю ее, дорогу эту, поворот за поворотом, увал за увалом, деревню за деревней, от начала до конца вспомнит и словно заново ее проследует. Это уже точно.
Мало того, если проехал он когда-нибудь даже и не этой дорогой, а другой, но неподалеку где-то и в том же направлении, ему уже и хватит, он будто бы с той, знакомой, дороги эту, совсем незнакомую, все-таки краем глаза видел – куда она ведет, что у нее на пути.
А в последнее время и еще по-другому стал на местность глядеть Ефрем... Западинка? А как по ней пройдет человек – в рост? А то, может быть, и конным, и его все равно в степи не видно будет?
Увал? На сколько верст округ с того увала степь видать глазом и в бинокль?
Одним словом, побывает на местности и уже знает, как на ней воевать.
Глухову не сказали, что он с Мещеряковым с Ефремом едет, а он, шельмец, делал вид, будто не догадывается.
Кони в отряде были запасные – Глухову дали пегого, бесседельного.
Глухов дареному коню в зубы глядеть не стал, кинул армячишко чуть не на самую холку, опояску с себя размотал, по концам ее связал петли – получились у него стремена. Он короткими ножками коня обхватывал почти что за самую шею – смешно глядеть. Но, видать, ему так было усидчивее на толстом, разгулявшемся в нынешних травах, и ленивом пегаше. Они даже похожи друг на друга были – пегаш и Глухов: толстые оба, коротконогие, гривастые, один без седла, другой без опояски.
И характером сошлись.
Покуда Глухова не было, а пегого вели в поводу – замучились: он все время только и делал, что придорожную траву хватал, тормозил на ходу, седока с передней кобылы сдергивал, а тут под верхом пошел и даже – шагисто пошел, весело. Сперва вровень с другими, после застарался и стал на полголовы вперед выходить против самого мещеряковского гнедого...
Ординарец Гришка Лыткин возмутился снова:
– Ты, Глухов, шпиёнить за командиром нашим взялся? Ни на шаг от его! Отстань!
– Я ж тебе с самого начала объяснял, цыпка ты моя, за тем я к вам и прибыл – глядеть, какая вы есть революция!
– По своей воле? – поинтересовался Мещеряков.
– Мужики карасуковские миром просили. Ну, и не сказать, чтобы из ихнего только вопросу я старался. Свой интерес тоже имеется. Собственный.
– Что же ты увидел?
– А пофартило мне с первого разу: Мещерякова и увидел.
– И-ишь ты! Узнал?
– Видать, когда глядишь.
Снова вмешался Лыткин:
– А ты знаешь, мужик, у нас как? Кто не за нас – тот против нас. Это не мною сказано – отпечатано воззванием к народу!
Тут Глухов отнесся к Гришке серьезно:
– Не врешь?
– Я об политике – пытай меня – слова одного неправильного не скажу. Одну только истину. А ты что – против?
– Ну зачем же я буду против? Сам подумай. После этого воззвания?
– Я-то давно подумал. И до края моя жизнь мне известная – воевать за справедливую власть. Хотя бы сколько ни пришлось воевать!
– Хорошо-то как! – согласился Глухов. – Только чей ты будешь хлебушко исти, покуда воюешь?
– Об этом заботы нету. Тот и накормит, за кого я кровь иду проливать!
– Ну, а если которому мужику кровь твоя ни к чему? Ты как – откажешься от его куска?
– Он все одно обязан дать мне буханку!
– А не даст? Сам возьмешь?
– И возьму!
– А со справедливостью как же? Она же наперед других к тому должна приложиться, от кого ты кормишься? Или тебя отец с матерью сроду не учили?
Мещеряков оглянулся и сказал:
– Повтори-ка, повтори, как фамилие твое?
– Глухов. Петр Петрович. Или непохоже?
Мещеряков зорко на Глухова поглядел...
Голова кудлатая с нашлепкой замусоленного картуза. В рубахе под мышкой – дырка, сквозь нее вырывается ветерок, захваченный расстегнутым воротом. Обе руки Глухов широко расставил в стороны. И – чоп-чоп! чоп-чоп! шлепает задом по пегашкиной спине.
– Не обманываешь, нет... Он и есть мужик этот – Глухов! – кивнул Мещеряков.
– Узнал?
– Видать, когда глядишь! – усмехнулся Ефрем. – Десятин с полета сеешь?
– Ну, в нашей в степе это не посев – полста. Для старожила, для семейного – вовсе нет.
– Запас на три года держишь? Хлебный?
– Забочусь. От меня пол-России кормится. И по морю мой хлебушко возят в государства, а за маслицем – так мериканцы и немцы в Сибирь с охотой идут. Видать, не зря идут, дома-то у их не шибко масленая, значит, жизнь. И Советская власть не брезговала в свое недавнее пришествие.
– Отымала? Хлебушко-то отымала?
– Не то чтобы отымала, но платила не сказать чтобы сильно. Больше за идею брала, за деньги, за мануфактуру – заметно меньше.
– Ученье настало для народу, а за науку платят. Нам на белый свет глаза кто открыл? Большевики, Советская власть. А то бы и было у нас с тобой делов – родиться да помереть. Остальное – неизвестно почему и зачем.
– Глаза-то мне открыли. Узнать бы, при каком обстоятельстве мне их закроют?
– Ну, это и правда что интересно. Германку воевал?
– На четырнадцатый-то год мне как раз полста пало. Из призыва вышел.
– Вот и не знаешь цену глазам-то открытым. А солдат – тот много понял, когда ему заместо проклятой войны мир был дан. Ну, а страдуешь-то чем? Свою сотню десятин либо того больше – чем жнешь? Жнейками? Косилками?
– И это. И другое. И еще – макормик.
– "Мак-кормик"? Сноповяз американский? Ты гляди – капиталист прямой! А не боялся ты, Глухов, что американцы эти как раз тебя по миру и пустят? Закредитуют, после – тук-тук – за долг возьмут тебя?
– На все божья воля: то ли он меня, то ли я его. Все зависит, сколь я обижен. Когда меня, и другого, и третьего он обидит – мы уже и договорились промеж собой не брать у него не то что машины – ни одной бечевки не брать. И пошел бы тот мериканец из Сибири без картуза... Солнцем палимый.
– И пошли они, солнцем палимы... – подсказал Мещеряков. – Грамотный?
– Расписываюсь... У меня дядя – Платон зовется. Не шибко грамотный и не сильно в годах, племянничка чуть постарше. Жил от нас неподалеку, а еще до японской ушел в Алтай. Вверх все и вверх по Иртышу. И занялся там оленями. Особенные олени – рога с их китайцам, другим народам в доброй цене на лекарство продают. Так дядя – что? Он сам эти рога в разные страны возит. И не особо на границы глядит – оттудова, с самого верху Иртыша, до разных государств рукой подать. Мало того, братьев младших и сынов тоже научил возить и по-разному в разных странах понимать заставил их. Там английские, сказать, издавна были торговли – они и по-ихнему научились. Ну, как научились, поняли что к чему – конечно, ихнюю торговлишку сильно позорили. Туда везут рога, оттудова – чай, шелк, обратно лекарства, и дело у их не стоит!
– Получается у тебя... Ну, притеснишь ты американца, "мак-кормика" этого, где после сноповяз возьмешь?
– На барыш охотник просто найдется. Свой ли, чужой – надо только с умом, соседа не обижать. Кузодеев – жил купец в Соленой Пади, – нету в уезде того кармана, чтобы он в его не успел накласти. Ну и дурак! Пакостить своему же соседу? Не дурак ли? Пакостить – это еще в гостях в званых, а еще лучше не в званых. Только не у себя дома. – Помолчал Глухов, пегого подшуровал пятками. – Царапается весь-то народишко... Всякий всего хочет. Как понять? Или верно что – Колчака этого терпеть никак нельзя, ну, а за одним уже и вся прочая жизнь в переделку вышла? У кого какое недовольство жизнью, кто сколь годов придумку таил – нынче все в ход пошло... В ход-то пошло, к чему придет-то, интересно мне.
– Значит, думка твоя – повыше других выцарапаться? Хотя бы и на торговлишке?
– Чем не ладно? Тебе – шашкой махать, головы рубить, команды подавать богом дано. У меня забота – хлебушко растить, торговать им по мере возможности. Чем не ладно? Без войны жизнь худо-бедно идет, а без хлебушка?
– Глухов ты Глухов и есть! Не понятно, чем тебе Колчак плохой, – он же сильно богатых любит.
– Ну, как тебе объяснить-то, – вздохнул Глухов. – Я ведь, признаться, думал, ты и сам это понимаешь... А объяснить придется так: бедного Колчак не любит, верно. Потому и не любит, что отымать-то у его нечего. Курей двух, да еще разве вот ребятишек... Ну, а который побогаче – того он любит. И даже сильно. В этом ты – правый. Только для любви для этой уже Кузодеевым надо быть, не меньше. У того – на ограде полдобра, а другая половина – на заимках, в кредитках еще и еще где-то схороненная... Опять же и Колчак на Кузодеева надеется – именно его он над Россией поставить желает, и чтобы тот ему эту услугу ни в жизнь не забыл, чтобы без конца благодарствовал. Здря надеется! Благодарности от Кузодеева сам господь бог не дождется, да и какая обратно из его получится власть, когда он, еще не ставши ею, уже далеко вокруг успел напакостить? Нет, ровный мужик, и даже хорошо ровный, но у которого добро все открытое, все на ограде находится – он любую власть кормит и любая власть его за это топчет... Мне, товарищ мой Мещеряков, узнать бы: как ты хочешь, чтобы было? И партизания вся – как хочет? За тем и посланный я от карасуковских мужиков. Инея один – от многих местностей еще пойдут на вас поглядеть.
– Ладно, я скажу, – согласился Мещеряков. – Народ воюет, народ и свою собственную справедливость сделает. Честного труженика с этого дня никогда не обидит. Ни купцу, ни кулаку, ни чиновнику в обиду ни одного человека не даст. Отныне – это его святая решимость. Когда за начальника будет кто негодный, его тут же разом уберут. Взять меня – покуда бью Колчака, я главнокомандующий. Побьет меня Колчак – сейчас мои же подчиненные командиры соберутся и еще гражданские лица, проголосуют – и пошел тот Мещеряков ротой командовать. Чего там ротой – рядовым запросто пошел. При таком порядке лавры на печи никто вылеживать не захочет сроду. Ясно? И барыш на чужом труде наживать тоже.
– В случае, вернусь домой – так пересказать мужикам?
– А как же еще?
Глухов приотстал на пегом. Задумался...
Гришка Лыткин повел своего коня ухо в ухо с мещеряковским.
Версты от избушки до избушки, от одного тока до другого немалые, а нет-нет и столкнутся в степи сорочьи голоса молотилок-трещоток, а когда и удары бичей переплетутся друг с другом, и человечьи голоса...
Издали мужики и бабы глядели на отряд мещеряковский с любопытством и подолгу, даже останавливали приводы трещоток. Сразу же становилось тихо, и сквозь плюшевый полог дорожной пыли явственно начинала откликаться земля под копытами отряда, и когда кони чихали и фыркали, высвобождая ноздри от пыли, то громкими казались и эти звуки.
Если же отряд миновал чей-то ток вблизи – работу никто уже не бросал, наоборот – еще сильнее трещотки погоняли.
Военные нынче издали только интересные. Близко ими никто не интересовался, хотя была уже Освобожденная территория и белых здесь не ждали; с июля, с начала месяца, их здесь не бывало.
Уже когда солнце пошло на закат, достигли соленопадской грани. Вскоре остановились на увале, который так и назывался: Большой Увал. Он был уже в виду самого села. Стали ждать свои приотставшие эскадроны, чтобы в село вступить полным отрядом, при знамени.
Что-то похожее на рассвет после тьмы ночной и такое же призрачное, как самый первый рассвет, пронизывало дали... И глядеть-то в них было чуть даже боязно, словно в бездну заглядывать. Это в степи бывает. Бывает в ясную осень, когда степь переполняется желтыми березовыми колками, пшеничными полями, никогда не сеянным, не кошенным пряным разнотравьем, когда солнце уже клонится к закату и остывает будто бы потому, что остывает земля.
Мещеряков спешился первым, лег на траву. Полежал, поглядел и стал разуваться.
– Ноги-то поди сопрели во тьме, в сапогах. Вовсе никакой благодати не видят! – сказал он Лыткину и забросил влажные холщовые портянки в зыбкую тень двурогой березки.
Сохнуть портянки должны обязательно в тени, на ярком солнце они коробятся, морщинятся, теряют всякую мягкость.
Голые пятки в ту же секунду прихватило двумя горячими натруженными ладонями, и еще на плечи будто кто-то навалился – горячий и потный.
Мещеряков терпеливо, не шевелясь, обождал, и немного прошло времени пятки и спину перестало тревожить, только по-прежнему щекотало легким, словно ребячьим дыханием.
"Ветерок, что ли?" – подумал Мещеряков. Ветер и на самом деле был, только хоронился от глаз. Но Мещеряков его все равно приметил: на той же двурогой, с редкими веточками березке листья чуть приподнимались и еще чуть сваливались набок, прихватывая яркого солнца своей обратной, уже не зеленой, а сизой стороной. Тоже пятки грели.
Тут поблизости пар был поднят на большом клине – десятин, верно, пять, больше, черные пласты ерошились, пахли не хлебом, а полевой травой... А неподалеку на полосе – хлеб родился, и хорошо родился – пудов по сто двадцать с десятины.
Поглядев на все это, Мещеряков высвободил из-под живота планшетку, развернул карту-десятиверстку.
Прежде всего заметил на карте полоску леса: полоска – словно зеленый червяк по бумаге прополз и след оставил после себя... А настоящий лес, тот широкой лентой проходил с юго-запада, подступал к селу Соленая Падь, касался мохнатым своим краем изб и огородов и тут же, почти поперек прежнему своему направлению, уходил на восток. И на юго-западе, и на востоке треугольник лесной полосы опирался в далекое-далекое, но четкое полукружье горизонта, только кое-где прерванное тусклыми озерами, густо осыпавшими степь и особенно ту ее часть, которая была замкнута внутри зеленых лент бора.
– Про-стор-но! – сказал Мещеряков. И еще раз повторил: – Просторно!
Стал приглядываться к лесу.
Вершины сосен мерцали, как свечи, зажженные при солнечном освещении, над ними там и здесь медленно вычерчивали круг за кругом коршуны. Не стремительные они были, не быстрые – шагом ходили по небу, ползали букашками...
Из степи в лес забегало несколько дорог – одна проделывала в нем узкую расщелину, а выбежала из леса по ту сторону – слегка будто захмелела, повело ее сперва в одну, после в другую сторону. Две другие впадали в лес и больше из него не возвращались. Или заблудились там, или незаметно пробрались в деревню, в ее кривые улочки и переулки...
А вот удивился Мещеряков – это когда заметил синеватый какой-то перст, указывающий прямо в небо, даже в самое солнце.
– Ты гляди, – спросил Мещеряков у Лыткина, – гляди, что там делается? Видишь?
– Где? – с тревогой спросил Гришка, притихший неподалеку от командира, может, чуть вздремнувший.
– Кромкой леса на юг, на запад дальше все и дальше – в небо там упор какой сделан, а? Ну, если гляделок не хватает – на тебе аппарат! – И Мещеряков расстегнул футляр, подал Гришке бинокль.
– Однако – церква там. Она. Ну и что? – тоже удивился Лыткин.
– Моряшихинская эта ведь церква-то!
– Не может быть!
– Значит, может! Другого тут церковного села ближе нету. Соленая Падь да еще Моряшиха. Это подумать только, сорок верст – и видать!
Бинокль пошел по рукам – партизаны тоже стали смотреть на церковь вдоль боровой ленты на юго-запад.
Заспорили насчет бога.
– Хи-итрые эти попы – бога-то куда вознесли! В какую высь! Чтобы люди глядели, а шапки волей-неволей на землю падали бы!
– На то он и бог – высоко быть. А когда он пониже меня, по земле ползает, нечто в такого поверишь?
– А кто его вознес туда? Человек опять же. Кто кого выше-то?
– Пустое не вознесешь, надобности нету. Тем более обратно не скинешь! Укоренилось оно там, наверху-то!
– А – скину! Нынче – скину!
– А я тебе нынче же – по морде! Я у себя на избе, вот на самой вышке, резьбу изладил, а ты пришел и нарушил ее. Тебе она не нужная, а мне без ее изба не изба, а может, и жизнь не в жизнь!
Небольшой, татарского обличья эскадронец, покусывая травку, рассказывал:
– Я в магометанстве был, после перешел в православие. Мало того перешел – в церкве прислуживал. Поп меня не хотел, а прихожане любили. "Мало ли, говорят, и среди нас, православных, бывает нехристей? И даже среди попов. А этот окрестился, и, видать, с интересом – пусть прислуживает!" А я старался. Божественное хотел понять.
– Понял?
– Куда там – понять! И его нету, и без его нельзя. Нельзя без веры.
– Ну, нынче это вовсе запросто!
– Не вовсе. Все одно – не в бога, так в революцию верят. Уже другое дело – во что вера, а все ж таки вера.
– Ты что же, правду ищешь? У нас среди новоселов с Витебской губернии был один – искал, искал день и ночь. Который раз не пил, не ел – все искал.
– Ну, почто? Ты мне поднеси – поглядишь, как я ем, как пью. Я правдой через силу не занимаюсь. Интересоваться – интересуюсь.
"Ты гляди, о божественном затолковали! – подумал Мещеряков. – Выше бог человека, ниже, либо вровень с ним? И зря затолковали – на скорую руку дела не решишь. Отвоюемся – на досуге виднее будет. Сейчас о войне думать, больше ни о чем. Живым остаться либо мертвым сделаться – вот это вопрос. Бог же нынче дело второстепенное". Но сам о войне думать не стал.
У Глухова Петра Петровича был дядя Платон, в горах где-то проживал, в разные страны оттуда ходил, а у Мещерякова тоже был свой дядя по материнской линии – Силантий.
Вот о нем-то и вспомнилось.
С Волги, с деревни Тележной был дядя и на родине сильно своевольничал рубил у помещика лес, грозился помещика пожечь. Ну, и общество, чтобы с барином не ссориться, хотя дядя ничего миру сроду не делал, вынесло приговор: сослать его в Сибирь. Пошел он по этапу, а младший его брат и еще сестренка – те пошли за ним добровольно.
Вольные брат и сестра прижились, устроили деревню Верстово, брат женился, сестренка Силантия замуж пошла, и в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году от нее произошел Мещеряков Ефрем. А вот ссыльный Силантий успокоиться никак не мог – стал бегать по степи, ставить на землю чертежи и меты, в захват брать землю. Говорили – правда, нет ли, – дядя сапоги берег, так с весны обмазывал подошвы на ногах смолой сосновой, с песком ее замешивал, чтобы на жаре не таяла, и на этой дармовой подметке по степи шастал из конца в конец.
В сапогах или босый, но только облюбовал дядя место с двумя озерами нынешнее село Соленая Падь, – обчертил хороший круг земли, прижился. Жил, никто ему не мешал. После дорогу железную построили, народишко в Сибирь по дороге кинулся – стали поселенцы дядю утеснять. Соленая Падь волостью сделалась, и постановило общество считать за хозяином только ту землю, которую он пашет, выпаса нарезало на каждую скотскую душу, а лес оставило за дядей – ту самую деляну, которую он уже вырубил.
Сколько лет проходит, пять ли, шесть, – мир опять приговор выносит: делать земле душевой передел. Дяде обидно – никто как он заложил деревню, а его – делят! И взялся он сильно галдеть на сельских сходах и тягаться с богатым переселенцем Кузодеевым. Хотел дядя Силантий, чтобы за ним его землю "отцовщиной" признали, навсегда наследуемой.
А Кузодеев не постоял, одной только лавочной водки миру более ста бутылок выставил, а еще сколько самогону – мир и постановил в пользу Кузодеева. Но дядя все равно и с миром не захотел посчитаться, прямо на сходе обещал Кузодеева пожечь. И пожег. Не то чтобы до края, но и порядочно. Сам же убежал далеко в горы. Вестей оттуда не подавал, так и не узнал, должно быть, что спустя короткое время общество о нем пожалело: Кузодеев мироедом стал огромным, землю арендовал в казне, после сам сдавал ее в аренду новоселам, а еще больше – старожилам, которым надела по их размаху не хватало, а сам с Ишима и с самого Ирбита возил товар в свои лавки. Сделал в Соленой Пади кредитку, и правда, что не стало в волости мужика, чтобы он у кредитки этой не брал в долг.
Больше того, с Кузодеева пошло, что и степь-то надвое поделилась. Прежде все жили одинаково, а тут образовалась Нагорная степь и Понизовская. Нагорные занялись хлебом, семена стали возить сортные, молотилки-полусложки покупать, а еще водить овец. Понизовские – те хлебом вдруг обеднели, земли у них оказались не очень-то сильные, но в межозерьях было без конца и краю лугов, и наладились они косить сена, водить скотину, покупать сепараторы.
Кузодеев пробовал было и на Низы пойти, но там заграничные уже сели купцы-маслоделы, не дали ему ходу.
Еще знаменитые тут были три-четыре деревни по грани между степями – в тех мужики держались друг дружки, держали общественный маслозавод, а лавочников облагали хорошими податями в пользу мирской кассы.
Это, бывало, мальчишкой Ефрем замечал, как зимой, будто похрустывая на дорогах снежком, идут из деревни в деревню разные слухи-разговоры: как одно общество приговорило сделать между собой расположку податей, другое – о пашне, о покосах, о выпасах, о торговле, о попе, о школе, едва ли не обо всей жизни.








