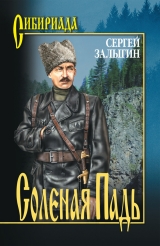
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
И сиди бессонную ночь, и страдай – откуда он вернется, когда и какой? С синяком ли под глазом, пьяный ли, в карты проигравшийся? Не спрашивай ни о чем, не упрекай, не то он снова повернется и уйдет снова, либо тут же запряжет и молча уедет на пашню, будет жить там в избушке один, неведомо чем сыт, ворочать же работу за двоих добрых мужиков.
И только чего не допускал никогда Ефрем – это обидеть ее при народе. Может, сам по себе не хотел, может, догадывался, что уж слишком тяжело, нестерпимо было бы от этого Доре.
Собирались в масленицу либо в престол на большие игрища, так он одевался в новое, глядел, чтобы и она была одета чисто и красиво, – и вдвоем шли они по улице.
Шли – каждому было видно, какое Ефрем оказывает жене своей почтение.
Шли, а девки, глядя на них, замирали, ругали себя, думая, будто напрасно они в свое время Ефремку убоялись.
Приходили на площадь. Там холостые ребята, да и мужики помоложе, а которые уже хмельные, так и старшие возрастом лапту гоняли; на высокий столб, маслом смазанный, карабкались, доставали с вершины самогонки четверть; боролись, подымали гири двухпудовки – против Ефрема в играх этих стоять было некому. А играл он и боролся весело, азартно, рисково боролся, но опять – о жене не забывал.
Дора лущила в то время подсолнухи с бабами, беседовала с ними о том, о другом, Ефрема будто и вовсе не замечала. После кивнет ему, поманит его пальчиком – он в ту же секунду бросает свое занятие, подходит к ней узнать, что надобно.
И млеют вокруг Доры бабы, и девки тоже млеют от изумленья и пялят на нее глупые свои глаза.
Объявили войну...
Она на выпасах была тот день, далеко от дома, – бросилась на подводу чью-то попутную, а когда бежала по деревне улицей, в каждой избе баба в голос ревела и причитала, и мужики ходили угрюмые либо пьяные. Успели уже.
Дора бежала со всех ног и думала, что ведь Ефрем и глазом не моргнет, что страха в нем нет и не может быть ни перед чем, но неужели за нее-то он не испугается нынче, за ребятишек ихних, в то время малых совсем, неужели не дрогнет у него сердце перед разлукой? Ведь жена она ему, мать его детей, и ему самому тоже не раз и не два была матерью, когда увещевала его и прощала ему. Неужели уйдет и не заметит, как она страдает за него, не поймет, как страдать будет? Уйдет веселый и бесстрашный?
Ей бы не об этом думать в тот час, в те минуты, не о себе думать, только о нем, о нем одном, но она не могла по-другому!
Вбежала в избу... Ефрем уже в котомку свои пожитки укладывал, уже почти что доверху котомка полная была.
– Ефрем, – спросила она с порога, задыхаясь, – а если убьют тебя? Я-то как же тогда?
– Всех не убьют!
– Всех не убьют, а тебя одного?!
– Бабий расчет...
Тогда она кинулась к нему в ноги, за колени его обхватила и взвыла, запричитала – пусть узнает наконец, что и она баба как баба, что и она слезами полна.
Ефрем сильно удивился. И даже замешкался как-то, затоптался ногами на месте: она ведь ни разу до того не выказала ему обиды какой, страха за него, ревности и каждую свою слезу улыбкой к нему обращала.
Он любил баб – страшный охотник был до них, но только по одной, когда же две или три соседки к ним в избу приходили – тотчас прочь исчезал: скучно ему было до смерти слушать их всех вместе.
Другая баба какой слух на улице либо через плетень перехватила – и уже бежит к мужику своему новость пересказывать. Ефрем этого не терпел, никогда такого ей не позволял. Заикнись только – слышала от баб то-то и то-то, он рукой махнет и еще оботрет после руку о штаны.
– Мое-то какое дело?
Любить он умел, как никто, но только такую, которая ради него от самой себя во всем отказывается, во всем для него ладная, безупречная...
Но тут уже не было у нее сил через слезы ему улыбаться – она ревела дико, она все хотела выплакать, все выкрикнуть, за все хотела убояться, что с ним на войне этой проклятой могло произойти.
И чем громче она вопила, чем крепче головой прижималась к ногам его, тем страшнее становилось ей за себя, за него, за ребятишек их – что, если он и тут ее не поднимет с полу, не успокоит, не скажет доброго слова? Не сделает этого, а на нее же и прикрикнет, почему нет у нее ласки? Почему невеселая, почему баба глупая, крикливая? Кого ей тогда проклинать? Его? Себя? И его, и себя, и всю жизнь вокруг себя?
Тот раз он поднял ее с полу. И на койку положил, сходил в ледник принес квасу холодного и на голову холодную же примочку положил.
Сидел подле нее в горнице, думал о чем-то, молчаливо и долго думал. И тем его молчанием она и жила целые годы, покуда он воевал. Помнила молчание это и в разлуке переживала его едва ли не каждый день снова и снова.
Вернулся же он зимой, в начале восемнадцатого года... Холода стояли.
В буранистый день Дора поехала по дрова, их несколько солдаток собралось, а дорога лесная, дальняя, замело дорогу, она сильно домой припозднилась... Дрова в то военное время будто в лавочный дорогой товар превратились. Другие солдатки из-за дров замуж выходили, пленных австрийцев в избы принимали, а начнет ее соседка корить, солдатку, она сразу же и отвечает: "Ты за билетом съезди за дровяным в лесничество, да в лес, да наруби по тому билету, наколи дров, привези их с леса одна-то, без мужика, а я погляжу, как это у тебя получится все!"
Царя в Петрограде прогнали, а первое, что после того в Верстове сделали – собрались солдатки, пошли в волостную управу, потребовали, чтобы им за всю войну дровяной долг вернули, а на первый случай немедля же выдали по кубу на солдатку. После отдавали билеты на порубку в те семьи, где мужики были, отдавали исполу: два куба дров напилить-нарубить и сложить, один себе за работу, другой куб – солдатке.
И выдало начальство билеты, не стало перечить. В других деревнях так не захотело, захотело по-своему, упрямо делать, – там солдатки и окна в управах повышибали, лесничих и объездчиков тронули и даже занялись самовольной порубкой, бабью революцию делали!
После эти свободы, бабами завоеванные, омское начальство опять стало к рукам прибирать, стало отпускать кубы далеко не всем, по выбору: у кого муж "Георгием" на фронте награжден либо совсем погиб, а еще кто в белую армию угадал и уже в то время с красными воевал. Таких по пальцам было пересчитать в Верстове, да они и сами не сильно за кубами этими гнались, помалкивали.
Припозднилась в тот день Дора с дровами.
Приехала, распрягла – уже и совсем сильно загудело, забуранило, потому, должно быть, и не слыхал дома никто, как въехала она в ограду, как распрягла. Пимы сколько времени обметывала на крыльце и все не чувствовала, не понимала, что случилось. Вошла в избу, а Ефрем – дома сидит. На том же табурете, на котором котомку свою на фронт собирал, и сидит босой. На коленках ребятишки у него. В черепушке огонек моргает... И котомка, сильно обтрепанная, у порога на попа поставленная стоит.
Что после было – опять не помнила.
После – жил он дома. Он и дома умел жить, как никто не умел, – со двора не выгонишь. Другие мужики, одной с ним солдатской службы, зайдут, в картишки перекинуться покличут – он вроде глухой, не слышит их...
И весна так же прошла – либо он в избушке на пашне, Ефрем, либо дома.
Принес три Георгиевских креста, лычки фельдфебельские, снял и кинул на комод, позади зеркала. Кинул, да ни разу после и не вспомнил. Как только прибирать Доре на комоде – так и не знает, что с ними делать, с крестами и с погонами, – убрать куда подальше, с глаз долой – так ведь хватится вдруг, осерчает, что обошлась с крестами не так, как положено, службу его военную не уважила? На видное место положить – а может, он того и сам не хочет, может, он забыл о крестах этих, и слава богу. Зачем самой напоминать, чтобы он гимнастерку надел свою, подвесил кресты, да и пошел бы с ними по деревне гулять с такими же, как он сам, служивыми?
Не трогала она ни погонов, ни крестов, лежали они сами по себе, будто чужие чьи, но только не верила Дора, что долго это может продолжаться.
И когда только-только партизаны народились в какой деревне, может, с десяток их было, а в другой и того меньше, Дора сразу же поняла: отсидел Ефрем свой недолгий срок, отхозяйствовал дома.
Но если не могла она пойти с ним на ту первую, германскую войну, то теперь, когда война дома занялась, в своей же и в соседних деревнях, в ближних селах и камышах – она решила, что ни на шаг от Ефрема не отстанет, с ним пойдет, всюду с ним будет, покуда и эту войну мужики не отвоюют.
И пошла...
Отряды были в прошлом году совсем небольшие – скрывались на пашнях, в бору, в кустах.
Она с Ефремом тоже скрывалась.
А зимой в лесу, в степи долго скрываться не будешь – мороз, следы выдадут, и решили отряды до весны разойтись.
Так и сделали. Только Ефрем, которого уже тогда по многим деревням хорошо знали, и семеро дружков его – домой не пошли, пошли в горы и там под видом беженцев нанялись углежогами. На заимке в горах восемь мужиков хоронились. И она с ними – одна женщина. Одного любила, восьмерых обстирывала.
Весной отряды собрались снова и куда сильнее прежнего. Налеты совершали, походы по всей степи.
И Дора была с Ефремом безотлучно.
Тут как раз образовалась армия партизанская. И в южном уезде, и в Соленой Пади тоже была армия, и решено было из них одну сделать, а главнокомандующим назначить Ефрема.
Ефрем пошел с тремя эскадронами в Соленую Падь, она пошла с ним.
Колчаки между двумя армиями проникли, стали Ефрема настигать. А тот нет чтобы уходить – начал со своими эскадронами на белых тоже наскакивать, по степи петлять...
И попали они в деревню Знаменскую, к матери Доры, к ее отцу. И Ефремов отец, Николай Сидорович, там же был. Радовалась Дора, что увидит родителей, а увидела в Знаменской бог знает что.
Пришли они в Знаменскую на рассвете, их сразу кто-то в поповский дом повел. Дора с ребенком на руках была, не знала, тоже зашла. Зашла, а там поп лежит, на куски изрубленный, и попадья задушенная.
Ефрем спросил: кто сделал? "А твои и сделали, – ответили ему. – Твои эскадронцы раньше тебя успели сюда, раньше успели и уйти отсюда". – "За что сделали?" И тут вот что оказалось – еще летом офицера одного живьем взяли, а у того списочек: кого колчаки поубивали в здешней местности – партизаны, семьи партизанские. И список никем, а батюшкой был написан, и еще было сказано там: "Посоветовавшись с моею супругою, я..." Еще и схитрил батюшка Знаменских ни одного не помянул, из других деревень своего же прихода были мужики, на тех доказал. Сделал – не догадаться бы никому, как бы не попался тот офицер. Далеко где-то попался, говорили, едва ли не за тысячу верст от места, а бумажка по рукам шла, шла и вот – к батюшке вернулась. Не помогла хитрость.
Нынче та бумажка рядом с супругой и была положена. Ефрем сказал: "Сами божьи слуги и виноваты..." – "Так еще-то эскадронцы пограбили имущество!" "Ах, пограбили! Найду – сам же пристрелю мародеров!" Тут привели какого-то мужчину сильно пьяного, сказали Ефрему: "Этот был среди тех!" Ефрем вышел с мужиком из избы, а вернулся без него... Выстрел игрушечный был, будто ненастоящий. Только он вернулся – еще какой-то мужчина пришел, высокий, усатый. Закричал на Ефрема: "Вы что дурака валяете? Этот вовсе ни при чем, он после всего уже прибыл да успел где-то набраться!" Ефрем на усатого: "И тебе, видать, того же надо? Чего разинулся? После время оглашаешь? Ну, сделано, так уж сделано, мог бы пояснить, а не оглашать! Тоже поди-ка еще и начальство!" – "Начальство, угадал, но безобразия такого не делаю!" – "Ах, не делаешь? Тогда разберись – вот человек, который мне на эскадронца моего указал! Напраслину возвел. Разберись, и когда действительно напраслина, то этого человека за ложный донос сам и расстреляй!" А тот человек тоже заревел дико: "Я, что ли, доказывал один? Все так и доказывали!" – "Вот-вот, сказал Ефрем усатому, – сколько их есть виноватых, столько и стреляй! Самолично!" И тут заметил Дору с Ниночкой на руках – она в толпе стояла. Подошел к ней, взял за руку, повел прочь. У ворот остановился, приказал, чтобы ему на квартиру срочно доставили акты описанного и конфискованного у здешних буржуев имущества.
Потом ехали по деревне в тарантасе, в дом вошли, мать к ней бросилась... А бросилась ли? Может, не было? Что там было, чего не было после того поповского дома? Как только она через порог родительский переступила? Потому, может, и переступила, что в этом доме тоже несчастья, горя было через край.
Было так, что родители не в своем доме и жили. Даже не в своей деревне.
Старшая сестра Прасковья давно еще из Верстова пошла замуж в дальнюю деревню – в Знаменскую.
Ребятишек народила там, и уже забыли будто про нее в родной семье, редко поминали, навещали еще реже. Дора у сестры так года два назад только и была, Ефрем еще с фронта не возвращался. Прасковья же в германскую войну овдовела: убили у нее мужика.
А тут Верстово колчаки сильно последнее время трогали, партизанские семьи преследовали, не только семью Мещеряковых, даже родителям Доры и тем грозились что-нибудь сделать. Родители взяли и в Знаменскую к дочери уехали. И вовремя. Отец Ефрема очень старый был, понадеялся на возраст – не тронут древнего. А легионеры пришли – избу у него сожгли, самого избили страшно, хотели будто бы на цепь посадить, к столбу приковать на площади верстовской.
Свои, верстовские, спасли его – опять же в Знаменскую, в тот же вдовий дом и доставили...
Мать, она и есть мать – как-никак, а отогрела у Доры сердце. Хоть сколько, а смогла. И не тем вовсе смогла, что приласкала дочь – приласкала Ниночку, старшеньких двоих, а еще – встретила Ефрема с великим почтением...
Как войти, напротив дверей, сидел на лавке Ефремов отец. Дора сразу же подумала: мать его посадила здесь, на виду, чтобы Ефрему приятно сделать, чтобы как вошел Ефрем – сразу же отца и увидел.
А смотреть-то на что? На колчаковскую работу? Что колчаки-легионеры с людьми делают – на это смотреть? Хватило бы уже такого!
Еще весной – вспомнить – сильный был старик, за плугом ходил, а уже по домашности не было дела, чтобы проворно не сделал. Четыре рабочих лошади было в хозяйстве у Мещеряковых, да молодняк, да овец они водили порядочно пыхтел, а все ж таки управлялся без сына, без снохи старик... А тут – сидит древний-древний, глазами водит, все время ищет чего-то. Ищет, не находит... На Дору поглядел, закивал часто, а не сказал ничего. Она ему Ниночку показывать, он и не видел Ниночку-то – она родилась летом, на боровой заимке в то время отряд Ефрема стоял...
Он увидел младенца, спросил:
– Как звать-то?
Будто никогда об этом не слыхал, не знал.
А вот другое заметил сразу:
– А-а, Ефремка! Ты гляди, пинжак на тебе какой – сплошь кожаный! Садись-ко! Вот тут и садись!
– Ты, сват, хотя бы рядом посадил Ефрема Николаевича! – сказала мать. А то и место ему указываешь бабье!
Подошла к зятю, папаху на нем приподняла, поцеловала три раза. Ефрем папаху бросил на лавку, поклонился теще:
– Спасибо Дарье Евграфьевне за внимание! – Сел, куда отец указывал.
– Пинжачок-от как, спрашиваю: на деньги купленный либо на муку где менянный? – допытывался старик.
– Выменял...
– И то – деньгам-от нынче веры нету. За деньги вещь не возьмешь, куды там! – И вдруг дрогнул весь, погладил Ефрема по голове, наклонился к нему и тихо так, жалобно спросил. – Ты скажи, Ефремка, пахнет ли от меня чем?
Ефрем сначала не понял, после стал наклоняться к отцу близко. И Дора к нему наклонилась невольно, хотя и странно было – вроде как зверям каким при встрече обнюхиваться.
Человеком пахло, человеком пахло хворым и вроде даже земляным уже каким-то, могильным. Дора подумала: старик и сам чует запах этот, а все кажется ему – мнится это, не может этого быть, вот он на других и хочет проверить. Заглянула ему в глаза – ничего нельзя угадать. Глаза сами по себе. Разговору в них никакого, выцвели, слов не касались. Но помнить что-то такое помнили... Либо Ефремку еще бесштанного, либо как сам он сватать приезжал в первый раз Дору.
В избе тихо стало...
Ефрем сидел рядом с отцом, нюхал его, не стеснялся, и видно было, как старался он. Мыслями всеми догадывался, и глядел на отца, и носом шумно тянул в себя...
Отец же сидел – не дышал. Ждал – угадает ли Ефрем. И все в избе ждали ребятишки и свои и Прасковьины, – все присмирели.
Вдруг Ефрем вздрогнул и так, будто бы ненароком, даже сказал:
– Ну как поди не почуять... Очень даже сильный дух от вас, батя!
– А угадай! Угадай, какой дух-от? А?
– Угадывать вовсе нечего – веником от вас, батя, сильно пахнет!
И засмеялся старик. Засмеялся-то как: будто сроду не били его колчаки, не хоронил он прошлую зиму жену свою, будто ничего худого не знал сроду. Толкнул Ефрема в грудь:
– Ты гляди, Ефремка, угадал! Угадал ведь как надо! Уж я мужиков двоих звал меня прошлой субботой парить, старались они, но я же чую – веник не тот! Не тот, не верстовский вовсе веник, духу от его нет, и пар он под шкуру не загоняет! Ведь какой у нас дома-то веник был припасен загодя, ну пожег Колчак проклятый, пары одной на вышке не оставил! А здешним же веником правда что обида париться, я уже вовсе надежу потерял, что они дух какой при мне оставят! Сверху парит, а в нутре – пусто. Пусто, хоть убейся! Ну нет вот понял же ты, все понял и пронюхал! Спасибо им, тем мужикам, все ж таки постарались, пропарили! И тебе, сын, низко кланяюсь! Теперь мне что, душистым-то, преставиться? В самый же раз!
– Ну, вы об этом погодите, батя! Торопиться некуда!
– Тебе, может, и некуда, Ефрем, торопиться, ты войной занятый, а мне временить грех! Я занятый нынче смертью. Вот как.
Мать шептала на ухо Доре:
– Избу пожгли, коней увели, самого избили – едва и дышал одним только боком, а веники более всего ему жалко! Заходится! Николай-от Угодник верно что призывает его!
Все смешалось нынче, все перепуталось...
В одно время совсем рядом все было – поп с попадьей убитые, расстрел, совсем напрасно Ефремом сделанный, Ниночка, мать с отцом, сестра вдовая, запах веников – тоже...
И как Ефрем понял тогда запах этот? Догадался, что отцу, умирающему, искалеченному, от него надо? Не вовсе же ему глаза войны застили, мог он и такое почувствовать? Все-то ему дано было, Ефрему... Таким он и с нею был... То не видит, не слышит ее страданий, слеп и глух. То – она глазом только поведет, махнет рукой, вздохнет – он уже и угадал, что с нею, что ей надо, что чувствует она и переживает.
Побыли они еще несколько дней в Знаменской. Правда, мучилась Дора. От матери, от детишек, от Ефрема страх скрывала, от себя не могла скрыть. Сколько уже она с Ефремом по степям, по лесам скиталась, чего только не пережила – привыкнуть не смогла.
Разве к страху за детей своих, за Ефрема привыкнуть можно?
Ефрем – тот ко всему мог привыкнуть. И "кустарем" был, и главнокомандующим огромной армией.
Он в любой жизни был как дома.
Принесли акты на конфискацию, которые он требовал. В поповском доме и требовал.
Ефрем их поглядел, полистал и бросил.
А Дора после рассматривала, читала, хотя и не очень разборчиво написано было.
Бумаги-то, бумаги-то! И совсем чистая, и линованная вдоль-поперек, большие листы, а рядом – из ребячьих тетрадок повыдерганные, с гербами были бумаги, писари исписали их красиво на одной стороне, а на другой – эти самые акты, мусоленным карандашом составленные.
В Знаменской Коровкин жил, Матвей Локтионович. Знали про него, видели богато живет. На одной только швальне сколько рабочих держал, еще имел кожевенное заведение, еще кредитку на паях с Кузодеевым держал. А все-таки кто бы подумать мог, догадаться, какие он в действительности водил капиталы?
Денег золотых конфискованных оказалось сорок семь тысяч, разных золотых вещей – пять фунтов с золотниками, чуть только не два пуда столового и всякого другого серебра! А шуб, матерьялов: две, три жизни проживи – не износишь!
Зачем это ему было? От какой глупости? Или от болезни это все спасает? От невзгод? От измен? Не спасает это ни от чего, одно только и делает зависть делает от других, злобу. Вот он и хоронился, Коровкин, от людей, не показывал добро никому. Значит, и ему стыдно было? Мало того, через это добро он изменником всему знаменскому миру стал – колчаков у себя принимал, кормил их и поил. Досыта поенные-кормленные, они на площадь являлись, колчаки, призывали народ, грозились народу, а весной так и на самом деле шестерых знаменских шомполами били, и среди них – женщину одну...
А кончилось чем?
Колчаки у Матвея бесплатно пили-ели, после офицер дочку у него насильно увез, а самого хозяина мужики вскоре описали в этот акт, заведения отобрали в общество и заставили в швальне самую грязную работу работать...
Еще удивлялась Дора: в актах дом был описан на восемь комнат, конюшни, рысаки, бык племенной оценен в полтысячи, а после листки шли, так на тех корыта были записаны, ведра дырявые – дырок указано было сколько на каждом, одна, либо две, либо все в дырах ведро, а под конец там ручка от маховой пилы была зачислена.
Она Ефрема спросила: рукоятка-то зачем? Начали с золота, с двух пудов серебра, с восьмикомнатного дома, а рукояткой кончили? Деревяшка же эта с ладонь, чуть длиннее, и нет больше в ней ничего! Не ее ли Ефрем и проверял, когда акты конфискованного имущества себе потребовал? Не за нее ли воюют мужики?
Ефрем сказал:
– Правильно все сделано! Грабеж – то грабеж и есть, то есть прямое беззаконие. Грабит человек, так он знает – законом здесь и не пахнет. Но нынче-то мужик за что воюет? За закон и воюет, за новый, справедливый, вовсе точный. От закона и делает. А тут уж с мужиком ни один писарь, ни один крестьянский либо другой какой начальник сроду не сравняется! Тут он закон видит в каждом гвоздике!
Верно, что все нынче смешалось.
А приглядеться – семья-то, родные – все почужели будто друг другу. Сестра Прасковья зависть таила. Сама, должно быть, не хотела зависти этой, а куда от нее денешься? Она мужа потеряла, навсегда вдовой осталась, потому что в годах уже, и ребятишек на руках орда целая, а Дора с мужиком своим в тарантасе ездит и даже – при ординарце они. Ординарец и коней им запрягает-распрягает, и в дом входит, спрашивает, не нужно ли чего еще сделать. Дора дрова пошла рубить, так и колун у нее силой отнял, и сам наколол, и печь еще растопил.
Ребятишки Прасковьины на Петруньку и Наташку зыркают сердито, а Петрунька то ли не замечает этого, то ли нарочно двоюродных своих поддразнивает – к месту, не к месту, а только и слышишь, как поминает: "Наш батя...", "мы с батей..."
Мать – та никогда-то Ефрема не любила, за глаза ругала и в глаза не сильно жаловала, а тут – с уважением к нему, "вы" завеличала. Потчевала его, будто масленка шла, сапоги чистила бархаткой, не уставала хвалить сапоги.
Один у нее оставался зять, один мужик – не парнишка и не старик, а мужик настоящий – на всех дедок и бабок, на всех тещ и племянников. И хотя сердце Доре вроде отогрела, спасибо ей, лаской своей к детишкам, к Ефрему в то же время будто бы посторонняя ласка у нее была...
А вот отец Дорин, родной отец, тот не переменился ни к кому. Он ведь тоже не хотел в свое время, чтобы Дора за Ефрема шла. Братишки Дорины еще без штанов бегали, а наперебой уже рассказывали – какие шутки Ефрем удумал сделать, с кем подрался, кого побил. Отец как услышит об этом – велит сразу же парнишкам замолчать, а на девчонок строго так поглядит – будто тогда еще опасался, что которая-то из них может за Ефремом потянуться. После на покосе как-то были они с отцом, отец кочкарниковый край докашивал, Дора еще вчерашнюю кошевину гребла, а сели сумерничать, и тут рассказал он дочери, какая у нее в замужестве будет жизнь. Он ей тот раз все высказал, и все, до точности, сбылось после. Он не перечил, нет. Даже и не шумнул на нее, не пригрозил. Сказал: "Не ты за его – он за тебя идет. И вечно тебе с ним, как с ребенком малым, будет и забот и невзгод". Только не знал он одного – что Дора-то и сама все это знала. Больше отца знала.
А все ж таки в тот раз поняла она, как переживал за нее отец. Не в тот раз даже – позже уже поняла, и забота отцовская чем дальше, тем все ближе ложилась у нее к сердцу.
В семье пятеро рождалось детей: трое парнишек было, и все померли, а две девчонки – те выжили. И всегда казалось Доре – тоскует отец по мальчишкам. Какая семья, какое крестьянство без сына? Вышли дочери замуж, и верно, остались отец с матерью – он да она, она да он... А ребятишек отец любил, они за ним вечно со всей деревни вились. Он грамотный был, отец, так мужики в которую зиму его за учителя подряжали, и тогда полная изба набивалась у них зимой мальчишек – учил он их читать. Писать сам не очень мог, читал же быстро, громко и ладно так. Было бы что – книжку, газетки обрывок, надпись под картинкой, – он все прочитывал по скольку раз подряд. И про буквы печатные все знал: как делаются они, какой краской покрываются, как отражаются на бумаге.
Дору сильно любил. Она думала: за то и любил, что читать тоже быстро и ясно научилась. От матери потихоньку привозил ей с базара книжки, в книжках сказки разные, про богатырей, про воинов. Но только Дора стеснялась при отце читать. Все думала, отцу как раз в этот миг помершие парнишки будут вспоминаться.
Мать, бывало, девчонок чуть что – за косы, пока парнишки были живые тех за уши отдерет, но только отец на порог ступил – мать уже и присмирела, уже ласковая со всеми. Он крику-шуму не любил, отец, ребятишек никогда не бил, но боялись они его, даже представить трудно, почему боялись. И любили. Зимой сказки он рассказывал, множество сказок: про богатырей, про бергалов – горнозаводских рабочих Алтайских рудников, он и сам из них происходил.
Нынче в сестрином доме отец из сундучка старинного, солдатского снова книжки эти на свет вытащил. И в горницу к Доре положил. Про тех же самых воинов, про богатырей.
Она их читать не стала – не хотела. Какими они в детстве еще представлялись, такими пусть и остаются с нею. Начнешь читать – а вдруг они хуже сделаются? И не поверишь больше им? А вот картинки глядела в книжках. Картинки веселые были. И война на них тоже веселая.
С Ефремом отец встретился, будто вчера только они виделись. Ни о чем не расспрашивал, ничего от него не хотел узнать.
Ефрем первый узнал, что отец в ополчение записался. Обрадовался:
– Это вы, батя, правильно сделали! Удивительно, как правильно!
– Удивляться-то чему? – ответил отец. – Я еще и по сю пору на опоясках с тобой потягаюсь!
Мать замешкалась, Ефрем тоже разом вспыхнул. Главнокомандующий-то который раз сильно на мальчишку смахивал...
– Ну-ну, батя, ну-ну-у, – сказал только.
Это еще Дора в девках была, а Ефремка сильно куражился, ходил по Верстову, бороться вызывал всех и каждого, удивлял всех, как ловко он бороться умел.
Один отец и не удивлялся, говорил: петушок Ефремка. Нехватка у него в душе какая-то, что ли, вот он и старается вид показать, чего-то достигнуть. И на пасхе как-то, седой уже был, а вышел на площади с Ефремом на опоясках по-киргизски бороться.
Дора стояла, глядела на них, глядела, после не смогла глядеть – убежала прочь. Вечером только и узнала, что отец-таки положил Ефремку. А ей известно было: отец секретный один прием в этой борьбе знал.
Ефрем тоже прием тот сейчас и понял и уже спустя время укладывал им на землю самых сильных борцов из киргизов, но случай все ж таки был – бросили его тот раз на землю, всенародно бросили.
– Поменьше своим эскадронам воли давай, главнокомандующий! С попами не сильно воюй, особенно сказать – с попадьями. И не только я, вовсе старики пойдут на партизанской стороне воевать, – еще сказал отец.
– Вовсе-то старики пускай уже дома сидят! – ответил Ефрем. – За внучатами тоже кому-то надо глядеть.
– А они успеют, старики. И там и здесь. И не то чтобы они – сила большая сами-то. Она другим, помоложе, силы придадут. Так.
Уезжали из Знаменской – мать плакала:
– Детишек-то береги, Дора... Младенца-то, младенца, не дай бог...
– Или ее надо уговаривать в том? – вздохнул отец. И один только раз молча Дору на прощанье поцеловал.
...Скоро ли кончится? Скоро ли переменится жизнь, не этой будет, другой?
Ничего не кончалось. Даже и не начиналось ничего тогда в Знаменской, самое-то страшное. Нынче в стогу в глухом, в жарком, в дурмане в этом началось. Не только для нее – для Ниночки война началась, навалилась на сердечко ее.
Прежде войны были – мужиков брали, они где-то там, неведомо где и стреляли друг в друга, рубились. Мальчонка в семье рождался – все довольные были: душа ревизская, мужского пола, земли надел на нее, и лет через двадцать, раньше, еще одну рабочую душу женского пола в дом приведет.
Так за это все, за льготу эту, семья и плату несла: женили сына, внучата пошли от него, а отца уже и нет – убит на войне.
А девчонка крохотная – причем? Она от жизни ничего не просит, не требует. Она и родилась-то – жизни себя отдать! Без надела родилась.
Не та жизнь! Не та! Чему же отдавать себя?
И добьются ли мужики хотя бы и через эту страшную войну жизни той, настоящей? Смогут ли? Теперь уже остановить их нельзя и сами они не остановятся, теперь сколько будет крови – уже никто не считает, а слезы бабьи топчут – не видят, что топчут.
Удастся ли?
Послышалось – кони где-то невдалеке топочут.
Замерла в логове своем.
Кто? Свои за ней приехали, взять ее отсюда, как обещались? Или другое?
Когда уходили от погони, в стог в этот спешно ее спрятали, и только прочь ускакали – выстрелы слышались. Теперь, может, за убитыми своими приехали – не успели тот раз убитых подобрать, увезти с собой.
Может так быть?
Сорока кричала... С тех пор как вместе с мужем Дора долгое время скрывалась – знала, что сорока над человеком вьется, выдает его криком.
Ее выдает? Или тех, кто ее ищет?
Может так быть?
Первый день, пока хоронились здесь, Дора все-таки выходила на воздух. Ночью выходила. Пеленочек не было, она с себя рубаху изорвала, ночью стирала обрывки эти в озере.
Наташка с Петрунькой тоже в воду залезали, сидели тихо в воде, не баловались, не брызгались, чтобы каплями звону не сделать.
Неподалеку из озера торчали в небо полусгнившие оглобли колесного хода. Забросил здесь кто-то и когда-то этот ход. Солнце с высоты светит прямо в озеро – ход проглядывается на чистом песчаном дне расплющенный, рядом со своей тоже кривой и вздрагивающей тенью. Солнце светит сбоку, с заката, – и ход распластывается далеко по воде, уползает своею тенью в камыши.
Из этого озера в другое протока тянется... Вода в ней немая, голоса при любом ветре не подаст. Ни волны, ни плеска. Только морщиться и умеет. И в небо раз в году, верно, глядится эта вода, а то все подо льдом или под тиной зеленой.








