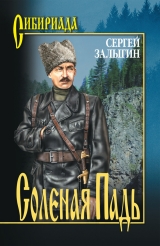
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Залыгин Сергей
Соленая падь
Сергей Павлович Залыгин
Соленая падь
Роман
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН
Навечно встали на полки советских библиотек такие книги о гражданской войне, как "Железный поток" Серафимовича, "Бронепоезд 14-69" Всеволода Иванова, "Чапаев" Фурманова, "Разгром" Фадеева, "Кочубей" Первенцева. Но тема героического этого времени отнюдь не оказалась исчерпанной. В продолжение славной традиции написан новый роман сибирского писателя Сергея Залыгина "Соленая Падь". Семья героев гражданской войны, запечатленных литературой, пополнилась еще одним выразительным образом. Уже много лет волнует и восхищает нас немногословный Кожух, по-крестьянски мудрый Вершинин, блистательный Чапаев, сосредоточенный Левинсон – человек с железной волей и задумчивыми глазами, наивный, талантливый Кочубей, ищущий путь к коммунизму по компасу своего честного, простодушного сердца. Не оставит читателей равнодушными и суровый, неистовый, богато наделенный полководческим даром Ефрем Мещеряков, главком одной из сибирских партизанских армий.
"Соленая Падь" – одна из тех счастливых книг, прочтя которую чувствуешь себя богаче. Возвращая читателя к событиям более чем сорокалетней давности, автор раскрывает перед нами чудесную, героическую и почти неизвестную по литературе главу гражданской войны в Сибири.
Вроде бы все уже знакомо: красные, белые, партизанские отряды, действующие у них в тылу, появление народных полководцев, народной военной тактики, комиссары из рабочих-большевиков, помощь интернационалистов, взаимодействующих с партизанами. Сколько обо всем этом читано в книгах, сколько видено в кино и на театральных сценах. Но в том-то и сила этого нового романа на старую тему гражданской войны, что он не повторяет уже известного. Вводя читателя в незнакомый для него мир партизанской республики "Соленая Падь" – этого живого очага Советской власти в глубоком тылу белых армий, – романист показывает картины необычайные, до сих пор почти неведомые. Перед читателем распахивается своеобразная, удивительная жизнь штаба этой республики с ее государственным устройством, со своими законами, судами, со своей армией, слагающейся из разнородных партизанских отрядов, со своими неотложными проблемами, с трудной и тяжелой борьбой за ленинскую правду, к которой неодолимо идут вожаки республики, руководствуясь иногда лишь зовом честного сердца и жестоким опытом, который дает действительность.
Сергей Павлович Залыгин по первой своей профессии ученый-гидролог. Он много ездил, странствовал по родному сибирскому краю. Увиденное, пережитое лежит в основе всех его литературных трудов: возьмем ли мы его "Северные рассказы", роман ли "Тропы Алтая", повесть "На Иртыше"...
Научный работник и литератор, художник слова. Это не могло не сказаться на творческой манере Залыгина. Писатель любит точность, доказательность, неопровержимую силу фактов. Для воссоздания правды почти полувековой давности он знакомится в архивах с газетами тех дней, с воззваниями, протоколами, с воспоминаниями участников живых и уже умерших. И хотя собственные имена героев романа заменены, а географические названия как бы стерты, он смело включает в ткань повествования отрывки из подлинных документов. От этого, не теряя художественности, роман обретает силу исторической убедительности.
Произведение это очень динамично. В схватках с врагом закаляется партизанская армия, принимая в свои ряды новых добровольцев, растут ее командиры – вчерашние крестьяне и рабочие, совершенствуя военное мастерство, выковывая в сражениях правильный взгляд на жизнь. Мужает, освобождается от своеволия и партизанщины, мудреет от общения с настоящими коммунистами народный полководец Ефрем Мещеряков, преодолевая все случайное, утверждая в себе человека нового времени.
Действие романа постепенно захватывает читателя, и вот уже волнуешься за дела партизанской республики, горюешь по поводу ее бед, радуешься ее успехам, и как добрых знакомых, живых людей начинаешь воспринимать и главкома, и спокойного, простого, мудрого и смелого комиссара Петровича, и крестьянского трибуна, председателя сельского штаба Луку Довгаля, и сурового, прямолинейного начальника главного штаба Брусенкова, и городскую девушку Тасю Черненко, страстно, до фанатизма преданную революции. Зримо видишь созданные романистом образы, этому немало помогает самобытный, колоритный язык произведения, вобравший все лучшее из языка сибирской деревни.
Интересный роман написал Сергей Залыгин, и, отправляя вас, читатель, в героическое наше прошлое, в республику "Соленая Падь", я верю, что и для вас это путешествие будет увлекательным и волнующим.
БОРИС ПОЛЕВОЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Начиная с самой весны – потом все лето – громоздились над степью тяжелые облака, несли обильные грозовые дожди, а еще – тревоги.
Хлеба – на редкость урожайные сибирские хлеба осени девятнадцатого года, – уже тронутые рыжеватой сединой налива, как будто сдвинулись в сторону дальних и диких несеяных некошеных трав.
И удивительно было, сколько же этот степной мир – с редкими деревнями, с частыми березовыми колками и сосновыми ленточными борами, с бесчисленными западинами пресных и соленых озер, с невысокими увалами, – сколько он может вмещать в себя забот и тревог? До каких пор он может это?
В селе Соленая Падь – богатом, базарном и церковном, известном далеко вокруг, – кузнецы день и ночь ковали наконечники к пикам, обручи к самодельной пушке... Дымные, приземистые кузни, неприметные до сих пор, позабывшие самих себя, вдруг воспрянули из веков, из далеких-далеких времен.
Снизу доверху воззваниями были заклеены деревянные столбы на крыльце обширной торговли купца второй гильдии Кузодеева – нынче главного революционного штаба. Их лепили одно на другое и рядом одно с другим.
Никто не боялся чьих-то слов, все мыслимое было уже произнесено; торжественность обещаний, беспомощность призывов, бесчеловечность угроз потеряли и настоящее и былое свое значение.
"Солдаты и крестьяне! – взывали крупные буквы на желтой выцветшей бумаге. – Всех вас зову я на общее дело! Солдаты должны рассеять те банды богоотступников, которые защищают гибельное для русских самодержавие народных комиссаров.
Крестьяне должны мешать продвижению большевиков и помогать нашей армии, идущей спасать наш умирающий народ.
Все мы должны свергнуть власть Советов, давших народу голод, войну, нищету и позор.
Спешите! Уничтожив самодержавие большевиков-комиссаров, вы, крестьяне и солдаты, тотчас начнете выборы в Учредительное собрание.
Я обещаю вам это перед лицом России и целого света. Порядок выборов в Учредительное собрание уже выработан, но война, которую ведут комиссары с армиями, спасающими родину, мешает нам избрать хозяина русской земли и навсегда наладить нашу жизнь так, как это решит сам народ.
Поднимайтесь же, крестьяне, которых вели на защиту родины и к победе Пожарский, Суворов и Кутузов, горожане, рабочие и купцы, которых поднял в смутное время Минин.
Я вас зову во имя России, во имя русского народа!
Вперед, на народных комиссаров! К Учредительному собранию!
К спасению России, к ее величию, счастью, славе!
Все поднимайтесь! Все вперед!
Верховный правитель и верховный
главнокомандующий армией Колчак".
Сбоку и чуть ниже – другое:
"Братья-крестьяне села Соленая Падь и волости! Ваша и другие смежные волости превращены в очаг большевизма, у вас народился самозванный штаб, попирающий законы и человеческую совесть, уничтожающий крестьян, которые трудом и потом нажили свое состояние.
Братья! Опомнитесь! Сбросьте ненавистных комиссаров, казните их немедленно, передавайте их в руки правосудия, представляющего грозную и справедливую власть верховного правителя Колчака!
Встречайте хлебом-солью, христианским благодарственным молебствием вверенные мне верховным правителем войска, двигающиеся к вам с великодушно протянутой рукою помощи!
В случае же малейшего вашего сопротивления я прикажу всей силой оружия – огнем артиллерии, пулеметов, саблями и кинжалами, а также сожжением – стереть с лица земли села, поддавшиеся безрассудному пороку отступничества от святой веры и русского государства.
Так повелевает мне долг, и так будет совершено, дабы пресечь порок и не позволить ему погубить Россию!
Полковник Ершевский".
На другом столбе, напечатанное на картавой машинке – "р" было вписано от руки лиловыми чернилами, – висело объявление:
"Товарищи крестьяне!
Для освобождения Сибири от ига разных самозванцев: Колчака, Анненкова и других тиранов, для восстановления Советской власти вы добровольно несете великие жертвы.
Ваши сыновья и братья сражаются в первых рядах революционных войск.
Сами вы по всей губернии прямо или косвенно участвуете в гражданской войне за счастье и волю.
Товарищи крестьяне! Снабжайте свою армию кожей, холстом, домотканым сукном и съестными припасами! Жертвуйте по силе возможности, помня об одном: от вашей дружной работы, от вашей солидарности и единства с революционной армией зависит успех вашего освобождения. Помните, товарищи, что эта борьба есть последняя борьба за освобождение трудового народа. И в ее успешном исходе – наше счастье, наше благополучие.
По окончании этой борьбы не будет ни разорительных войн, ни непосильных налогов, ни самозванных начальников.
Трудовой народ будет самостоятельным хозяином и творцом своей собственной жизни. Теперь же все, как один, дружно на помощь нашей революционной армии, нашим бойцам и семействам убитых героев-товарищей!
Агитационный отдел
при главном штабе".
Наклеенные тестом воззвания были облеплены жадным роем мух, а на рассвете, покуда площадь бывала еще безлюдной, сюда являлись козы. Задирая рогатые головы, они глодали объявления, торопливо перемалывали бумагу на острых зубах.
Уцелевшие листы шелестели под ветром.
В утро, когда через Соленую Падь прокатились отдаленные артиллерийские раскаты, было наклеено еще одно объявление:
"Товарищи крестьяне! Все уже слышали сластолюбивые колчаковские слова и обещания. И угрозы слыхали, и не надо нам еще угроз – мы и сами видим, как сластолюбивый Колчак жгет деревни, уничтожает взрослых и младенцев!
Артиллерийская белая расправа приближается к нам, товарищи! И она объявила нам, что мы больше не тыл нашей доблестной армии. Мы – ее настоящие бойцы и передовая позиция.
Каждый взрослый с сего 18 августа – боец!
Запомни это и пойми!
Народ, когда он приложит все свои силы, непобедим, и мы завоюем победу для самих себя и для своих детей, сколько бы она ни стоила жертв!
Да здравствует победа народа и для народа!
Главный революционный штаб
краснопартизанской республики
Соленая Падь".
Со всей степи, с дальних предгорий, с еще более дальних гор катились в Соленую Падь слухи.
Говорили разное: на помощь идет армия Ефрема Мещерякова...
Армия не идет – остановилась под Знаменской, даст бой полковнику Ершевскому на подступах к Соленой Пади...
Боя под Знаменской не будет – армия осталась в тылу у Ершевского...
Армия – неизвестно где, сам же Ефрем с тремя эскадронами идет в Соленую Падь. Примет главное командование...
Мещеряков Ефрем воюет с Колчаком скоро год, не проиграл ни одного сражения...
Родом он из села Верстово, Ефрем, с Нагорной степи, и еще задолго до войны верстовские мужики грозились его убить за корову.
Увел Ефрем корову зимой испытанным варначьим способом: обул ее в пимы, чтобы не оставляла на снегу следов...
Ладно – не убили тогда Ефрема. Кто бы теперь над армией командовал?
Шли дезертиры из колчаковской армии, рассказывали: Колчак деревню сжег под городом Омском. Всю сжег. Двора одного не оставил...
Говорили: полковник Ершевский просит у верховного подкреплений, а верховный пригрозил повесить полковника на омской площади, если безотлагательно не возьмет партизанскую Соленую Падь... Партизанскую Москву – так нынче и называли это село далеко вокруг.
А еще – все и каждый – говорили: если нынче не будет боя, тогда будет суд над Власихиным Яковом Никитичем.
И действительно, суд был.
Собрались на площади у штаба, все село собралось, приехали люди из Малышкина Яра, из Малой и Большой Крутинки, из Старой и Новой Гоньбы...
Суд уже шел, а подводы все тянулись и тянулись по дорогам, будто не было войны, будто белая артиллерия окончательно затерялась где-то в степях, среди увалов, ушла по одной из бесчисленных дорог куда-то в сторону, проглядев Соленую Падь, будто все окрест села и деревни получили обещание, что нынче они от боя с полковником Ершевским освобождены.
Шли пешие, ехали, вели разговоры...
– Сами судить будем... Кто на площади – тот и судья.
– Самосуд?
– И судить всеобще, и не самосуд, а по нонешнему закону.
– Ну, а если я крикну, чтоб стрелили Власихина-то? Я – отчаянный!
– Кричи. Кто тебя послушает!
– А как послушают?
– И очень просто – много нас, крикунишек-то. Посади меня за судью, так я то ли всех казнить велю, то ли освободить. У меня – середки нет!
– Кабы не судили Власихина – вот он был бы судья-я-а!
– Ты гляди, до чего народ дошел: сам власть назначает, сам за себя воюет, сам и судит, кого вздумает. Кто бы допрежь подумал?!
– Странно... То было – явится начальник, а я и видеть его не хочу. А тут сосед мой Игнашка – комиссар! Власть и властелин! И кажный божий день на меня через мое же прясло гляделки растопыривает. А ведь он мне, властелин этот, два целковых с тысяча девятьсот десятого году, с Моряшихинской конской ярманки, должон и не отдает, гад! Ну, как надоест он мне – я его звякну чем? И уже вышло – я не Игнашку, а власть звякнул?.. Я тебе скажу: мне больше глянется, когда баба рядом, а начальство – где подальше. Ну, пущай покажется на глазах, постращает меня, в казну что отберет, ну, а после чтобы я обратно его ни сном, ни духом не видел!
– Не то время. Время – до мировой революции рукой достать. И нынче мы ее, мировую, сделаем, а завтра она нас, мужиков, сделает людьми. В корне изменит нас.
– Кого изменит, над кем – надорвется. У нас на выселке – Микишка Журавлев. Нога деревянная, к службе негодный, а бабу бить, самогонку жрать это он разве что после третьей мировой бросит. Раньше – от его не жди!
– У этого – нога деревянная. А другой – весь деревянный, с ног до головы и обратно. На вид – человек, а сознательность его сроду не прошибет.
– Деревянному – удобнее жить. Износу нет.
– Все одно когда-то начинать на людей переделываться. С добра не начинается это, начинается с беды. Ну, а пуще Колчака беды в Сибири не бывало еще.
– Вот и надо сделать: Власихина Якова шашкой махнуть!
– Ты дурной либо из деревянных?
Суд шел по закону и порядку, утвержденному на этой же площади две недели назад.
Председатель суда Иван Брусенков – начальник главного революционного штаба Освобожденной территории. Члены суда: сельский комиссар Лука Довгаль, по прозвищу "Станционный" (многие годы работал стрелочником на станции железной дороги), заведующий отделом призрения главного штаба Коломиец, четыре заседателя, избранные тут же, на суде.
Протокол вела женщина из главного штаба, может, и девица – совсем еще молоденькая.
Судьи сидели за столом на просторном крыльце, левые руки у всех повязаны широкими красными лентами.
В углу крыльца вооруженный партизан стоял подле красного знамени Соленой Пади, в другом – за крошечным столиком сидела секретарша. А сбоку от судей возвышался чернобородый Власихин Яков Никитич, внимательный к любому и к своему и к чужому слову. Похоже было – не его судили, он судил.
Председатель спросил: признает ли подсудимый состав суда законным и правомочным?
Он ответил, что признает:
– Свою руку подымал, когда затвердили нынешний революционный суд.
Зачитали обвинение – Брусенков зачитал, громко и ясно произнося слова, подавшись из-за стола вперед.
Голос у Брусенкова сильный, и сам он – с короткими ножками, но высокий и поджарый в туловище, с лицом, сильно изрытым оспой, – какой-то неожиданный. Что сейчас человек этот скажет? Нельзя угадать. Он еще парнишкой бегал конопатым по деревне, а старики уже говорили: "Вострый будет мужик..."
Нынче Брусенков был строг, из-под маленьких детских бровей глядел настороженно, обвинение читал старательно, подставив под бумагу потрепанный картуз, то и дело одергивал длинную черную рубаху не очень свежего сатина и черную же опояску.
Когда кончил читать, снова спросил: признает ли Власихин Яков себя виновным?
И Власихин ответил, поглядев сначала на лица судей, после – в толпу, на площадь:
– Виновный я перед людьми...
Обвинение было такое:
"Власихин Яков Никитич, житель села Соленая Падь, тысяча восемьсот пятьдесят первого года рождения, обвиняется революционным законом в следующем: при объявлении мобилизации в красную народную армию он, Власихин, в ночь на августа девятого числа сего, девятнадцатого, года увез двух сыновей своих, Якова и Николая, в неизвестном направлении и спрятал, дабы уклонить старшего из них, Якова, рождения тысяча девятьсот второго года, от указанной мобилизации, второго – Николая – по неизвестной причине.
Вернувшись в Соленую Падь, он, Власихин Яков Никитич, в ночь на пятнадцатое августа явился немедленно в сельский штаб и заявил сельскому комиссару товарищу Довгалю Луке Ивановичу о содеянном, после чего был взят под стражу. Местонахождение сыновей назвать отказался, указав только, что перешел линию фронта и спрятал их в урмане, откуда они не смогут в скором времени возвратиться и не могут быть найдены и мобилизованы ни красными, ни белыми властями. Все указанное действие его, Власихина, от начала до конца является тягчайшим преступлением против народа и подлежит революционному суду народа".
– Каешься?! – крикнул Власихину с площади чей-то удивленный, уже немолодой голос.
Власихин и на этот голос обернулся, подождал, не крикнет ли с площади еще кто.
– Не каюсь, а признаюсь... – Расстегнул белый холщовый ворот, обнажив неожиданно седую грудь. Сам он был черный, смоляной, а годы его, почти полные семьдесят лет, вот где отпечатались – на груди.
Жаркий был день.
Далеко на взгорье минуя церковную маковку, а совсем вблизи – железную, покрашенную в зеленое кровлю двухэтажного дома купца Кузодеева, нынче помещение главного штаба, на площадь, на головы и лица людей падали солнечные лучи. В этом густом и желтом потоке время от времени проскальзывали лучи совсем светлые, молодые, как будто народившиеся не от августовского летнего солнца, а от весеннего – майского, а то и апрельского, как будто не с запада смотрело солнце на землю, а только еще подымалось с востока. И похоже было, Власихин заметил этот особенный свет, улыбнулся. Глядя на него, и другие мужики тоже расстегнули вороты домотканых рубах.
Иван Брусенков поднял руку с красной повязкой.
– Вопросы от народа подсудимому не ставить! Сперва их будет ставить суд! – и сам спросил: – Объясните, подсудимый Власихин Яков Никитич, когда вы сознательно признаете свои действия как направленные против народной власти, почему же вы совершили их?! Почему, не глядя на свою же собственную сознательность, совершили?
Власихин собрался с мыслями.
– Правильный вопрос... А совершил – потому что не думал в то время, хорошо ли, плохо ли совершаю. Бессмысленно мне было под самого себя подбивать закон, хотя бы и того справедливей был закон, того правильнее... Когда бы я не сделал своего – народ бы меня сейчас не судил бы, нет. Судил бы я самого себя, и осуждение я сделал бы себе до того края, за которым у меня жизни уже не было бы. И какой бы мне ни был решен нынче народом приговор, какой бы он ни дал, народ, отзыв на мое действие – отзыв этот все одно будет мне легче, чем собственное мое осуждение.
И опять Власихин глянул на площадь.
Он знал – судить его непросто. Трудно и тяжко было его судить...
Двадцать лет служил Власихин срочную и сверхсрочную службу. И пока служил – отписывал землякам письма.
Просились в общество переселенцы из разных российских губерний общество спрашивало у Власихина, а он письмом отвечал, принять либо отказать в просьбе.
Напала на деревню нездешняя, незнакомая хворь – служивый уже шлет письмо, как от хвори той лечиться.
Вышел спор с малышкинскими мужиками на сенокосной грани – его же спрашивают: какие у Соленой Пади имеются права на спорную землю, не помнит ли служивый, в каком году и кто пробивал ту межу?
Вернулся Власихин с долгой и дальней своей службы – его всей деревней встречали, и советчиком он стал всей волости, всему уезду. Везде его знали, отовсюду шли к нему. Он жалобы и прошения писал – городские писари против него ни умом, ни уменьем не выходили, он по крестьянским делам в Петербурге у министров был, а сколько раз в губернском городе – счет потерян.
Мужикам Соленой Пади соседние деревни завидовали:
– Нам бы вашего Якова Никитича!
Нынче Яков Никитич стоял перед судом...
– Ну, ладно, – задал ему вопрос Лука Довгаль, сельский комиссар Соленой Пади, – старшего сына ты увез в урман и спрятал от народной военной службы. А младшего зачем? Для какой цели?
– К подсудимому обращаться по закону, – быстро сказал Брусенков. – То есть говорить ему "вы". Понятно, товарищ Довгаль? Понятно всем, товарищи присутствующие?
Довгаль кивнул, будто за всех, и чуть оробел от замечания, а еще оттого, что сам понял – вопрос он задал, будто чего-то стесняясь, будто жалея Власихина. Чтобы никто о нем этого не подумал, он встал за столом и, повысив голос, потребовал:
– Отвечайте, подсудимый, на заданный вам судом вопрос!
Но Брусенков снова Довгаля поправил:
– Голос на суде не подымают. Говорят ровно и гладко, только чтобы все слышали. Не более того.
Власихин молчал. И на площади люди молчали. И за столом суда – тоже.
...Когда вернулся из солдат Власихин, он вернулся не один – привез с собою девочку.
Тихая была девочка, хотя и проворная, с тоненьким голоском, с большими, всегда открытыми, но незрячими глазами. Слепая была и сиротинка. Прибилась к нему еще ребенком, из солдатского котелка они сколько лет вместе щи хлебали, кашу ели...
И очень она была ему под стать, бобылю, – и семью заводить не надо, поздно уже заводить, и хозяйка в доме – сготовит и зашьет, к празднику в избе уберется. Слепота ей в работе не мешала.
А потом вот что случилось: она ему двух сыновей родила. Одного за другим. Обоих сразу и грудью кормила – и ползунка и колыбельного.
Сначала от Власихина народ сильно отшатнулся, особенно женщины, до того это было неожиданно. Но они же первыми с новостью примирились, привыкли. Да и мужики тоже – наверное, даже меньше его уважали бы, Власихина, если бы не тот случай: Власихин и в самом деле должен быть не как все. Не обыкновенный ведь он мужик!
К тому времени Власихин получил большую часть хозяйства умершего старика отца – отец его жил за сто, и похоже было, сын проживет не меньше.
С девочкой-слепушкой он обвенчался; парни подрастали. Хозяйствовал он больше с помочами, сам же день и ночь занят был делами общества. Сколько его ни просили, он так и не согласился на должность: ни волостным старшиной, ни в Кредитное товарищество – никуда, от общественных дел не отказывался ни словом.
Но не удавалась ему жизнь, не удавалась, и только, – лет десять назад погибла его девочка-жена.
Глупо погибла – вышла в масленицу из дома, а по улице мчалась шальная тройка. С лентами, с бубенцами, с пьяными гуляками в кошевке.
Метнулась от этой тройки слепая, но не в ту сторону – под коренника угадала.
Хворала долго, а когда умерла и хоронили ее, женщины выли, будто у каждой собственный ребенок погиб. Оказалось – все любили ее, все будто света в окошке лишились.
Вдовец же Власихин, как в разных рассказах бывает, а в жизни редко, ходил на могилку слепенькой каждый день, не женился, даже няньку не брал в дом, а воспитывал-выкармливал мальчишек своих, любил их бабьей любовью и только что по улице за ручки не водил по-городскому.
После отдал старшего в обучение купцу Кузодееву. До первой революции Кузодеев держал в Соленой Пади и в окрестных селах большую торговлю, а вскоре, как народилась Советская власть, бежал на Восток, говорили даже – в Китай, потому что при конфискации у него магазина оказал вооруженное сопротивление.
От Кузодеева и учился старший Власихин-сын, и выучился не одному только торговому делу – не скрывал он своей приверженности к хозяину, а когда объявился Колчак, то и Колчака величал "верховным".
Младший же Власихин, Николай, тот силой рвался к партизанам, умолял взять его в народную армию, когда отказали по малолетству – сам напрашивался стоять в караулах у поскотины либо у помещения штаба. И тогда отец, чтобы не шел брат на брата и сын его на его же сына, увез обоих в урман, поселил в какой-то скит либо просто в охотничью заимку.
Так было...
Теперь, когда Лука Довгаль допрашивал Власихина – зачем он и младшего своего сына, непризывного возраста, тоже схоронил от людей, – вопрос не только самого Власихина смутил, на всей площади люди притихли. Долго и терпеливо ждали, что Власихин в ответ скажет.
Он сказал:
– Сколько я людям служил – тут не смог. Тут самому себе сослужил, и сразу же против людей это вышло...
От маленького столика поднялась девушка-секретарь и, обращаясь к Брусенкову, заявила:
– Товарищ председатель! Подсудимый дает ответы весьма неопределенные! Нет никакой возможности занести такие ответы в протокол судебного заседания!
По виду она была совсем городской – девица, в ситцевом светлом платьице, с непокрытой темной головой. У нее было сосредоточенное выражение лица, – и выражение это, и чуть заметное замешательство, с которым она выговаривала строгие слова, к ней располагали, но не настолько, чтобы сразу же и простить ей ее нездешний вид, а главное – должность. Девке ли в суде писать?! И в каком суде! Над каким мужиком!
– Напишет – после концов не сыщешь по написанному!
Брусенков услышал и это замечание, встал и еще старательнее, еще громче сказал:
– Секретарь суда, член главного революционного штаба Освобожденной территории товарищ Таисия... – хотел назвать девицу по отчеству, но отчества не вспомнил, – товарищ Таисия Черненко предъявляет к подсудимому по закону. Она правильно предъявляет: это не ответы на вопросы, гражданин Власихин, а личное ваше выражение, вовсе не годное, чтобы записать его в протокол. Прошу относиться к себе как к подсудимому, и к суду, и ко всем присутствующим товарищам со всей законностью, а не просто лишь бы как...
Власихин кивнул. С замечанием согласился:
– Далеко не каждое слово на бумагу ложится. – Обернулся к Таисии Черненко. – Запиши так... Зная, что действую противу закона, я все одно увез обоих сыновей своих из желания охранить их от войны... Охранить от войны... Так и будет ладно. Для записи.
Еще задали вопрос Власихину. Один из народных заседателей спросил его:
– Ты, Власихин, знал – на преступление идешь. На что надеялся? Что суд окажет тебе снисхождение? Или – как?
– Надеялся, суд не вражеский. Не колчаковский. Надеялся, каждый судья не только что меня – себя будет судить.
– Это как?
– Судья не только другого, но и себя судит. Над собою чинит суд, над совестью своею и человеческим понятием. Себя на подсудимое место ставит, а вовсе не потому судит, что сильнее, что зубов у его и когтей больше, как у подсудимого. – Обернулся к Таисии Черненко и снова пояснил: – Запиши, барышня: подсудимый объясняет, что надеялся на справедливый и человеческий суд. Крепко надеялся!
– И тебя, Власихин, этот суд совсем особо поймет и особо оправдает, хотя бы и против закона! – подсказал Брусенков, забыв, что требовал обращаться к подсудимому на "вы". Подсказал и улыбнулся.
Но Власихин подтвердил серьезно:
– Так... Особо поймет и особо оправдает. Именно!
– С умыслом, значит, сынов от народу прятал?
– Не с умыслом, а с надеждой. С надеждой, что нету возможности братьям родным воевать между собой, потому что один – белый, другой – красный.
– Ты гляди на его-о-о... – сказали на площади удивленно.
– А что? Я свою жизнь сколь мог, столь и делал миру добра. Так неужто мир про это забудет нынче? Мало его слишком, добра-то, чтобы забывать. Когда его вовсе забудут, то, может, как раз миру и крестьянству всему конец сделается?! А я не верил в это! Нет, не верил в конец-то... Народ восстал. Он же – за справедливое восстал! Не ради же того, чтобы и то малое добро, которое в жизни есть, в грязь втоптать? Запиши, дочка: подсудимый доказывает, что, когда бы он не верил суду и справедливости, он запросто со своими сыновьями в урмане скрылся бы, а не явился за судом над самим собою. Однако он, Власихин Яков, явился – не мог без суда прожить.
– Значит, за святого перед нами желаешь выйти за дела свои? За престольного, храмового святого либо за апостола?
– Святым не был. А когда у другого была сильная беда, он не к попу шел – ко мне. И я тоже не к попу иду, а к народу. Я в народ верующий. Какой он ни есть, народ, но верить больше не в кого, как в его. Это и на бумагу ляжет. Ясно и понятно ляжет: верующий! Про себя я об этом могу хотя какую страшную клятву дать. Но и клятва ненужная здесь – заместо нее и пришел я сюда, на этот суд. А еще хочу спросить товарища главного над собою судью: он-то верующий в народ? Одной мы с им веры либо разной?
– Подсудимый Власихин! – поднялся Брусенков. – Здесь суд, а не церква! Мы не исповедь принимаем, а судим вас. По революционному закону и судим. За совершенное преступление.
Почти одновременно с Брусенковым поднялась Таисия Черненко – теперь она сама хотела задать вопрос подсудимому, она торопилась задать его, перебила Брусенкова:
– Скажите, подсудимый, вы читали книжки писателя графа Толстого?
– Разных я читывал. И когда в солдатах, и когда по чистой вышел. И графов Толстых читывал, и простых.
– Значит, вы принимаете философию графа Толстого? Так?
– Разве про то речь, барышня... Разве про то, доченька, нынче?
– Подсудимый! Народный суд, он – народный и революционный. Без барышень и без дочек. Учтите и обращайтесь к суду по закону! – снова сказал Брусенков строго, а подсудимый уже вел разговор с людьми на площади.
– Ты власть Советскую признаешь? – спрашивали его.
– Суд признал от новой власти. Которая – за Советскую. А как бы самую-то власть не признал?
– Боишься ее?
– Не боюсь. Я никакой власти не боюсь!
– Это как?
– А много я власти видывал. И цену знаю ей. Двадцать годов в солдатах, и каждый день, да и в ночь еще на нарах – она всегда с тобой рядом, власть. Каждый день давит тебя законом, а для себя закона не знает. Хотя бы установили навсегда: один закон для народу, другой – для власти. Вовсе бы для ее другой закон, вовсе легкий. Нет, власть и этак не хочет. Ей сроду никакого закона не надо! Не хочет она его!
– Ты это – про царскую или про Советскую?








