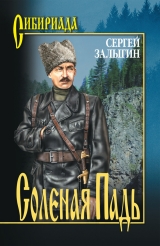
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Довгаль молчал.
И молчание это Брусенкова еще воодушевило, он еще сказал:
– Когда мы не сделаем революцию нынче, то мы ее, может, и никогда уже не сделаем. Потому что капиталист уже другого Колчака нам для такого случая не даст. Такого же зверя. Капиталист когда поймет, что от смерти ему близко, – он и своему пролетарию тоже подачку сделает – куском, рублем, какой-нибудь фальшивой свободой. Может, одну десятую от своего богатства уступит, может, того меньшую часть, он не прогадает, навеки пролетария успокоит, погасит в нем революцию. Потому Довгаль, товарищ мой, давай торопиться, делать ее, пока горячо, пока не остыло, пока мы сами на жертвы готовые на любые, а капитал всей опасности не осознал. Пока пролетарию и правда что нечего терять, как свои собственные цепи. Давай торопиться, ни пота, ни крови не жалеть. Иначе сказать: и вся та кровь, которая до сих пор народом была пролита, вся, до капли зря пропадет!
– Злой ты, Брусенков. Откуда ты? Кто тебя таким сделал?
– Не злой, а умный. Еще сказать: ученый. Сильно добренькие умными не бывают – запомни это.
– Нельзя так, Иван! Нельзя! Пусть нашей крови желает Колчак, пусть желают ее из разных стран легионеры – им деньги за это платят, и обещания дают, и обманывают их всячески. Так ты и злился бы на их, на их только! Но ты и на своих тоже кровавыми глазами глядишь!
– Тоже. И свои, может, не меньше виноватые, когда их мильонами угнетают. Ведь и надо-то всего – договориться на один день и час мильонам этим, один раз. Только заняться, попачкать о капиталиста руки – и все! Конец настанет капитализму, думать о нем забудут. Ну, если не могут сговориться на один день – пусть бы на один месяц решились, на один и даже – на два года! А то боится каждый, и каждый для себя так ли, иначе ли ловчит, а получается вместо единой революции позволяет себя отдельно от других в крови утоплять! Нет, и на своих глядя, радоваться тоже не приходится. Слишком ее мало, радости этой, в людях. Учение им нужно, и учение без пряника – вовсе другой мерой!
Довгаль подумал, провел рукой по лицу, вспоминая что-то. Вспомнил:
– Ты, Брусенков, при суде над Власихиным как говорил?
– Как?
– Говорил: не может быть, не должно быть такой власти, которая весь народ, и отцов, и детей гнала бы на гибель... И нету того народа, который такое над собой терпел бы безропотно! Говорил?
– То был митинг. Торжество. А нынче – уже рабочая обстановка...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Мещеряков осматривал оборонительные позиции. Сопровождали его командиры полков.
Сначала ехали бором, Мещеряков прикидывал, где тут в бору удобнее расположить полевой госпиталь, лабораторию для заправки стреляных гильз, армейский обоз. После выехали в поле.
Соленая Падь с целой стаей колодцев-журавлей, с зелеными крышами бывшей кузодеевской торговли, с редкими сизыми дымками оставалась позади и чуть справа. А вот впереди, сколько хватал глаз, велись оборонительные работы наверное, тысячи две народу копали основную линию окопов.
Через выпас шла линия, рассекала поскотину, шла пашней по стерне, местами – прямо по не убранному еще хлебу черным надрезом. По вспаханному осеннему же пару надрез этот был желтым, глинистым.
И всюду народ кипел, и падала, падала степная пашенная земля из окопов на брустверы, кидали ее мужики блестящими на солнце лопатами, а где так и бабы старались, и ребятишки.
Звон стоял над степью... Кто-то очищал в тот миг лопату о лопату, а еще кое-где сидели около небольших наковален мужики, те звенели безустанно отбивали притупившиеся на плотном грунте лопаты домашними молотками.
Шел звон от бора до Большого Увала, а вверх – едва ли не к самому солнцу, разгоняя в белесом небе редкие, пугливые облачка.
И голоса человечьи тоже звенели, и гудели, и вздрагивали, налетая друг на друга, и тоже заполняли собою все вокруг – и вдаль и ввысь.
"Шумит-то народишко..." – подумал Мещеряков.
На фронте не раз приходилось ему видеть, как роются окопы, и он сам саперный фельдфебель – тоже не раз и не один год рыл их, но никогда не примечал, что дело это такое звонкое.
А еще и по ту и по эту сторону линии обороны убирали нынче хлеб. Торопились. Погоняли коней, и лобогрейки быстро-быстро махали едва видимыми мотовилами, самосброски – крыльями, а на сенокосилках приспособленных под жнеи, – на тех как-то особенно ясно видны были мужики, по большей части в белых рубахах и без шапок. Они тоже без конца, словно мельницы-ветрянки, взмахивали граблями-укладками, клали хлеб в горсти. И стрекотали на лобогрейках, на самосбросках, на косилках ножи, и кони шагисто двигались по кромкам разбросанных там и здесь пшеничных, просяных, овсяных, гречишных полей. Пшеничные посевы – те особенно были похожи на крупные ломти хлеба, жнеи отрезали от ломтей совсем тонкие ломтики, поля суживались, а когда полоски несжатой пшеницы становились совсем узкими – в один-два захвата, кони сами по себе прибавляли шагу, валили пшеницу сперва на одну сторону, разворачивались, шли обратно, и скошенное начисто поле с сероватой стерней сразу будто прижималось к земле, кончалось на нем лето, ступала на него осень. Глубокая осень. Поблекшая, бесцветная.
Бабы в разноцветных сарафанах, в белых косынках и с подоткнутыми подолами домотканых юбок цепками двигались по ходу машин, сгибались и разгибались, сгибались и разгибались – вязали горсти в снопы. Снопы нынче не складывали в кучи, а тут же подбирали на двуконные подводы в высоченные возы.
Один за другим шли эти возы чем ближе к деревне, тем плотнее один к другому – чуть что не сплошным обозом, а из села на порожних, стоя в рост и гикая на коней петушиными голосами, мальчишки-возницы мчались в обгон друг друга, подымали по дорогам пыль и, только свернув на стерню, притормаживали, ехали мирно-чинно, боялись, верно, что за бешеную езду мужики и бабы станут на них ругаться.
Шло дело.
Тут, должно быть, не глядели, чья пашня, кто хозяин, – убирали артельно. Весело убирали. Будто не перед войной – перед престольным праздником торопились: хотели управиться и хорошо погулять.
Будто и окопов тут же рядом не рыли и поля освобождали не для кровавого боя.
А между прочим, когда снопы эти свезут в деревню, сложат, у кого прямо на ограде, у кого на огородах, и вся деревня покроется зародами, как грибами, а после того противник даст по дворам и постройкам первого же огонька – заполыхать может сильно. Куда как сильно! Нынешний колос и солома – богатые, сухие, горючие.
Еще смутила Мещерякова одна совсем ненужная линия окопов. Он спросил: а эту кто назначил? Кто выдумал? Совсем непутевую, боковую?
Ему ответили: это начальник главного штаба приезжал, товарищ Брусенков, инспектировал. Он и надумал.
Как будто товарищ Брусенков – лицо тоже военное, а не гражданское.
Повздыхал Мещеряков, в который раз уже подумал: "Партизанское ли это дело – оборона?"
А линия окопов на глазах все глубже врезалась в землю, уже обозначились ходы сообщения, пулеметные гнезда и выемки под капониры, ложные окопы Мещеряков тоже узнал, и кинжального действия, покуда еще не замаскированные. Война...
Еще раз оглядев местность в бинокль, Мещеряков спешился, бросил повод коноводу, велел тут и ждать его, пошел не торопясь, раздумчиво, а командиры полков тоже спешились и тоже двинулись за ним.
Держались не у самой линии окопов, а чуть поодаль, чтобы не мешать людям работать.
Мещеряков хотел, как только окопы будут выкопаны, провести учение прямо на местности – разыграть предстоящее сражение – и потому, объясняя командирам расположение и действия их полков то и дело повторял: "А я буду вашим противником и сделаю, к примеру, так..."
Народ, рывший окопы, на командиров – а на Мещерякова так особенно глазел, однако работу не бросал. Даже, наоборот, еще больше старался. Ни криками, ничем другим командирам их планы обдумывать не мешал.
И Мещеряков тоже с народом покуда не заговаривал, целиком был занят своим делом, а между тем успевал заметить, как и что делается, как работа огранизована.
Никем не назначенные старшие и мерщики, тут же громко выкликаемые по именам и фамилиям, отбивали для каждой артели участки, мерили землю деревянными саженками усердно, словно собственную пашню, или межи на покосе отбивали перед троицыным днем, они же сменяли людей, командуя одним отдохнуть, другим попроворнее орудовать лопатами. Старшие, которые были позапасливее других, те имели добрые охапки черенков, тут же и меняли на лопатах черенки изломанные и вообще негодные.
Слышно было, как нерасторопного какого-то старшего какая-то артель вмиг сменила – как тот никуда не годный черенок, – покричала и назначила нового. Новый старший оправил на себе рубаху и тут же велел окоп углубить, а бруствер подровнять. Правильно велел, так и надо было сделать.
Суматохи особой не было. Бабы только повизгивали кое-где в окопах – ну, это им и бог велел.
Еще объяснив командирам задачу, Мещеряков вытер платком пот со лба, провел двумя пальцами по усикам.
– Ну что, товарищи командиры? Понятная пока что задача? А теперь, я думаю, и с народом надобно перекурить. Это тоже – нехорошо все время врозь от массы держаться! – Повернулся и пошел к окопам.
Его тотчас густо народом окружили. А он любил густой народ, Мещеряков. От долгой солдатской службы, что ли, это у него было: там, в строю, всегда и справа и слева от тебя люди, и на ночевках плотненько лежишь, кому-то голову на брюхо положишь, а кто-то тебе – и каждый вроде на перине; перед кухней походной тоже не один толкаешься с котелком; а с семнадцатого года пошли на фронтах митинги, так писарь был у них полковой, иначе на митинги эти и не призывал, как только криком: "Набивайся, набивайся, ребята! Набились, что ли?" О вагонах и говорить не приходится – в вагонах кони да генералы ездят по счету, нижние же чины – сколько набьется и еще сверх того один комплект.
И весело обо всем этом подумав, заволновавшись перед началом разговора, Мещеряков вынул кисет, стал закуривать трубку. Спросил:
– Ну что мужики? И – женщины? Как решено-то вами: белых будем бить либо они нас?
Пестренький, сильно уже древний старикашка в стоптанных опорках, которые еще только один день и согласились потерпеть на тощих и кривоватых ногах, подался из круга, повторил вопрос Мещерякова слово в слово и сам же на него ответил:
– Значит, так приговорено было миром – колчаков до одного унистожить. Помолчал, спросил и дальше: – А главнокомандующий как на войну глядить? Ему как известно? – Поджал губы, стал часто-часто на Мещерякова мигать... Видно было – постирала жизнь старикашку. Постирала в щелоке, успела за годы.
– Наша и возьмет! – ответил старику Мещеряков. – Куда мы будем годные, что такой силой – и не возьмем? Зачем и жить на свете всем народом, всем вместе? Ежели в этом силы нет – тогда лучше разбегаться кому куда!
Но старик потоптался своими залатанными опорками и еще проговорил раздумчиво:
– Пушки у его, у белого... Пушки проклятые, и, сказывают, много-о! Почесал спину. – И каждая ноздря – снарядом заряженная!
А Мещеряков тут же спросил:
– Вам, отец в спину однажды картечью угадывало? Было дело?
– Было! – кивнул старик весело. – До того, слышишь, было – едва живой остался!
Все засмеялись кругом, и Мещеряков засмеялся тоже, но тут и осекся: вспомнил отца Николая Сидоровича, замученного беляками. И еще подумал: он не за-ради одного только смеха к людям подошел. Посмеяться можно, и даже очень это полезно. Однако – опасно. Запросто можно для начала зубоскалом прослыть. После и рад будешь серьезно с народом поговорить, но на тебя уже каждый будет несерьезно глядеть.
Он хорошо знал, Мещеряков, что ему предстоит, когда к народу подходил: его сильно узнавать сейчас будут, испытывать вопросами. Имеют на это полное право.
Уже заметил он и одного и другого, кто с нетерпением ждал, чтобы вопрос перед ним поставить. Старика, конечно, все должны были уважать, старика, пестро-рыжего, обтрепанного, никто не перебивал, но это только для начала...
Высокий тощий фронтовик стоял среди других, лопатку забросил на плечо, а цигарку незажженную уже всю губами изжевал, – тот солдатским понимающим глазом на главнокомандующего щурился.
И верно, он и задал вопрос.
– Может, мы зря с тобой, товарищ командующий, оружие-то на фронте бросили? – сказал он. – Довоевать бы уже нам с немцем, после – с собственным своим офицерьем? А то случилось, покуда мы на мировую революцию надеемся союзнички наши до конца сделают нам интервенцию, еще разожгут гражданскую войну, и тут уже не только от нас, дезертиров, ничего не останется – не останется и России, и даже мирного населения. Все истребится!
"Вот и возьми его, фронтовика, – подумал Мещеряков. – Какой оказался он птицей! Нет чтобы подумать: окопы же люди делают, готовятся к смертному бою, так неужели в такой момент и вот так о войне перед этими людьми говорить?! Его очень просто можно было пресечь. Сказать: "Оборонец, гад! На фронте мнение поди не высказывал, там тебе, оборонцу, быстренько бы просвещение сделали, а здесь, перед гражданским населением, задний ход даешь во всеуслышание? Не нашел лучше времени и обстановки?"
Но промолчал Мещеряков, не сказал так. Подумал, сказал по-другому:
– Оружие мы нынче подняли все – и военные, и вовсе гражданское население. А почему подняли? Смогли? Потому что мы его в свое время сами же обземь крепко бросили! Бросили, мирный исход всем и каждому предложили: германцу, собственной буржуазии, самим себе. Бросили – тем самым перед всем человечеством отвергли самую несправедливую бойню – и пошли домой к бабам, к ребятишкам своим, к пашне. Но только это наше самое справедливое действие не понравилось, кому-то поперек стало, что мы сами собою управились, за чужой интерес перестали воевать. Буржуазии это стало поперек, и она объявила об этом с оружием в руках, а что мы поняли всю ее хитроумность – так нас же обозвала предателями! Только не понимает тот громкогласный буржуй одного: который народ до своей собственной воле смог бросить оружие, тот уже сможет и обратно поднять его с земли и опять же – без офицерской команды, сам по себе и ради себя! Чтобы защитить себя и мировую справедливость! Тут – буря, от которой буржуазии спасенья нет и не будет! – И Мещеряков положил правую руку на кобуру револьвера, левой приподнял на голове папаху...
Фронтовик же задумался, другим, не сильно бойким взглядом на главкома посмотрел. Цигарку свою не жевал больше губами. Мещеряков вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и через головы ребятишек, стоявших в круге первым рядом, подал ему – длинному, тощему – огонек.
Ребятишки снизу вверх на главнокомандующего глядели молча, после кто-то из них спросил:
– А правда – нет: вас пуля не берет?
Все засмеялись, не засмеялся только Мещеряков, ответил серьезно:
– Шальная пуля – та действительно может в меня попасть. А прицельная ни в жизнь!
– Это как? – уже кто-то взрослый спросил.
– Подумай головой – как? – сказал Мещеряков, а еще кто-то подал голос:
– А если – кишка тонкая головой-то думать?
– Да просто же, – засмеялся Мещеряков, – покуда враг в меня целится, пуля тоже подумает, как меня кругом обойти! – И показал рукой, как пуля обходит его кругом, щелкает прямо в сопливый нос какого-то парнишки.
Смеялись все, и Мещеряков тоже смеялся. Его снова спросили:
– Без шуток, как управляться-то нынче будем с беляками?
– Без шуток так: наши подвижные части сейчас наносят белым колоннам потери на марше. И дальше будут наносить. И к Соленой Пади, вот к этой нашей оборонительной линии, противник подойдет сильно потрепанный. Но этого мало, в основном мы его из силы вытряхнем своей обороной. По всей видимости, запросит он поддержки из резервов. У самого верховного и запросит. А мы в тот момент и перейдем в решительное контрнаступление, и уничтожим его по частям: сначала главные силы под Соленой Падью, после – резервы на марше. Как раз и российская Красная Армия будет где-то поблизости, и Советская власть. Недолго останется до полного соединения.
Кто-то удивился и нараспев сказал:
– При всем народе и военные действия объяснять! Это же глубокая тайна!
– Ну, противник поди не дурак, чтобы этакую тайну не угадать, – ответил Мещеряков. Подумал и еще сказал: – А кроме того, я надеюсь, среди нас предателей нету. Надеюсь крепко.
– А так бывает – чтобы без предателев? Чтобы на множество людей – и ни одного бы не нашлось?
– Бывает... Это я точно знаю. – И Мещеряков не торопясь стал рассказывать случай. Из его собственной жизни был случай. – Действительную служил я на Дальнем Востоке. Вышел как-то из расположения по увольнительной, ну, и сильно выпил. После вернулся в казармы, а дневальные, свои ребята, от начальства укрыли, тепленького меня тихо провели, на нары уложили спать. Но – не спится мне. Что-то сделать бы еще? И надумал: встал босой, в дежурку прокрался. Шашка там висела на стене, в дежурном помещении, темляк сильно красивый, как сейчас помню, а еще висел там портрет его величества государя-императора. И снял я ту шашку с красивым темляком, вынул из ножен и портрет – раз, два! – порубил вдоль и поперек!
Мужики в кругу ахнули, молодежь – та повытаращивала глаза молча – не знала, что солдату за такую проделку бывает. А Мещеряков развел руками и плечами пожал.
– И что я в ту пору на его величество осерчал – не помню, хоть убей! Но только – сделал. И ловко так сделал, довольный остался. Ушел обратно на свое место и уснул. Хорошо уснул... Вдруг тревога, подъем. Ну, я солдат был уже не первого года службы, хотя и после выпивки, а вскочил, оделся проворно. Построились мы всей ротой, я во втором взводе стоял и во втором же отделении. Тут выносит ротный командир портрет изрубленный, показывает всему строю и пальчиками бумажки поддерживает, чтобы не распались они окончательно. Спрашивает: "Кто сделал – три шага вперед!" Молчат все. Он опять: "Кто сделал – три шага вперед!" И даже сам ножками три шага на месте отбил. Молчит рота. "Не признаетесь – замучаю всю казарму нарядами. Всех лишу увольнительных! Во всем городе и все сортиры дочиста выпростаете! Замучаю нарядами, как перед богом – замучаю!" Обратно три шага собственными ножками показывает... Ну что делать – моя работа. Выходить надо из строя, когда из-за твоей личности на всех такая участь! Я ремень на себе подтянул и гимнастерку заправил, прежде как выйти, сделать три шага, а справа и слева от меня товарищи стояли и еще позади – те шепчут: "Стой, дурень, стой, не шевелись!" Я и остался в строю. И что же вы думаете? Сколь роту нашу по нарядам ни гоняли, гоняли безжалостно, и не один месяц, и все знали, кто сделал, но ни одного не нашлось человека доказать начальству! Ни одного!.. А когда так – кто тут спрашивал, бывает без предателей или не бывает? Я думаю, ответ понятный! Особенно когда учесть, что случай этот произошел еще в темное дореволюционное время!
Мещеряков сделал шаг, круг перед ним потеснился, он еще и еще шагнул. Командиры полков – за ним. Снова пошли вдоль свежей линии окопов, вдоль тысячной цепочки людей.
Командиры слушали главкома, главком – командиров. И чутко слушал, изучал на ходу. По особой причине изучал: хотел выбрать командиров дивизий.
Дивизий в партизанской армии до сих пор не существовало, а они были необходимы.
Если на самом деле, а не просто в мечтах армия сможет перейти в наступление на север, на запад от Соленой Пади, – на этот счастливый случай нужно свести полки в самостоятельные группы, каждая – под командованием одного командира.
И смотрел, смотрел Мещеряков: кого из полковых командиров выдвинуть нынче же на дивизии? С кем из них в самый первый раз можно вместе подумать, посоветоваться о своих планах и замыслах? Кто из них будет ему нынче первым другом, первым боевым товарищем, правой его рукой?
И он все выбирал комдива номер один и никак не мог на кого-нибудь окончательно глаз положить.
Но тут случилось одно обстоятельство. Неожиданно случилось.
Мещеряков со своими командирами двигался вдоль окопов накатанной дорогой, а вот чуть дальше в моряшихинскую сторону был проселок, из бора выходил – там вдруг появились верховые.
Кто, откуда – сперва было непонятно, потом Ефрем заметил, что хотя едут верховые не быстро, но весело как-то, бодро, а еще спустя время он узнал в переднем верховом Гришку Лыткина, и все ему стало ясно, и даже испарина его прошибла...
Нынче утром, чуть свет, Мещеряков послал Гришку навстречу Семену Карнаухину, вернее сказать – навстречу Доре. Через свою недавно налаженную, но уже достаточно надежную армейскую связь было известно, что Дора благополучно отсиделась в стогу и под охраной карнаухинских эскадронцев нынче должна достигнуть Соленой Пади.
Гришке и наказано было – встретить Дору в бору, эскадронцев Карнаухина отпустить, а самому тихо-мирно, незаметно для лишних глаз, бором же сопроводить Дору в село, в избу Никифора Звягинцева.
А Гришка, мерзавец, что сделал? Карнаухина с эскадронцами не отпустил и окольной дорогой бабу не повез, а двинулся всем отрядом прямо на позиции, прямо на Мещерякова! Решил удружить.
Только что не с обнаженными шашками по открытому полю двигался объединенный лыткинско-карнаухинский отряд, а тысяча людей на него из окопов, с жатвы, отовсюду глядела и дивилась...
Ефрем остановился, сказал командирам будто между прочим:
– Ведь это, однако, баба моя следует с ребятишками! Однако она! Постарался и даже весело это сказал. Стал ждать, когда улыбчивый Гришка, и вовсе смущенный Карнаухин с эскадронцами, и сама Дора в конфискованном кузодеевском рессорном тарантасе приблизятся к нему.
Закинул руки за спину и встал, первый взгляд Доры хотел своим взглядом перехватить, чтобы она сразу же все поняла.
Гришкина улыбка едва ли не весь отряд заслоняла – ехал Гришка намного впереди других, шапка набекрень, на боку – настоящий кольт, хотя и без патронов, но настоящий, – ухитрился, стервец, снять оружие с убитого польского легионера еще под Верстовом. Конь под ним блестит, сам Гришка тоже... Уже следом, вторым эшелоном, ехал всегда молчаливый, застенчивый Сема Карнаухин со своими эскадронцами.
А уже сама Дора – та была позади всех...
Сперва Ефрем косынку заметил, под изгибом тонкой узорчатой дуги чубатого коренника – лиловые на розовом поле цветочки.
До чего они выцвели, до чего поблекли цветочки, если Ефрем не сразу их узнал!
Розовенькое личико младенца мелькнуло на миг, и белесая Петрунькина головенка, но ее заслонила крупная фигура верхового эскадронца, потом снова, но теперь уже сбоку от дуги, показалась Дорина косынка и лицо под нею. Какое там лицо – глаза одни, и ничего больше!
А когда Дора наконец вся стала видна через головы лошадей – Ефрем поглядел на нее строго, все, что нужно было взглядом сказать, сказал.
Она поняла.
Есть ли бог, нет ли его – точно неизвестно, но если все ж таки бог существует, то бабой он Ефрема не обидел: ни единого лишнего слова Дора не обронила, из тарантаса встречу ему не кинулась.
Петрунька, тот, верно, к отцу подбежал, но парнишку отец мог и по головенке потрепать, так нужно было – не чужую семью он встретил, раз уж встреча произошла.
Дора двинулась в деревню, Ефрем с командирами – дальше, вдоль позиций.
Отлегла нежданная тревога. Только отлегла, как поблизости крупного березового колка Мещеряков приметил какую-то особую обстановку: шалаши там стояли аккуратно в один ряд, ровная линия окопов была выкопана, и, видать, уже выкопана довольно давно – земля на бруствере успела подсохнуть, была неяркой, серой. Стали ближе подходить – что такое? что за предметы? А это чучела были. Форменные чучела, из хвороста сплетенные и в деревянные бруски вставленные. Как на военном настоящем плацу, по которому солдаты первого года службы с утра до ночи бегают с криком "ур-ра", с винтовками наперевес и колют для практики чучела примыкаемыми четырехгранными штыками образца 1893 года.
В колке была расчищена линейка, как положено в лагерях, – аршина на три шириною, а длиной так сажен, верно, на пятьдесят; водном месте линейка была даже присыпана желтым песочком, и здесь Мещерякова и всю группу командного состава встретил дежурный по части.
Отрапортовал:
– Товарищ главнокомандующий! Товарищи прочие командиры доблестной партизанской красной народной армии! В расположении полка красных соколов весь личный состав в наличности, а происшествиев нету! Дежурный по полку Галкин!
К Мещерякову все его командиры разом обернулись – ждали, как он в данном случае поступит. Кто-то не выдержал, высказался даже раньше главкома:
– От это порядочек! Как в той, в царской, в кулачной армии! Очень просто перепутать можно и заместо белого офицера красного партизанского командира стрелить!
Мещеряков на нетерпеливого глянул, ничего ему не сказал, дежурному, товарищу Галкину, подал команду: "Вольно!" Обратился к своим сопровождающим:
– Кто тут из вас соколами этими командует? Ты, однако?
– Я! – ответил один из командиров. – Я – командир полка красных соколов Петрович!
– Кто-кто? – не понял Мещеряков. – Фамилию у тебя спрашивают, а ты по-деревенски отчество свое называешь!
– Такая фамилия – Петрович!
– По имени?
– По имени – Павел.
– Получается – Павел Петрович! И ничего тебе более не надо, даже отца родного?
– Шутка природы, товарищ главнокомандующий! – ответил Петрович. – По расположению полка проследуем?
– Проследуем.
– От это пор-рядочек! – опять сказал нетерпеливый командир. Это был комполка двадцать четыре. – Погоны у их тут, у соколов, не навешаны ли на плечи? Глянуть бы! Давно уже не видел, с осени семнадцатого года!
– А вот возьмешь белых офицеров в плен – и погляди погоны! – ответил командир красных соколов. – Погляди, если соскучился. – Зашагал рядом с Мещеряковым, поясняя на ходу: – У нас полк сводный – рабочая прослойка из города, точнее – шахтеры с Васильевских рудников, из местных жителей небольшая часть, две интернациональные роты мадьяр, один взвод сознательных чехов – перебежчиков на нашу сторону, больше взвода латышей. Латыши частью местные, а еще пришли из России для защиты первой Советской власти от белых, эсеровских и прочих войск еще доколчаковского периода. Еще при нашем полку действуют постоянные курсы командного состава – один выпуск уже произвели, около ста человек подготовили в течение полутора месяцев. Нынче снова готовим контингент самых благонадежных и политически развитых. Сами понимаете: при такой пестроте и при таких задачах без особой дисциплины нам невозможно. Без нее наше существование как воинской и революционной единицы попросту может быть поставлено под вопрос.
– Не торопись! – проговорил Мещеряков. – Я все твои объяснения должен взять в память!
Подошли к расположению интернациональных рот, и на ломаном русском языке, но четко и по всей форме им снова рапортовал молоденький чернявый мадьяр, а роты, построенные чуть поодаль, приветствовали их громким "ур-ра".
Строгие были все ребята и "ура" кричали серьезно, строго.
"Ты гляди-гляди, Ефрем, какая у тебя армия! – думал про себя Мещеряков. – Сколько в ней народов!"
И латыши тоже крикнули, немного их было, а крикнули хорошо.
А Петрович все показывал и объяснял. Показал полковую кухню, санитарный пункт, цейхгауз, вкопанный в землю и с маленькой избушкой для писаря, в которой писарь вел строгий учет полковому имуществу, каждый божий день подавал рапортички о наличии этого имущества самому командиру полка. Смотрел учебные снаряды, поделанные из свежих березовых бревен, и учебную пушку с разбитым стволом.
Смотрел Мещеряков и на самого Петровича – кто такой? Действительно, самой природой созданный командир дивизии? Царский недобитый офицер? Ходит быстро, четко, хотя и не совсем военным шагом, говорит негромко, но за свои слова не боится. В очках. Ростом заметно пониже Мещерякова, не белый и не рыжий, чуть с проседью, но такие не седеют и в шестьдесят.
– Ну, а скажи ты мне, шутка природы, товарищ Петрович, сильно строгий порядок – тоже ведь плохо? – не то насмешливо, не то серьезно спросил Мещеряков, чувствуя, как слова эти задевают всех командиров.
– Почему? Как это ты понимаешь собственный вопрос, товарищ главнокомандующий? – не ответил, а тоже спросил Петрович, сощурившись, строгими глазками. – Почему?
– Радости нету, и не в крови он у нас, у русских, сильно строгий порядок. Особенно нынче. За свободу воюем, а для самих же себя свободы явная недостача! Скучной и вшивой войной мы сыты уже вот так! Она хуже каторги! Повоюем теперь от собственного сердца, весело и лихо. Без колючей проволоки, без генералов, без солдатской суточной пайки. Давно уже пора народу таким образом за себя самого повоевать. И еще учти – революция все ж таки по порядку не происходит. Ее в дисциплину не загонишь, нет! Распиши всю революцию по диспозициям, составь ей строгий план, сроки назначь, когда и что должно случиться, – от ее ничего не останется. А впрочем, – сказал Мещеряков, – давай глядеть на практике. На чем же ты дисциплину красных соколов строишь?
– На сознательности.
– Сознательность – на чем?
– На знаниях. На знании каждым солдатом общей цели и задачи. Чтобы от нее он воодушевлялся, чтобы именно от нее он воевал и гордо, и весело, и лихо. – И Петрович весело, громко засмеялся.
– Ну вот, к примеру, я и есть тот самый каждый солдат. Как ты мне будешь всеобщую цель и задачу объяснять? А вместе с тем собственную мою дисциплину?
Комполка двадцать четыре хихикнул. Глянул на Петровича, тоже спросил вслед за Мещеряковым:
– Ну, ну? Вот именно!
Петрович прибавил шагу и сказал:
– Выдумывать не будем. Будем знакомиться в подробностях. Как поставлено, как делаются первые шаги. У нас для этого составлена инструкция. Так и называется: "Инструкция по духовному воспитанию солдат". Она не только составлена, но и тщательно изучается.
Стали знакомиться...
На небольшой полянке сидел, по-татарски поджав под себя ноги, целый взвод солдат, красных соколов.
Один, стоя во весь рост, читал по бумажке, а все его слушали. Потом вызывались охотники повторить прочитанное.
– "Наша цель, – прочитывал старший со всем старанием, – свобода, братство, равенство. Поэтому каждый солдат должен быть сознательным, вежливым, корректным как по отношению своих товарищей, так и гражданского населения. Любовь к людям, сострадание и помощь беззащитным должны проглядывать в каждом действии солдата".
Повторили пункт в один голос, старший объяснил, что слово "корректный" вовсе не отличается от другого слова – "вежливый", потом спросил: кто теперь без подсказки, а вполне самостоятельно может пункт еще разъяснить? Охотников оказалось множество, и старший дал слово одному, который громче других кричал, что все запомнил и понял.








