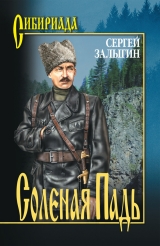
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Советскую не успел углядеть, коротко она была у нас. Однако народ за ее с надеждой. А я – за народ.
– А может, это – чтобы народ был и чтобы он же был власть?
– Товарищи! – крикнул Брусенков и еще громче крикнул: – То-ва-рищи! Этого же нельзя забывать, что у нас здесь суд! Мы текущий момент с подсудимым обсуждаем, либо как? Мы до какого времени будем тут заниматься? Может, покуда беляки нас всех не переколют?! Военное же время! Призываю к порядку! Тише!
И он застучал кулаком о стол, а на крыльцо взобрался однорукий Толя Стрельников, командир ополчения Соленой Пади. Он всегда был своевольным, Толя Стрельников, всегда любил на народе пошуметь, а когда вернулся с фронта с культей на месте левой руки, то уже и в самом деле умел призывать, речи говорить. Его слушали и, культяпого, выбрали командиром ополчения, а когда выбирали сельского комиссара, то он совсем немногим меньше получил голосов, чем Лука Довгаль.
Взобравшись на крыльцо к самому столу, за которым сидели члены суда, Толя взмахнул единственной рукой и, заглушая поднявшийся шум, прокричал Брусенкову:
– Ты, председатель, на народ по столу не стукай! Народ сюда прибыл не для того, чтобы ты – раз! два! три! – до трех сосчитал, а все бы глазами только сморгнули! Не фокус в балагане пришли глядеть – человека судить. Якова Власихина, вот кого! Должон я знать человека до конца, когда я сужу его, или не должон? Может, мы его стрелим, а мыслей его уж не узнаем сроду! Что касается ополчения – оно выставленное на всех дорогах, и это уже не твоя забота! Ты хотя и власть, но чисто гражданская, а за караулы отвечаю ныне я!
– Дисциплину под себя подминаешь, Толя, вот я о чем! – миролюбиво, даже как-то ласково объяснил Брусенков Стрельникову. – Ты пойми!
– А заместо дисциплины личный анархизм тоже не вводи! Мозги у каждого собственные, а ты, когда засомневался в вопросе, ставь на голосование, не только на себя и надейся! Это когда нас пятеро или четверо, а тут же народ!
– Ну, не перебивай, товарищ Стрельников, еще предупреждаю! В правилах для Освобожденной территории – иначе сказать, для нашей республики – ясно записано: собрания проводить правильно, ораторам выступать по одному. А ты самого председателя перебиваешь!
– А я тебя не перебиваю. Я – укорачиваю!
– Командир – должон бы порядок понимать. У кого еще вопрос?
Толя Стрельников не уступал:
– Он и есть все тот же вопрос: может ли быть народ сам над собою властью? Отвечай, Власихин!
– Это правильный идет суд! – поддержал Толю Стрельникова Власихин. Глядит до края – кто на подсудимой скамейке, какой человек? Не с одной стороны его обглядывают. Пущай меня допросят, а дойдет – я ответить не смогу, для людей слов у меня нет, я и об этом, не скрываясь, скажу. Когда же меня народом допрашивают, я и высказываться должон тоже до конца. И я скажу: испытывались уже многие народы, на этом испытывались, чтобы самим собою управляться, но по сю пору ни у кого добром не кончалось. Не было такого случая!
– А нынче – может случиться?
– Нынче – может...
– Почему так?
– От большой беды уходим. И да-алеко от нее должны уйти, чтобы она к нам вновь и еще сильнее не пристала! Все должны наново переменить, всю свою жизнь. Сможем ли? Одно знаю – другого исхода нынче нет!
– Гляди, Власихин-то за пророка робит!
– А ты слушай знай. Слушай, не гавкай!
Власихин и здесь понял, что на площади говорится, откликнулся:
– Какие нынче пророки? Их вот делали-делали для народу, святых-то, а они взяли да против народу же и пошли!
– Ни святых, ни власти – мужицкий бунт до края! Так, что ли?
– Не так! Народ бунтует – а почему? Не против власти вовсе, а ищет власть, чтобы к ней прислониться. Он спит и видит власть, чтобы она от справедливости происходила и сама для себя закон блюла... Ведь как мы сами с собою управимся? Как в самих себя верить будем, долго ли? В себя и ни в кого больше верить – отчаянность страшная! Покуда не погрешил, не обидел, как младенец свят – это просто. Они потому, младенцы-то, ни бога, ни власти не знают, что сами святы. А вот в себя в несправедливого верить, беззаконием закон устанавливать – это как? Своим собственным умом каждый час, каждый день, и ничьим больше?
– Мужики! Народ! Он – контра или кто?
Вскочил с места Лука Довгаль Станционный и, не обращая внимания на председателя, прокричал:
– Скажи, подсудимый, а рабочего ты признаешь? Есть для тебя святой лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" – или нет? Не существует он для тебя?
– Для меня нету его.
– Тогда объясни, почему нету?
– А что городской тот рабочий? Не хозяин он на земле. Он – как тот сапожник: настоящему пахарю сапоги изладить, и все! Что ему прикажут, то и сработает. Работает, а работы не видит. Сделал гайку, куда она пошла, зачем и кому – у его капли заботы нету, хотя ты выкинь ее в отхожее место – абы уплачено было. Он какую хошь вредность фабричную сделает – отраву, газов, чтобы людей на фронте, ровно мышев, травить – ему все одно. Лишь бы жалованье шло. У меня труд – он не выдуманный, он с человеком вместе рожденный. Ты не плати мне вовсе, я все одно буду сеять, хотя бы для себя, когда не для продажи. Это – труд сущий. Труд, а не нанятая работа! А у него какой это труд? Служба, а не труд! Он свободу от капиталиста провозглашает, кричит, будто свободу несет! Какую свободу? А кто его, капиталиста, произвел? Крестьянин или кто? Он же, рабочий, его и произвел своей службой, вовсе не я, мужик! Это не от меня, от его пошло, что все продается и покупается – все! Он – нужон, рабочий. Без его нельзя. Понятно. Но почто его надо плодить по земле без конца и краю?
– Вот здесь ты провозглашаешь гибель народу, – снова заговорил Довгаль, – когда хочешь мужика от рабочего отколоть. Товарищи, я это особо говорю, чтобы все слыхали: высказался до самого конца подсудимый! У народа один варвар – Колчак, а кто против рабочего либо против крестьянина – тот враг обоим! Нельзя представить, сколько нынче рабочий приносит неисчислимых жертв, когда борется с Колчаком на железной дороге и в мастерских, а у нашего подсудимого такие слова на уме! Позор и несчастье, когда мы поверим ему! В этих его словах – полный конец мировой революции заложен! Он ее, мировую, убить хочет, когда она – еще младенец! Предать и убить, как тот иуда! Товарищи! Пролетарию – ему держаться больше не за что, только за правду и справедливость! У него нет другой приверженности, у него голова не затуманена личной собственностью и даже – собственной личностью. В нем, в каждом, – сердца мильонов, и мысль мильонов живет и трепещет! Он не так себя слышит, сколь голос масс, и надежду масс, и веру в великое будущее слышит он в каждую минуту! Забота у него не о себе – о трудящемся народе, сколько есть его на свете! Или пролетарий не сознает, что без мужика – ни государства, ни народу нету? Или забыл, что вся страна от мужика пошла? Или позволит когда мужику погибнуть? Ничего такого не будет сроду и не может быть, потому что это для самого же пролетария – гибель и для всех людей – гибель! Почему же тогда мужик Яков Власихин, наш подсудимый, замахивается на пролетария?
Небольшое аккуратное лицо Довгаля покраснело, голос у него дрожал, он вышел из-за стола и наступал на Власихина, и Власихин как будто только сейчас понял, что его судят, и отступил вдруг, оторопел. Довгаль же произнес уже тише и спокойнее:
– Когда пролетарии всех стран не то что личное, а всяческое различие между собою ликвидируют и, будь то татарин либо француз, все нации соединятся в одно пролетарское целое – это какая же получится сила? И какая правда? И какая настоящая жизнь пойдет вместо нонешней подделки? Вот к чему Власихин глухой оказался – к правде всех правд к справедливости всех справедливостей! Вот почему он и сынов своих спрятал от священного долга мировой революции, навсегда опозорил их! Мы не только что от себя – от имени его детей его судим! И нам власихинская справедливость не нужна – нужна своя собственная! Ясно и понятно!
– Товарищ Довгаль, высказался? До конца? – спросил Брусенков.
– До конца!
– Какую же ты после всего предлагаешь меру подсудимому?
– Народ скажет какую... – проговорил Довгаль. – Скажет ясно и понятно...
– А меру надо было тебе высказать, Лука! – сказал Брусенков Довгалю, когда тот сел за стол. – Говорил ты ладно, но не до конца. Он ведь крепкий, Власихин. Ты, может, и не знаешь, какой он крепкий! Его сперва надо отделить от его же слов, от всяких воззваний, как овечку от стада. После уж, когда он один останется...
И Брусенков поднялся и громко повторил то, на чем кончил Довгаль:
– Ясно и понятно! – повторил он. Замолк на минуту.
– Он-то непонятный, Власихин сам... – сказали на площади.
На этот голос тотчас отозвался другой:
– Стрелить его – враз понятный сделается!
Брусенков подтянул рубаху, поясок на поджаром своем туловище, поднял руку. Откашлялся.
– Товарищи! Правильно было сказано – уже понятно все. Но как обвинительная речь поручена мне...
Огибая дом главного штаба, появился верховой с берданкой за плечами. В нем тотчас узнали дозорного со Знаменской дороги.
Дозорный спешился перед крыльцом, бросив повод на шею невзрачного пегого мерина, и, припадая на одну ногу, приблизился к Брусенкову. Должно быть, эта неровная походка пожилого, не совсем здорового человека и торопливость, с которой он двигался, весь его значительный вид тотчас объяснили, зачем он прискакал, почему спешит.
Он не сказал ни слова, а на площади уже закричали:
– Мещеряков прибыл!
– Главнокомандующий!
– С армией, или как?
– Так точно, Мещеряков, товарищ главнокомандующий прибыли! отрапортовал дозорный на всю площадь.
– Видел его? Сам? – спросил Брусенков.
– Как тебя вижу! Стал на Увале... Оглядывает местность и коням дает отдых. Сейчас квартерный его будет, после, ввечеру, прибудут сами.
– С армией? Или с отрядом только?
– Может, и не с армией. Но – много их. Вершние все. Вооруженные сильно!
– Тогда беги назад, встречай квартирмейстера его! Быстро чтобы!
Дозорный отдал честь, не очень ловко вскарабкался на меринка...
– Судить будем? Или Мещерякова кинемся встречать? Аж на Увал? спросили с площади, но вопрос уже запоздал.
– Ур-ра Мещерякову!
– Ур-ра товарищу!
– Дождались Ефрема! Дождались ведь! – кричали на площади, и толпа таяла, устремившись в переулок в направлении Знаменской дороги.
– Товарищи! Граждане! – крикнул Брусенков, размахивая картузом. – Будем приветствовать товарища Мещерякова своей дисциплиной, то есть закончим наш суд! Поймите все – суд должон идти и дальше, как до сих пор он шел!
– Мешкать-то к чему? Старики! Куда подевались?! Бегите по избам за хлебом-солью!
А Брусенков тоже кричал все громче и громче:
– Пусть которые пойдут приготовятся к встрече! Но масса-то, товарищи, масса-то – она же здесь должна завершить свое дело!
– Корову, старики, может, обуем, да и выведем ее встречь на Знаменскую дорогу?
– А это кто гудёт? Какая контра?
Власихин тоже крикнул "ура", но крик его обернулся на шепот... Он подался было с крыльца – маленький конвоир преградил ему дорогу. Заслоненный фигуркой конвоира чуть выше пояса, Власихин вытирал на лице пот и улыбался странной, растерянной улыбкой.
В одно мгновение он оказался забытым и толпой и судом и как будто сам о себе забыл что-то – хотел и не мог вспомнить... Поглядел на Довгаля – тот, не успев еще остыть от своей суровой речи, уже чему-то смеялся.
И только один человек о Власихине не забыл. Брусенков не забыл о нем.
Он и конвоиру дал знак, чтобы удержал Власихина на крыльце, и во что бы то ни стало снова хотел сделать из толпы суд.
– Товарищи! Граждане! Какой может быть революционный порядок, когда мы ровно дикие сделались? – спрашивал он с надрывом. – Поглядите на себя, товарищи, ведь вы же – суд!
– Товарищи! Граждане! Главный революционный штаб Освобожденной территории призывает вас... Или мы уже всякую сознательность потеряли перед лицом собственного подсудимого врага?
Все гудело кругом.
Брусенков постоял молча, потом обогнул стол, за которым не оставалось уже ни одного члена суда, и сел. Не очень громко сказал:
– Суд над врагом народа Власихиным Яковом продолжается. – А когда стало чуть тише, повторил снова и громче: – Суд продолжается! И еще предупреждаю: как суд совершит свой приговор, хотя бы каким числом голосов, так он здесь же, не сходя с этого места, исполнит его... Ввиду военного времени.
– Здесь? На площади?! – переспросили Брусенкова.
– Здесь и будет... – подтвердил он. Одернул на себе рубаху, подтянул поясок, потом поднял руку. – Много уже говорилось, говорилось морально, а я напомню белую артиллерию и спрошу: кто ее нынче не слышал? Все слышали, и никто не может тот грохот забыть. И когда мне была поручена судом обвинительная речь, то я обязан сказать... Сказать, что и как происходит, потому что нету нынче в жизни момента, чтобы мы проходили бессознательно... И вот я спрошу: когда верховный Колчак погнал наших детей под ружье – что мы, старослуживые, сказали ему? Мы сказали: сами пойдем и не в первый уже раз бросим семьи на произвол, но детей не отдадим! Война, пусть она и страшная, все ж таки война, пока солдаты с солдатами воюют. Когда же, мало того, дети идут на убой – это гибель народу, и сердце человеческое не может стерпеть, когда знает, что его муки еще и детям перейдут! И нету такой власти – это уже не власть, а одно злодеяние, – которая бы и отцов и детей гнала бы на гибель, и нету того народа – это уже не народ, а рабы сплошь, который бы такую власть над собой терпел! Вот что мы сказали Колчаку, но его верховного ума не хватило народ понять, а хватило призвать таких же, как сам он, иностранных тиранов, которые только и знают кричать, что они спасают русский народ, не глядя, что народ не чает, как бы спасителей этих заколотить навеки в гроб... Ну, а после того? После я сам сделал над собой, что никакая власть сделать была не в силах, – послал сыновей воевать. Объяснил: может, Колчак в нашей Соленой Пади двадцать только молодых рекрутов и взял бы, остальные бы дома остались, а сами мы своею рукою ребятишек голопузых и тех в караулы посылаем. Колчак в Знаменской шесть дворов пожег, девять человек зарубил, а мы поднялись воевать, – может, и Знаменская и Соленая Падь до последней избы очень просто сгорят... Как же получилось? Как могло произойти? А так произошло, что по-другому народ нынче уже не может, ибо перешагнули через его терпение! И я не скотина, чтобы мимо такого же, как я сам, на казнь вели мужика, а мне бы забота – травку щипать! Может, в другом государстве терпения этого больше – мой час настал! Другого исходу нету, как навсегда, любыми жертвами, избавиться от дикого тиранства, не ждать больше, когда из тебя то ли каплю по капле, то ли за один раз всю кровь прольют, из всех стран кровопийцам в окончательное растерзание тебя отдадут! Вот как я и любой другой на моем месте объяснил сынам, а которые молодежь, так и сами по себе еще лучше отцов и дедов все поняли!.. Это общее, а нынче я перехожу к подсудимому...
Быстро-быстро Брусенков скользнул взглядом по фигуре подсудимого, заметил, что он растерян... Растерян, и началось это у него с речи Довгаля Станционного, продолжилось, когда толпа осталась судить его, далеко не вся кинувшись навстречу мещеряковскому отряду, а сейчас Власихин ждал решительного удара... Сосредоточенно ждал, вникая в каждое слово обвинительной речи, догадываясь о том, куда эта речь ведется, чем кончится.
Власихина никак нельзя было взять да засудить, вынести ему приговор его надо было прежде сломить, чтобы он, если уж с приговором не согласится, так не смог бы ему и противостоять, не смог бы пойти на смерть с убеждением, будто прав он, а не судьи его. Еще задолго до суда Брусенков знал, какая предстоит ему задача – сломить апостола этого на глазах у народа. Знал и надеялся не только на себя, но и на Власихина, что тот, не найдя слов оправдания, не скроет этого перед людьми, не сможет, не сумеет скрыть.
И вот чувство растерянности Брусенков уловил наконец на лице подсудимого, заметил, как тот провел рукой по кудлатой своей голове.
И еще заметил, что по переулкам кое-кто из народа стал возвращаться обратно на площадь...
– Перехожу нынче к подсудимому, – снова повторил Брусенков. – Товарищи! Мужика каждый обманывал. Поп сколь меня обманывал, и царь, и Колчак, и всякая мелюзга обманула меня прошлый год весной, я и позволил той мелюзге Советскую власть спихнуть. Но больше всего обида мне – когда меня свой же, только шибко умный мужик обманет. И не Кузодеев-мироед – с того что и взять, тот всем и каждому известный, – а мужик, которому я верить привык, как честному. Тот мужик благодаря своего ума должон бы сказать в свое время совет: ты, Иван, либо ты, Марья, детей на царскую войну не отдавай, хорони как можешь, в урман куда увези. Глядишь, кто бы и сделал в то время, понял бы, что война – она глупая, кровопролитная и ничего человеческого в ей нет. Кержаки, староверы, не отдавали же детей в службу! Не чужие их научили, свои, истинно свои люди. Но нашего, сказать, умницу призыв в ту пору не касался, его детки малые еще были. Вот он и молчал... Он и прошлый год, такой умный, не говорил нам Советскую власть спасать и беречь. Которые и поменее грамотные, и поменее у них было ума – говорили. Не боялись, что мужики им не поверят, а временщики всякие расстреляют. А ведь ему умному-то – как раз и поверили бы, как раз и не стрелил бы его никто: он же в апостолах средь народу ходил! Мы за это не судим. Не имеем правов. Когда добьемся – закон сделаем совестью, а совесть законом, – тогда и за умолчание правды суд тоже будет. Недолго уже ждать осталось. Вовсе недолго. А покамест все одно получается вывод: народ нашему подсудимому нужон, чтобы быть среди его первым и почетным, но с народом беду делить – на это его нету! Когда народ потребовал службы и жизни – то он пошел и обманул. А когда так мошенник он и вор нашей действительной свободы. Вот он кто!
И снова Брусенков бросил взгляд на Власихина и теперь уже уверился: погиб Власихин. Конец ему...
Но речь кончить Брусенков еще не хотел. Покуда стоит рядом подсудимый, вытирает пот с лица и глядит куда-то далеко, а на самом деле никуда не глядит, ничего не видит, потому что повержен он, – в это время и объяснить и втолковать людям мысли самые главные, на которых все держится и держаться будет, за которыми встает уже победа правого дела!
И снова спросил Брусенков:
– Мы за что боремся? Боремся за свободу, равенство и братство. И мы уже на сегодняшний день имеем великую победу – равенство мы имеем! У меня стеснения нет про себя сказать, про товарища Довгаля либо про командира Стрельникова: мы власть гражданская и военная, а что у нас за этим? Какая корысть? Жалованье нам идет? Личное облегчение выходит? Нет ничего и не может быть, потому что когда бы появилась корысть – то я уже не народная, а та же самая власть, против которой народ и пошел. Нам всем война наша эту великую победу дала – равенство дала, и я скорее помру, чем позволю себе от этой первой победы хотя бы крошку себе урвать! Только от этого и все другое пойдет – и свобода, и братство, и счастье! И от народа – от его беды и жизни – убереженных сынков у нас не должно быть! Потому что с тех сынков кончается народная власть, а начинается власть над народом! Та самая гиблая власть возвращается с ними! И не должны мы слушать, когда говорят, будто власть наша большая, а пользоваться мы ею вовсе не умеем – только что грабим, отымаем, убиваем! Враки все! Нету этого и не может при равенстве быть! Наша власть – вся на виду, всем равная. Судите ее, вот как Власихина судим нынче. В чем недоглядела, что сделала худо – все на нашем знамени отпечатывается, а оно, знамя это, для всех настежь открытое, для каждого трудящегося в каждой стране!
А та власть, которая до нас была, она с виду была одна, а в действительности другая. Она только и делала, что вид показывала. Она народ обирала – говорила: это благодать ему делается, для его же пользы. Она честного убьет, а газетки разные и попы объясняют – разбойник убитый, а то еще – герой, сам по себе пал смертью храбрых. Она закабалит – кабалу свободой назовет. И того ей мало – она с нас же деньги за обман брала, то ли за газетку, то ли учителю жалованье, чтобы он детишкам преступление по закону божьему растолковал! Конец ненавистному обману! Конец навсегда, а мы должны строго подводить под расстрел самого хотя бы и храброго партизана, когда он допустит мародерство либо насилие сделает, а тем более мы должны, как один, голосовать и, не сходя с места, исполнить наш приговор над изменником и предателем Власихиным Яковом Никитичем! Может, кто не понял: по закону военного времени, по закону Свободной территории есть предложение расстрелять!
Покуда Брусенков произносил речь, он все чаще и чаще бросал взгляды на подсудимого, был уверен, что тот побежден, что он сдался... Но когда речь кончилась, он подумал: а вдруг еще не все? Вдруг народ возьмет и простит Власихина? Потому как раз и простит, что он побежденный нынче? Не кто-нибудь – Власихин ведь побежденный?
"Только бы ему на колени не позволить пасть!" – подумал Брусенков, напряженно глядя в толпу на площади: что сейчас оттуда скажут?
Он глядел в один конец площади и в другой и тут увидел Перевалова.
Перевалов стоял неподалеку без шапки, весь в густых веснушках, так что не сразу разберешь – кожа на лице или шерсть рыжеватая.
Перевалов глядел прямо перед собой и не как другие, а насмешливо, зорко. Ни испуга, ни тягости никакой. Поглядел так же на Брусенкова и медленно потянул кверху руку с картузом.
Может, и не надо было давать Перевалову слова, кто другой, может, хотел высказаться, но Брусенков обернулся и тихо сказал:
– Довгаль! Ты же заместо председателя! Не видишь – Перевалов желает сказать.
– Желает сказать товарищ Перевалов! – крикнул Довгаль. – Перевалов Аким! Выйди сюда и лицом к народу.
Аким вышел, подождал чего-то и вдруг, резко обернувшись к Власихину, спросил:
– Вот, Яков Никитич, знать бы: может ли быть, чтобы народ весь был неправый, а один – того умнее человек, но только один – правым бы оказался? А?
Власихин ответил:
– Может, война всему народу и все застила, а одному – нет? Он чем виноватый? Ему-то как быть?
И ничему и никого Власихин уже не учил – сам спрашивал. Умолял ответить.
– Ну, тогда прощай, Власихин! – с прежней своей уверенностью и даже весело как-то сказал Перевалов, будто смахнув с головы картуз, которого на нем не было. – Бывай здоров! – И затопал с крыльца.
– Падла ведь! – шепнул Довгаль, наклонившись к Брусенкову и слушая, как четко стукает Перевалов подкованными сапогами по ступеням крыльца.
Они оба знали за Переваловым дело, по которому его тоже следовало бы судить по всей строгости закона военного времени. Он при конфискации присвоил имущество: рядовую сеялку.
И про себя Брусенков подумал: "Ну, погодь, шельма! Нынче ты поможешь засудить Власихина, а после тебя засудить – это уже раз плюнуть! Мошенник!" И тотчас забыл о мошеннике, подумал: может, на приезд Мещерякова надеется Власихин? Вот сейчас явится Мещеряков, и в суматохе про Власихина сперва забудут, после простят?
И хотя кончилась обвинительная речь, Брусенков, не спрашивая слова у Довгаля, вдруг снова сказал:
– Взять данный момент, товарищи! Прибывает товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич. Народу – радость! Но наш-то подсудимый тоже вроде радуется? А спросить: какое он имеет право? Какое право, когда он ни народа, ни, сказать, народных вождей не страшится и не уважает – самого себя и еще деток своих уважает только?
– Страшный-то ты, Брусенков! – вдруг заметил подсудимый. – Ты – не сильно большой вождь, но и не малый начальник!
– Вот он как говорит! – воскликнул Брусенков. – Вот как! Оскорблением хочет действовать, но и этого у его не получится, потому что он – виноватый, и сам про это лучше других знает! А я спрошу: когда у другого сын, может, уже убитый в геройском бою с тиранами, либо отец, либо сестренка снасильничана, еще у другого из нас – может, как раз завтра сыновья в бой пойдут под командованием нашего любимого товарища Мещерякова Ефрема Николаевича, а этот вот подсудимый будет свою бороду разглаживать, дожидаясь, когда сынки к ему в полном здравии из урмана выйдут? Так мы ему позволим сделать? Либо – иначе?
"Падет на колени подсудимый... Вот сейчас!" – снова показалось Брусенкову. Он уже видел, как черная борода вдруг будто бы склонилась и метет, метет по доскам деревянного крыльца...
Еще один мужик подошел к крыльцу, но на ступени подыматься не стал. Это был переселенец с Нового Кукуя, с того края Соленой Пади, где селились беженцы военного времени, – их из Минской, из Гродненской, из других губерний немцы пошевелили, они после того до Сибири дошли.
И хотя этот мужик-новосел знал Власихина совсем недавно, он спросил у него:
– То ж правду говорят: що ты всегда з народом? За его страдал... Чего ж сынов своих поставил теперь звыше всего?
– Я их не ставил. Они сами передо мной стали. Стали – не спросились!
Брусенков снова вдруг подумал: "А ведь не боится подсудимый! На колени падать не собирается вовсе!"
– Прошу поднять руки, у кого сыновья либо отцы и братья пали смертью храбрых за нашу свободу, – проговорил он громко, отчетливо. – Прошу!
Кто-то разом поднял руки и снова опустил... Кто-то оглядывался по сторонам.
– Если кто из родителей, потерявших детей, стесняется руку поднять пусть не подымает, насильно никто не обязывает!
Тотчас еще поднялись с площади руки, а Брусенков сказал:
– А теперь – кто за смертный приговор изменнику народного счастья Власихину Якову?! Прошу еще поднять руки... Кто против? Суд спрашивает: кто против? Нету против...
Брусенков подошел к столу, открыл ящик, достал из ящика смит-вессон. Поглядел в барабан, взвел курок и взведенным передал небольшой мутноватый смит конвоиру.
– Вот тут, – сказал ему, – вот тут, сведешь с крыльца и у этой стенки... Ну?
Власихин стал спускаться со ступеней... Медленно стал спускаться, неслышно, хотя тишина кругом встала мертвая.
И вдруг на площади раздался чей-то вопль. Даже как будто испуганный вопль:
– Едуть! Едуть! Мещеряков едуть!
Толпа шарахнулась в переулок, через огород. И маленький конвоир, и согбенный, но все-таки огромный Власихин в недоумении остановились на нижней ступени крыльца.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В деревню заезжать не стали, привал сделали в березовом колке. Колок вовсе крохотный, однако густой, с молодью. Костер разожгли в ямке из сухих веточек, чтобы горели бездымно, коней пустили на траву, но привязали крепко.
К закату Ефрем велел дозорным выйти на дорогу, глядеть до рассвета. Кто их знает, беляков этих, с какой стороны, когда и откуда они могут взяться.
Солнце садилось лениво, на березах гасли листья, будто угольки в заброшенном костре.
Ефрем обошел колок, наткнулся на копну.
"Вдовья, видать, копешка!" – подумал, поглядев на нее, низенькую, скособочившуюся. Еще вокруг поглядел – нет, не мужичья косьба! Литовкой махала баба – неумелая либо вовсе девчонка: прокос узкий, туда-сюда вихляет, трава нечисто скошена. Срам – не работа... И сколько их, баб, нынче в степи мается, мужицкую работу ломит? Заела народ война, до края заела!
Однако грустил недолго. Сапоги новые сбросил, погладил – очень ласковые были сапожки, хромовые. Куртка тоже новая, блеск сплошной. Он ее постелил аккуратно, подкладом книзу, чтобы блеск этот об сено не поцарапать, лег на нее, еще сенцом накрылся и не успел взглядом солнце проводить – уснул.
Бессонные ночи были до этого подряд одна за другой, да еще в седле провел день целый.
Проснулся при высокой луне и только чуть прислушался – сразу же понял, что у костра его ребята допрашивают кого-то чужого.
– Значит, чей такой? Откудова? – спрашивал строго так голос Гришки Лыткина, совсем еще молодой голос, парнишечий, а ему отвечал человек, видать, крепкий, басом отвечал и со скрипом:
– Дальний буду. Сказать – с Карасуковки с самой... А дале что тебе?
Вот он откуда был, незнакомый пришелец, – с Карасуковки. Карасу – то есть "черная вода" по-русски, – с этим названием аулов и поселков было в степи не счесть. Но один Карасу русские на свою, на Карасуковку переделали, и деревня эта разрослась после, далеко кругом стала известна.
– Хвамилие твое? – спрашивал Гришка Лыткин.
– Глухов буду... Петро Петрович Глухов.
– Так... Почто по степи ночью шаришься? Белых ищешь либо красных?
Бас помолчал, после спросил:
– А вы кто будете? Мещеряковские, или как?
– А мы мещеряковские и есть! – весело так взвизгнул Гришка Лыткин и еще веселее спросил: – Испугался?
– Дурной ты... – ответил ему бас. – Кабы я тебя испугался, так и тюкнул бы на путе разок, после – был таков...
– Ну-ну! – возмутился Лыткин. – Еще кто кого! Ну, так что же ты делаешь в ночи-то? Один?
– Сказать – так бунтую я.
– Напротив кого?
– Ну, не напротив же тебя.
Засмеялись партизаны, а Гришка Лыткин обиделся:
– Всякие нонче ходют... А Карасуковка твоя – село непутевое. Воды в нем – капли пресной нету. Соль голимая.
Кто-то Лыткина поддержал:
– И с мужиков с карасуковских соленая вода шерсть гонит, ровно с баранов. Ушей у их в шерсти не видать!
Ефрем понял, что карасуковский мужик был шибко волосатым, стал ждать, что бас ответит.
Он шутки не принял:
– Не твоя пашня карасуковская и не твоя баба там. Ну и помалкивай знай!
С пришельцем этим разговаривать надо было серьезно.
– Так ты как бунтуешь-то – до зимы только либо до конца самого?
– Оно бы хорошо – до зимы. Вовсе хорошо. Но не управиться. У Колчака у энтого силов еще – стихия! Ну и обратно подумать – дело у него пахнет неустойкой.
– Видать?
– Порет он шибко мужиков. Насильничает. А сказать – так с перепугу. Забоялся мужика всурьез. Да... Он-то боится, а нам что с людоедства его может быть? Подумать страшно...
– Всех не перевешает.
– Не в том дело. Озверует он нас, мужиков. Озверует друг на дружку до крайности, сами себе рады не будем. И надо бы с им до зимы за это управиться, но шанса нету.
– А Красная Армия? Урал перешагнула!
– Теперь считай: от Урала до Карасуковки это сколь ей надо ежеденно пройтить, чтобы к зиме достигнуть? И ведь с боем идти. Не-ет, куды... К зиме нам ладиться неизбежно. Это верно – миром, так и не с одним, а с двумя, а то и с тремя, сказать, колчаками управиться вполне возможно, однако зима-то она тоже не ждет, тоже своим чередом идет. Ее не остановишь. Уже никаким способом.
– Зимой нам, партизанам, воевать несподручно.
– Ну, и с нами тоже несладко. Чехи, разные, сказать, сербы-японцы зимой Колчаку не помощники. К морозу чутливые. Обратно, нам бы пораньше колчаков свалить самостоятельно, чтобы Красная Армия на готовенькое пришла, тоже не худо.








