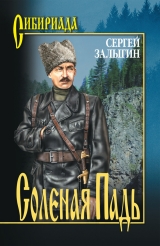
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все ж таки мужики – в большинстве народ, чинов среди них мало, чересчур богатых, как вот Кузодеев был или знаменитый Коровкин, тоже невеликое число...
Поначалу, правда, за милицией доколчаковского временного правительства богатые мужики кое-кто пошли. Настукать на кого, либо самых первых, еще неопытных и одиночных партизан схватить, передать властям – все это было. Но после, когда народный пожар во всю силу разбушевался против верховного изверга Колчака, против его генералов, атаманов, чужестранных легионеров, тут уже и богатеи примолкли, затихли полностью.
Про председателя села Московки, потерявшего печать, Мещеряков подумал: "Ну, теперь он до конца жизни научится – если при печати, так будет носить ее в штанах, в кармане".
Песня "Грозная пика" показалась ему средней. Средне была составлена: не по-народному и не по-ученому. Ни так, ни этак. Ну, а все ж таки в ход она вполне могла пойти. Особенно если Мощихинский, который ее сочинил, голос громкий имеет. Написанное – оно же само по себе тихое, его надо еще провозгласить!
А одна строчка в песне так особенно Мещерякову понравилась. Даже две:
...Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!
И еще одно сообщение сильно Мещерякова задело... Написано было даже лучше, чем в стихах.
"О том, чтобы вести митинг в помещении волости – хотя оно и обширное, не могло быть речи, так как не вместилось бы и одной четверти собравшихся. Открылся грандиозный митинг на открытом воздухе. Море голов! – прочел Мещеряков и тотчас представил это море. – А по мере того как товарищ Петрович говорил, настроение все поднималось. Когда же он кончил, раздались голоса: "Все пойдем! Все умрем! Долой Колчака!" Какой царил подъем духа! Сколько энтузиазма! Не только мужчины, но и девушки, простые милые крестьянские девушки, и те кричали, что пойдут в сестры милосердия. И пошли. Вот ихние имена: Домна Колесникова, Наталья Сухинина, Елена Доровских и многие другие... Как величественно, как красиво это восстание!"
Вот как было написано!
Что мужики кричали "умрем!" и "долой!", Мещерякова ничуть не удивило. А вот девки о революции заботятся!
"Ну, и о них тоже позаботиться надо! – подумал Мещеряков. – Бабы – те сами себе хозяйки, а о девках – надо. Пусть милосердствуют за тяжелоранеными и за теми, которые при смерти. А уже от выздоравливающих надо их уберегать. Это команда такая: не воюет, не работает, только и знает, что выздоравливает..."
И Мещеряков вспомнил – на германской был у него ротный, тот своих взводных и даже унтеров то и дело устраивал в команду выздоравливающих. Для поощрения. На неделю, а то и на десять дней... И Мещеряков был в той команде тоже. Два раза был. Знал этот обиход.
Ну вот – настало время идти в главный штаб, к товарищу Брусенкову. Он одернул на себе куртку, поправил ремень, наган, портупею, усики пошевелил двумя пальцами.
Гришка Лыткин спрыгнул с подоконника, скособочил на себе папаху, и пошли они вдвоем из штаба армии в главный штаб.
Часовые в дверях стояли – в момент приняли стойку "смирно".
А беда ведь с этим с Лыткиным! Чуть заметит за главнокомандующим какую повадку – сейчас то же самое делает, до смешного старается. И походку сделал себе под Мещерякова, и папахой где-то разжился серого цвета, и галифе добыл с кожаным сиденьем, а шпоры на нем звенят – бубенцы на выездной упряжке в первый день масленки! Нынче учится трубку курить и усы растит. Покуда ни то, ни другое у него не получается.
В любой разговор Гришка ввязывается, который раз мешает. Надо бы посерьезнее иметь вестового, из обстрелянных, но уж очень лихой Гришка этот. Душевный очень, к начальнику своему привязанный. А что у парнишки такое может быть? Отца и мать в эту пору еще не сильно чтут, бабы у него в помине нету... Живой останется, вырастет, пахать-сеять будет, нынешнее время ему так и представляться станет: каждый день красным бантом повязанный, каждый час звонкими шпорами звенит.
Расторопный мальчишка. Толково ему объяснить – убьется, но сделает... Пусть будет вестовым – адъютанта же Мещеряков подберет себе правдишнего.
Молодость!
Ефрем и про себя скажет: когда в шестнадцать лет вдруг оказался бы он при таком вот боевом начальнике – все так же и делал бы, как Гришка делает. Глядишь на него – себя узнаешь. Про Ефрема, про молодого, чего только не говорили: что он и парней-то всех лупил, и девкам проходу не давал, и мужиков чуть ли не с пеленок уже стращал! Враки поди-ка все! Вот таким он, верно, и был, как Гришка Лыткин нынче. Конечно, тридцать лет не старость, а все ж таки и не семнадцать годков, нет! Семнадцать – что такое? Много человек не знает. Забот не знает, зла, жадности, свирепости. Сам прост, все люди просты ему и весь белый свет. Жаль, проходит это быстро и слишком уж незаметно. Когда прошло? Нет, не заметил...
Ступили на площадь. С площади и осмотрел, не торопясь, Ефрем дяди Силантия поселение.
Оно вот как было сложено.
Площадь – большая, с торговым рядом, и выходят на нее дома – тоже все большие, под железом. Железо всюду зеленым покрашено. Красиво!
Далее – улица одна идет в ту и в другую сторону от площади версты по полторы. Прямая, широкая, кое-где канавы порыты вдоль нее и даже поставлены деревянные мостки в одну доску, где земля черная, и в ненастье лывы образуются, кое же где она вся покрыта травкой, и только к самым домам прижимается темная дорога.
Местами торчат колодцы-журавли, вздымая вверх тонкие безголовые шеи, выступают то тут, то там палисадники с темно-зеленой листвой черемух и сирени, с поблекшими цветами мальв, нанизанных на высокий прямой стебель. Плетней не видать; ограды поделаны крепкие, ворота на один лад – смоленые, сверху накрытые поперечинами с острой кровелькой, под кровелькой различить можно резьбу. А то и петушки наставлены на воротах.
Улицу эту в Соленой Пади, сразу видно, блюдут; кому попало и как бог на душу положит строиться на ней не позволяют. Тут на ней где-то, наверное, и дяди Силантия изба стояла.
От этой улицы вниз по склону разметались пестрые богатые огороды, кое-где разделенные пряслами, а больше канавами и просто вешками. Это значит – соседи живут между собою спокойно, если и ругаются, так только на словах.
У самого озера – заводы. Один, должно быть, маслодельный, другой швальня либо кожевенный.
От главной улицы вверх, в сторону бора, – частые переулки, там уже и ворот нет, и ограды далеко не везде, городьба поставлена абы как – и плетень, и жердянник, и просто подсолнухи посажены полосой погуще, вот тебе и грань между дворами. Но опять-таки избы бревенчатые, под крышами. Редко где накрыты дерном, больше тесовые. Малух вовсе немного.
Ближе к самому бору – снова добрые дома, хозяйственные, хотя и поставлены без улиц-переулков и глядят лицом кто куда. Там тоже место годное для жилья – сухое, высокое, а вода неглубоко – журавли ее достают из-под земли.
На кромке бора – церковь, кирпичное помещение школы с тремя оконцами и с невысокой городьбой вокруг, в деревянном приземистом барачишке – больница, и рядом избенка фельдшерская, тут же и кладбище поблизости. Опять заводы: лесопилка с белыми копнами опилок, а с красной кирпичной трубой – это мельница паровая. Сарай огромный – машинный склад. Шесть, а то и семь-восемь сот дворов верных в Соленой Пади. Может – вся тысяча.
И объяснять где и что Ефрему не надо – ему все ясно.
То было – смотрел Ефрем на Соленую Падь издалека и свысока – с Большого Увала, теперь видит ее рядом... Рядом она жилая, назьмом пахнет, хлебом и ребятишками, лесом сосновым. Гомонит телячьими и ребячьими голосами. Жилое место.
На площади было порядочно вооруженных людей, многие с красными повязками на левой руке, а кто надел уже зимние треухи, тот и на треух насадил красный лоскуток.
Были тут эскадронцы из мещеряковского отряда, – эти при холодном оружии и одеты поаккуратнее, к военной форме ближе. На ком фуражка военного образца только и есть, остальное все мужицкое и даже сильно потрепанное, а уже вид совсем другой.
Вдоль торгового ряда стояли эскадронные тачанки и телеги, лавчонки почти все были поразбиты, и в них, и на торговых деревянных столах сидели и лежали партизаны, а вокруг грудились ребятишки, не могли на воинов этих, на героев, насмотреться. И взрослые из мирных жителей тоже были здесь, хотя не так много. Бабы – те вовсе редко через площадь перебегали, торопились. Остановиться, по сторонам поглядеть им, конечно, некогда было. Той шельмоватой бабенки, что утром нацелилась на Ефрема, в этот раз было не видать.
А вот девок – совсем ни одной на площади не было, и Мещерякову это понравилось: порядок здешние жители понимают, держат девок до поры до времени на приколе.
Кто-то из полутемных разбитых лавчонок крикнул: "Ур-ра красному главкому!" Партизаны повскакали с торговых столов на землю, ребятишки прыснули к нему со всех сторон, но Мещеряков, приложив руку к ремню, а другую подняв над головой, приказал:
– Отставить! Вольно! – и спешно пошел дальше.
Припомнить – так давно уже не видел Мещеряков сел и деревень без вооруженных людей, без воинских обозов. А откуда им взяться, мирного вида селам, если по улицам ихним пешим ходит и ездит на боевом коне Мещеряков Ефрем? Он с собой все это и привозит, все это военное обличье. Мало того, пройдет неделя-другая – от зеленых красивых крыш одни лоскутки останутся: белая артиллерия их побьет. Разве чудом какая уцелеет...
Им, белым, что? Они пришлые и даже чужестранные, не то что деревню землю саму дотла сожгут – не жалко. Недаром белые местных мужиков и не могут, сколько ни бьются, мобилизовать, разве только сынков кузодеевских и еще тех, у кого всю-то жизнь разбой и грабеж в крови играл, а тут – настало время – волчья их повадка вышла наружу. По своей деревне из орудий бить – на это среди людей редко кто решится, среди зверья только и найдутся такие. И бежит, бежит из белой армии мужик-сибиряк, хоть и стращают и преследуют его за это жестоко. Мало того, он домой прибежал, а тут ему уже кличка готовая: "Беляк!" Хотя и законы объявлены на Освобожденной территории – не трогать дезертиров белой армии, принимать, как своих, – так ведь жизнь в мирное время и то в законы не уложишь. А в военное? Терпит и это дезертир, все терпит...
Улица пятнилась белыми табунками гусей, пестрыми крапинами петухов и куриц.
Где были придорожные репьи – возились свиньи, а где росла невысокая зеленая и ровная травка – вокруг колышков ходили на привязи телята... Козы те везде блудили, тем закона нет. Было тихо, спокойно.
И вдруг откуда-то сверху, с верхних проулков, в улицу свалилась двухосная тачанка без пулемета, но с пулеметчиками, перепоясанными лентами, и с красным флажком на передке.
Колеса грохотали одиночно и залпами, мелькали спицы, вспыхивали железные ободы, отбрасывая искры, на колесах с той и с другой стороны висели псы, сшибаясь между собой, падали оземь, выли, визжали от боли и злости, с поджатыми хвостами снова бросались за упряжкой, а черный огромный и лохматый кобель барахтался под самой мордой буланого, со стороны казалось – он подвешен к дышлу... Роняя клочья шерсти, кобель ударялся о дорогу, прыгая, хватал дышло клыками, стонал и всхлипывал, будто окончательно удавливаясь в невидимой петле.
Вслед за упряжкой клубилась пыль, ширилась на всю улицу, подымалась под самые крыши изб. Коротенькие журавли одиноко торчали из темного марева без колодезных срубов, сами по себе.
Оба пулеметчика стояли в рост, который был поменьше – впереди, высокий и лохматый, как тот кобель, сзади.
Задний орал переднему:
– Поласкай левую! Поласкай шибче!
Передний ласкал и левую и правую длинным, не ямщицким кнутом и тоже стонал:
– По-стра-нись!
Воздуха ему не хватало, то и дело он выговаривал только "странись!" либо одно длинное и громкое "ни-и-и!".
Кони шли спаренно, вздымали потные блестящие крупы, падали сверху на передние ноги, падали будто на колени, но в неуловимый какой-то миг выбрасывали копыта, надтреснуто-звонко ударяя ими о землю... Или земля раскалывалась под копытами, или все четыре копыта разлетятся сейчас в осколки?..
Хотя оба шли, как один, левым – серый, правым – буланый, скачка была уже дикой, шальной. Уже кони не чуяли себя, ничего не чуяли, не видели перед собою. Шли зверями.
У серого седая грива пала между ушами на лоб, закрывая то один, то другой сумасшедший глаз, буланый выкатил оба угольно-черных глаза, уздечка была у него в желтой пене, желтым намыливала морду, вспенивала распахнутую красную пасть.
"Хуже нет – останавливать дышловую!" – подумал Мещеряков, прищуриваясь на буланого и успев еще примериться к чьей-то деревянной ограде позади себя... В эту ограду и можно было направить упряжку. Кони вдребезги ее разнесут дышлом, а сами все ж таки останутся целыми, падут-таки на колени... Что будет с ездовыми – Мещеряков не успел понять... Вернее всего, живыми ли, мертвыми ли окажутся далеко впереди, в огороде... "Хуже нет – останавливать дышловую... Кабы оглобли... – еще раз подумал он с сожалением. – Когда бы оглобли, то левой рукой можно бы на одной из них повиснуть, правой действовать... А нынче надежда – схватить на себя вожжину. Или прыгнуть в тачанку, да и выкинуть оттуда ездовых прочь? Когда не удастся вожжину ухватить – буду прыгать. Сзади буду!"
Гришка Лыткин что-то понял, кинулся вперед. Мещеряков, не оглядываясь, резко боднул плечом – Гришка полетел с ног. "Еще забота: задавим ведь мы – и кони и я, – все вместе задавим Гришку! Еще правее надо теперь выводить зверей этих в ограду – в следующий пролет между столбами!" И тут ясно так и свежо дунул ветерок, обгонявший упряжку, шевельнул волос на голове по краям папахи...
"С богом, Ефрем... Будь здоров!"
Сказочно как-то, невероятно даже – упряжка свернула влево. Два колеса, оторвавшись от земли, засвистели воздухом, пулеметчики упали на колени и какое-то время мчались, высунувшись через правый борт по пояс, когда же колеса вновь ударили о землю, они снова вскочили в рост, еще шибче помчались узким проулком под уклон, к озеру. И проулок-то едва заметный был между двумя постройками, но они угадали в него въехать.
Измолотый копытами и колесами, на площади остался черный кобель, приподнял голову, хвост, еще взвыл вдогонку коням, уронил голову и хвост. Замер.
У Мещерякова застучало в висках, он сбился с шага. Было так, будто бы это он и летит вот сейчас под уклон к озеру, под ним грохочут колеса. А может, даже он и на дышле вместо того кобеля болтался?.. Пришлось пошире, попросторнее вздохнуть, тихонечко посчитать себе: "Левой, левой, левой, Ефрем!"
Когда шаг был взят снова, Мещеряков подумал о пулеметчиках: "Не пьяные, гады! Когда бы пьяные – не узнали бы с ходу главнокомандующего, не свернули бы от него в сторону расторопно так и не удержались бы на повороте!.. Ну, а если все ж таки выпивши? Что тогда?"
Мещеряков приказал Гришке Лыткину быстренько обернуться в штаб, сказать коменданту, чтобы послал вдогон за тачанкой верховых из дежурного взвода. К озеру тачанка подскочит – там ей и тупик, деваться дальше некуда, кроме как обратным ходом.
Отряхиваясь от пыли, в которую он только что падал, Гришка спросил:
– Вы, однако, что, товарищ главнокомандующий, хотели варваров останавливать с ходу?
– Это тебе показалось! – ответил Мещеряков. – Показалось, ты и полез наперед старшего начальника! Вовсе нехорошо! Службы не знаешь! Ну, беги живей!
Тачанка полностью отгремела, на площади удивительно тихо стало... И пусто. Мещеряков глядел ей вслед. Только пыль неторопливо ложилась обратно на землю. Он подумал: "Была и не стало... Как ровно корова языком слизнула и подержаться за ее не успел... И в руках как бы пусто сделалось..." Поглядел на свои руки.
А ведь высокого пулеметчика Мещеряков знал – с весны ранней тот служил в первом эскадроне, фамилия его была Ларионов. Ларионов Евдоким. Мужик тихий, спокойный, не похоже, чтобы напился сильно. Хотя разобраться, так пьют-то – для чего? Чтобы на самого себя не похожим быть! А на маленького на того особой надежды не было: мог успеть. Маленький служил недавно, месяц какой, но сильно был умелый пулеметчик – в двух или в трех стычках уже участвовал, хорошо себя показал. Чей такой – как бы не спутать?.. Феоктистов, вот он кто, а звать по имени – уже не вспомнишь, потому что их множество, Феоктистовых, в эскадронах, и еще прибывают под этой фамилией люди... Известная фамилия в Нагорной степи, что ни село – то и десяток Феоктистовых.
А все-таки – если они выпившие оба? И Ларионов и Феоктистов?
Приказ был по армии: за появление в пьяном виде полагался арест, когда же пьяный покалечит лошадей, нанесет ущерб военному имуществу либо окажет сопротивление – полагался расстрел.
Не то чтобы приказ исполнялся всегда, но когда случалось на глазах у людей, когда все случай знали – исполнялся строго.
"Вот проклятые эти пулеметчики, свалились на мою шею! – рассердился Мещеряков. – Вот проклятый этот самогон! Где промчалась тачанка – может, саженях в пяти, может, даже они трезвые, пулеметчики, просто так балуются, а – хмельным, в тебя шибануло, как из ведра! Зараза! Ну – нет! Что до главнокомандующего товарища Мещерякова – тот до конца нынешней кампании в рот не возьмет! Ни в коем случае! Зараза!"
Сейчас, перед генеральным сражением за Соленую Падь, так и вообще-то самогонкой трудно разжиться, а находят у кого аппараты – бьют без сожаления, самогонщиков же штрафуют. Которые не унимаются, так были случаи расстреливали.
Ну, а когда выйдет победа над Матковским-генералом... Тут надо будет закон этот трезвенный хотя бы на неделю или того меньше, но спрятать куда подальше! Все равно он бесполезным окажется.
"Только бы и выйти мне из штаба минутой какой позже либо минутой раньше! – вздохнул Мещеряков. – Не видел бы я и не знал ничего!"
После пожалел черного кобеля и себя пожалел: запросто могли бы они и вдвоем лежать растоптанные. И еще подумал: "Службу, Ефрем, служишь! Службу! Конечно, разбираться с пулеметчиками будет комендант, дело главнокомандующего – только приказать, а все-таки... Ладно, если пулеметчики эти и верно трезвые. А пьяные? К главкому же комендант и придет – подписать приказ о расстреле! К кому еще?"
Сколько это забот и дел нынче у Мещерякова!
И до чего все ж таки было бы хорошо – встретить противника на марше, разбить колонны его по отдельности, вовсе не переходя к обороне. Подумать только!
Для начала – вот так же, как нынче Ларионов с Феоктистовым, – к противнику подкатить, развернуться и дать с каждой тачанки по ленте без перерыва. А? Все ж таки взбудоражила и в нем кровь эта беспутная тачанка...
В кармане что-то потрескивало у Мещерякова. Он не сразу догадался, что такое, а это были карандаши в коробке. Когда он коробок сунул в карман даже и не заметил.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В главном штабе собрались Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко и Ефрем Мещеряков. Окончательно должны были обсудить вопросы, связанные с объединением армий, с прибытием главнокомандующего в Соленую Падь.
Договоренность между южной партизанской армией и главным штабом Соленой Пади состоялась на этот счет давно. Весной были здесь представители Мещерякова, а у него в Верстове почти две недели был Лука Довгаль, – но все равно и нынче предстояло о многом договориться. С самим Мещеряковым.
Сели за стол.
Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко сели по одну сторону стола, по другую – Мещеряков.
– С вашей стороны все, что ли? – спросил Брусенков.
– Сейчас мои подойдут. Припозднились! – ответил Ефрем. Огляделся, прищурился на ярко-желтый пол, на солнечный свет, падавший через окно. Солнце чтой-то сильно бьет! В глаза! – сказал он и подвинулся вдоль по скамье. Оказался как раз напротив Таси Черненко.
– Так-так... – проговорил снова Брусенков, а Ефрем спросил у него:
– А какой же это у нас вопрос первым нынче поставленный?
– О соединении пролетариев всех стран. Так, товарищ Довгаль, договаривались мы?
– Именно! – подтвердил Довгаль, а Мещеряков поглядел на того и другого.
– То есть как это?
– Просто! – развел длинными руками в стороны Брусенков. – Хотим впервые выяснить твою платформу и взгляд на лозунг всей мировой революции. Мы его у всех выясняем.
– Так неужто от меня соединение пролетариев всех стран зависит?
– От тебя не сказать чтобы много в таком великом деле зависело. А вот ты от него – в зависимости целиком и полностью.
– Ты скажи, не примечал я этого по сю пору. Ну, ладно, а когда так, когда целиком и полностью, – что же нынче обсуждать-то? Тебе-то ясно это? И – товарищам...
– Мне ясно. За них я тоже ручаюсь. А вот как ты на это глядишь? Как и сколько ты в этом понимаешь?
Тут вошли Куличенко и Глухов.
Куличенко поздоровался резко, по-военному, а Глухов остановился на пороге, кивнул, огляделся по сторонам, всех присутствующих тоже оглядел, прошел к столу и сел рядом с Мещеряковым.
– Начнем, либо как?
Брусенков поглядел на него, на рваную его рубаху. Спросил Мещерякова:
– А это кто у тебя? Что за товарищ?
– А он у меня никто.
– Ну все ж таки?
– От карасуковских мужиков ходоком. Пришел поглядеть и понять, что у нас здесь с тобой происходит. Глухов фамилия. Петро Петрович.
– А для чего это ему?
– Фамилия-то?
– Для чего он с тобой здесь? Нынче?
– Так говорю же: он от мужиков. Вон от какой от огромной волости. Ты для начала скажи, Глухов: можем – нет мы надеяться, что карасуковские мужики к нам все ж таки присоединятся?
– Сказать – это не от вас, товарищи, зависит.
– От кого же? – спросила Тася Черненко.
– От Колчака. Когда он еще месяц хотя бы не бросит безобразничать, не то что Карасуковская – все волости и даже все кыргызы в степе ваши будут.
– И давно он у тебя такой? – снова спросил Брусенков у Мещерякова.
– Дорогой к нам пристал. От Знаменской деревни верстах в тридцати. Нет, сказать, так и все сорок верст будет от Знаменской то место.
– И сразу ты его на заседание главного штаба привел? А если он военную тайну узнает?
– Так мы что – глупые совсем? Мы ему скажем уйти, когда зайдет о военных действиях. А сейчас почто ему нас не послушать? И свое слово нам не сказать? Соединение пролетариев всех стран не секретно же делается? Вот скажи, Глухов, – ты за соединение?
– Я не то чтобы сильно "за"... – пожал плечами Глухов.
– Почему так?
– Дома делов слишком уж много. Управиться бы...
– Ты бы, товарищ Мещеряков, еще и Власихина привел сюда! – уже заметно сердясь, сказал Брусенков. – Тоже дружок твой.
– А вот это мне несподручно, нет. Я его с собой не привозил. Он ваш, доморощенный, Власихин-то... Приглашайте вы, я его послушаю!
– Довгаль, ты-то что молчишь? – спросил Брусенков. – В защиту пролетариата перед Власихиным какую речь сказал? А нынче? Это же прежде всего твой вопрос?
Довгаль сидел, опершись одной рукой на стол. Задумался.
– Наш вопрос... Но, видать, это еще не все – что наш он. Тут надо пример привести. Ясный и понятный. В руки взять вопрос-то всем и каждому...
– Позвольте, товарищи! – сказала Тася Черненко. – Довгаль говорит верно. А я хочу обратиться к товарищу Мещерякову: знает ли он, что в нашей армии созданы краснопартизанские части из бывших военнопленных мадьяр и австрийцев?
– Сколько же их? – спросил Мещеряков живо. – Мадьяр сколько?
– Ну, две роты австрияков, и мадьяр, считай, столько же! – ответил Довгаль радостно. – И вот с этого как раз и начнем мы с тобой разговор, Мещеряков, с этого!
– Мадьяры – верно что хороший пример! – кивнул Мещеряков тоже весело. Вот с таким примером и я кому хочешь все объясню. И каждый мне поверит. А насчет австрияков – пример уже вовсе мало годный.
– Это почему же? – удивилась Тася Черненко.
– А потому, товарищ моя дорогая, – ответил Мещеряков, – потому что мадьяры – те, верно, солдаты. Они и на фронте либо уже с нами сильно дрались, либо переходили на нашу сторону. Середки не искали, не скрывались. И понятно: они в свое государство задумали от австрияков отделиться, от ихнего императора Франца. Добра этого, императорского, повсюду хватает на каждую страну, на каждую местность, но им тот Франц даже и не свой вовсе. По-мадьярски будто бы ничего и сказать не может – "здравствуй", "дай сюда" и "прощай". Все. Австрияки же – те мирные. Те и в плену, в Сибири, больше полукровками занимались. Сколько от них ребятишек-полукровок пошло – с шестнадцатого года счет потерян!
– Почто же это как раз с шешнадцатого? А? – заулыбался в бороду Куличенко. – Почто с шешнадцатого, товарищ главнокомандующий?
– Ну, до шестнадцатого году старики и старухи еще счет вели по деревням. Старались. Жалмерок попрекали всеми силами. После видят бесполезно это... И рукой махнули. А с мадьярами – вот вы женщина, товарищ Черненко, – а пример сделали очень правильный. Чисто военный пример.
На смуглом, чуть вытянутом вниз, но с круглыми ямочками лице Таси Черненко не дрогнула ни одна жилка, она осталась строгой. В упор смотрела на Мещерякова. А его этот взгляд ничуть не смутил.
– Значит, в принципе ты за пролетарскую солидарность, товарищ главнокомандующий? – спросил Коломиец.
– В принципе – об чем разговор? А когда здесь, в нашей армии, будут воевать мадьяры – тем более!
– И ты сам готов нести революционное знамя по всему миру?
– Когда без него люди не смогут жить – понесу!
Но тут снова вмешался Глухов.
– Я так считаю, – сказал он, – у их, у мадьяр, тоже ведь наши русские в плену есть. Вот они ихней революцией пущай и окажут полное содействие. Обязательно! А что? Из наших, из карасуковских, мужиков к им в плен попался один – известно это. Так тот один, дай бог ему волю, наделает у их делов, сколь у нас тут и рота мадьярская не управится сделать! Сроду не управится.
На той стороне стола промолчали, а Ефрем подумал: "Пусть Глухов и еще поговорит. Пусть штаб сам и решит, как ему с ходоком этим от карасуковских мужиков быть!" И он еще сказал Глухову для задору, чтобы спор вдруг не заглох.
– В тебе, Глухов, видать, совести нету трудового народа! Тебе все кабы полегче сделать здесь, а уже в другом месте, в другой стране – тебя дело не касается. Я говорил уже дорогой, отчего это у тебя: богатый ты все же, видать, слишком!
Глухов Ефрема выслушал, помолчал и обратился к Брусенкову:
– Правду обо мне говорит главнокомандующий ваш? А?
– Правду, но далеко еще не всю! – ответил Брусенков. – Мало говорит. Или он бережет тебя? Для какой-то цели?
– Что же надоть, по-твоему, обо мне еще сказать?
– А то, что ты – я уже точно об тебе это знаю – эксплуататор хороший. А бедному ты враг! И когда Советская власть стоит за бедного – ты враг и ей!
– А-а-а, враг, – заорал вдруг Глухов. Глаза его покраснели, и весь он под шерстью своей покраснел. – Это кто же тебе право дал в человека тыкать и кричать: "Враг"? Кто, спрашиваю?
– Меня выбрал на это место народ, – ответил Брусенков, и глаза его тоже нацелились на Глухова, губы сжались плотно.
Один лохматый, заросший весь, другой бритый, рябой – они привстали с табуреток, вот-вот кинутся друг на друга...
Мещеряков сказал:
– Фельдфебеля царской службы на вас нету!
Но Глухов будто и не слышал, еще наклонился через стол к Брусенкову:
– Тогда ты и сам не знаешь, для чего ты народом выбранный! Не знаешь! Тебя выбрали народ защищать, а не калечить его походя!
– Я трудовой народ и защищаю. Против царя защищал, против Колчака и еще – против тебя!
– О-он ты как? А я – кто же? Ты меня спрашивал, сколь вот этими руками я десятин земли поднял? Я в карасуковскую степь пришел – души живой не было, а я соли тамошней не побоялся, колодцы выкопал, на землю сел, просолился на той земле стоповым засолом, но и другим указал, что жить доступно, многие после меня стали жить. Я им что же – враг за это, людям? Я обзавелся, после меня уже другие обзавелись, безлошадные, неприписные, – я им тоже враг? Я им сделал, людям, ты укажи – что ты сделал?! Ты покамест еще слова умеешь говорить, а вот на землю глухую ты первым придешь? Подымешь ее? Да от меня, может, пол-России идет, и я тоже иду от ее?
– Она нынче не та, Россия-то. Не та! Переделки требует. И еще требует убрать из нее которых. Навсегда убрать.
Спор был между Глуховым и Брусенковым серьезный. Мещерякову такой нравился. "Ладно бодаются! – подумал он. – Вовсе не зря доставил я Глухова в главный штаб!" И еще, поглядев на Глухова, он подумал: "В строю такой негоден, нет... Там в чужой кисет без разбору заглядывают и в чужой котелок... Там порядок – покуда команду слушают. А команды не слышно – любят беспорядок. А вот к полковому либо даже к армейскому хозяйству его приставить – будет сила! Ежели задержится Глухов, не пойдет к своим карасуковским – сделаю: приставлю его к хозяйству... Армейским интендантом!"
Брусенков же чем дальше, тем серьезнее становился, ответил Глухову:
– Я такие речи знаешь где читал? В колчаковских воззваниях читал. И не раз. Он там власть нашу комиссарским самодержавием кличет, Колчак. Однако народ бьет его, а не комиссаров!
– Так это же глупость – себя с дерьмом сравнивать! Колчаковская власть – она вся из дерьма деланная, это каждому должно быть понятно, одни, может, мериканцы-японцы не видят, сахаром дерьмо-то со всех сторон обкладывают! А ты что стараешься? Доказать, что ты лучше Колчака? Может, и лучше-то лишь на малость какую? Так неужели мужики-то кровь проливают за эту самую малость? И когда колчаки меня разоряют и напустили на меня чужестранных карателей, а ты тоже кричишь мне: "Враг!" – может, тебе цена-то тоже колчаковская! Стрелишь меня? Это ты можешь! Власть! Только сперва подумай, посчитай, какая тебе после того цена выйдет!
Народ, может, и не сегодня, может, и погодя все одно скажет тому спасибо, кто ему помог от эксплуататора навсегда избавиться. А когда ты кричишь, что трудом своим степь цельную поднял, обзавестись людям помог, – я скажу на это так: вот за этим за столом сидят нынче товарищи и нету среди них человека, чтобы ему нечего было бы тоже об себе крикнуть, объяснить, сколько он сделал, сколько поту, может, крови пролил уже и еще готовый пролить за трудовой народ. Спроси хотя бы и товарища Мещерякова об этом. Ему сказать есть чего – однако он молчит! Почему молчит? Потому что когда общее дело – своими заслугами на других не замахиваются...
– А я и не замахиваюсь. Куда там замахиваться – обороняюсь я. И главный ваш командующий тоже об себе не промолчал бы, когда в его бы ткнули, объявили – он враг, и никто больше! И ты не промолчал бы! И любой и каждый из вас! Когда меня колчаки схватили бы и сказали мне "враг", я, может, и промолчал. Очень может быть. А тут как молчать? Тут все об себе вспомнишь, как на белый свет родился – и то вспомнишь!
– Зря стараешься! – сказал Брусенков. – От меня тебе не оборониться. У меня наступательный дух – на десятерых таких, как ты, хватит.








