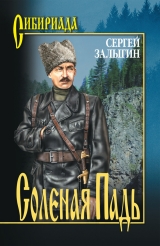
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ниночку Дора окунала в озеро, будто легче становилось ребенку. После кормились они все. Без горячего кормились, хлеб оставлен ей был, масло топленое в туеске, лук зеленый и соль. Был спичек непочатый коробок, но огонь Дора боялась разжечь.
Нынешнего дня почему-то боялась страшно. Только бы кончился он, проклятый, скорее, только бы тьма наступила!
Он все не кончался, тянулся все...
Дора о жизни, о людях думала, думала. А что о ней думать, как обо всей о ней думать, обо всех людях, когда сороки и той до смерти боишься?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
"Вот, Ефрем Николаевич, товарищ главнокомандующий, вот и довоевался ты! – сказал Мещеряков сам себе, войдя в новое помещение штаба армии. Довоевался! Служить уже начал! То была одна война, теперь еще и служба! Как-то управишься?"
Он подумал так, Мещеряков, потому что его поразило новое помещение: с коридором, с дверями в разные комнаты, с часовыми у дверей. Даже со стуком очень необыкновенным. Он прислушался – это пишущая машина стучала за одной из дверей. Не бойко, изредка голос подавала, но – упрямо.
Эскадроны Мещерякова прибыли в Соленую Падь под вечер второго сентября, когда суд шел на площади, а на следующий день – то есть вчера – Мещерякова в селе уже не было. Он был в полках.
Верхом ездил, пешим ходил и бегал, расстегнув гимнастерку на все пуговицы. Жарко было вчера... Он ругался, наганом на кого-то грозился, приказы отдавал, назначения командного состава делал. Все было. До глубокой ночи, до утра почти.
Переспал час-полтора, но сон слишком короткий, что ли, – отдыха не дал. До сих пор казалось – вот сейчас снова ему бежать, снова ругаться, позиции выбирать, баб каких-то с позиций к чертовой матери прогонять, чтобы не ко времени не путались.
Но сегодня не то было...
Сегодня надлежало ему явиться сначала в свой собственный штаб армии, а потом еще и в главный штаб.
Как этот самый главный штаб правильно называется, до сей поры было неизвестно. Кое у кого спрашивал – называли всяко: главным штабом Освобожденной территории, и штабом народного восстания, и штабом республики Соленая Падь, и штабом краснопартизанской республики. И армию по-разному называли: партизанской, народной, красной.
Правду сказать, так и в Верстове, в партизанском Питере, тоже армию кто как называл, но здесь уже придется, по всему видать, этим делом заняться круглые печати нужно сделать, исходящие бумаги выпускать под номерами.
За сутки, которые Мещеряков отсутствовал, штаб ему оборудовали добрый. Сельский комиссар Соленой Пади, должно быть, расстарался – товарищ Лука Довгаль. Выделил помещение бывшего Кредитного товарищества.
Во всей Соленой Пади только один Лука хотя и не очень сильно, но все-таки знаком был Мещерякову: летом приезжал в Верстово. Представителем приезжал. По вопросу о слиянии двух освобожденных территорий и двух армий.
И еще – собственный начштаба армии тоже постарался. При входе Мещерякову отрапортовал комендант, объяснил, что он же является командиром охраны штаба и комендантом Соленой Пади. О таком Довгаль не догадался бы. Один не догадался бы сроду, тут человек военный нужен, чтобы так устроить.
Разведка, отдел снабжения, оперативный отдел, канцелярия – все имели комнаты, а начальнику штаба и главнокомандующему комнаты были отведены одиночные. Закрывайся, сиди – никто не узнает, чем занят, что делаешь. Спать и то можно.
В комнате главкома – стол, накрытый красным, на столе стекляшка-чернильница, ручка с пером. У стен – два стула, две табуретки и в углу прислонены две доски. Положи эти доски на табуреты – получится вдоль стены скамейка. Можно вызвать к себе штаб целиком – и все рассядутся, никто на ногах толпиться не будет.
У окна, в углу, – железный шкаф, на ручке шкафа на засаленном кожаном ремешке – ключ, а внутри, на полках, лежала бумага. И много.
Неплохо тут с бумагой жили, в Соленой Пади. В Верстове по-другому было: как написать чего, то и посылаешь Гришку Лыткина разжиться лоскутком.
Вообще-то штаба настоящего у Мещерякова до сей поры не было. Где сам там и штаб его. Всякий раз как в помещение новое заходишь, так и глядишь, куда окошки направлены. На случай, если выходить через них придется.
И Мещеряков внимательно осмотрел бывшее Кредитное товарищество: окна выходили в переулок, напротив дом – длинный, приземистый и угловой, другой стороной выходит уже на площадь. Это Мещерякову не понравилось. Он вызвал коменданта, велел узнать ему, кто в том доме живет, чем занимается, и держать одного часового на углу, чтобы тот замечал, кто в дом с площади заходит.
А вот выхода из помещения штаба было два: один с улицы, парадный, а другой – во двор. Чтобы не держать две охраны, второй был уже заколочен, только слишком крепко заколочен. Мещеряков и тут распорядился: впредь вторые двери держать закрытыми, но так, чтобы в любую минуту их изнутри можно было распахнуть.
Двор был хороший – просторный, с колодцем, с конюшней и с завозней, со стороны огородов замыкался складским помещением. В помещении теперь находилась охрана штаба и часть пулеметной команды. Тоже правильно. До холодов вполне в складе можно было жить, а поставить печурки – и зиму скоротать.
Осмотрев это все, Мещеряков снова вошел в свое одиночное помещение. Сел. Повертел ручку, перо обмакнул в чернильницу, на чистом листке бумаги расписался несколько раз. Потом росписи свои зачеркнул и подумал: "До чего эта война только не доведет? За столом сидишь с чернильницей!"
Из главного штаба принесли сводки.
Беремя принесли бумаг, и посыльный сказал еще, что товарищ Брусенков ждет к себе товарища Мещерякова по важному делу в главном штабе.
– По делу, о котором товарищ Мещеряков сами знают! – сказал посыльный, а Гришка Лыткин стоял подле него.
Он так считал, Гришка, что каждого, кто в комнату к главнокомандующему войдет, он обязан сопровождать и строго за посетителем глядеть. Чтобы вывести посетителя обратным ходом, если тот сам долго не уходит.
Посыльный ушел быстро, Мещеряков разъяснил Гришке, чтобы он с каждым посетителем не входил к нему, вообще не входил, покуда его не позовут.
Оставшись один, прочитал сводки, сердито постучал по бумаге кулаком:
– Вот тебе, Ефрем, начало... Всем надо, чтобы как у людей было бы. И сводки чтобы были, и победы чтобы в них значились совершенно обязательно. Вот оно, начало, – без побед служба никак не может. Боится она, когда нет побед. Верно ведь, когда поражение и даже просто успеха нет, каждый может легко сказать, что и он так-то смог бы сделать, даже лучше. Без начальства смог бы обойтись не худо!
И вот старается главный штаб, товарищ Брусенков, – хорошо видать, как старается победу возгласить! Только сквозь старание это сильно заметно дела плохие до сих пор у Соленой Пади, у республики, или Освобожденной территории, как называется она, – это в данном случае все равно. И никто не хочет в этом признаваться. Наоборот – все хотят провозглашать победы!
На второе число сентября месяца информационный отдел главного штаба имел следующие сводки.
По Легостаинскому району:
"В ночь на второе сентября наш полк напал на находящуюся в поселке Моховой Лог белую банду из легионеров четыреста человек, разбил ее, забрал семь возов патронов, воз гранат русских и английского образца и обоз с награбленным имуществом. Бандиты бежали для соединения с другими своими отрядами".
По Знаменскому району:
"Двадцать девятого августа противник, сгруппировавшись в отряд численностью около тысячи пятисот пятидесяти человек, при четырех орудиях повел наступление на село Знаменское и после двенадцатичасового ожесточенного боя был обращен в бегство. Захвачены пленные. Много патронов, пулеметные ленты, а также отбиты подводы с награбленным крестьянским имуществом, как-то: самовары, швейные машины, подушки и пр."
По Семенихинскому району:
"Противник численностью около тысячи пятисот человек, при трех орудиях, повел наступление на деревню Каурово, после суточного ураганного боя противник вынужден был отступить с большими потерями".
По Моряшихинскому району:
"Противник до двух тысяч человек, при двух трехдюймовых орудиях, повел наступление на село Ново-Оплеухино и временно им овладел, после чего был выбит в обратном направлении. По частным сведениям жителей выяснилось, что противник сжег своих убитых в двух мельницах, а раненых, пятьдесят две подводы, на которых было по пяти человек, отправил в направлении на станцию Елань. Выяснилось, что изнасиловано оказалось около тридцати женщин, среди них двенадцать девушек. Зарублено и искалечено мирных жителей семнадцать человек и казнен тринадцатилетний мальчик.
Трупы семидесяти партизан и восемнадцати жителей, итого восемьдесят восемь человек, сегодня в шесть часов похоронены в одном месте".
И еще по двум районам были такие же сведения, как две капли воды друг на друга похожие: противник силами в полторы-две тысячи человек занимал села, но тут же был из них выбит...
Вот это и не радовало Мещерякова – сходство сводок со всех районов.
В коридоре нового штаба уже толкался военный люд: все больше шли к интенданту армии, просили оружие, обмундирование, обувь, медикаменты – чего только не просили!
Ну, а интендант отправлял просителей к начальнику разведки: тот знает, где и какие у противника расположены склады и запасы, и еще другие ему известны сведения – скажет по секрету. После добывайте сами.
Собственная связь у штаба армии уже налаживалась. Не позже как к утру завтрашнего дня связь такой будет, какой должна быть: чисто армейская, гражданским властям, Брусенкову не подчиненная... В каждом населенном пункте – два-три вооруженных нарочных на хороших конях, в каждом значительном подразделении – то же самое. Конники галопом и доброй рысью проходят свой перегон за час, много – за полтора, по цепочке передают донесения в штаб армии, обратно увозят приказы, и в самые отдаленные участки фронта приказы эти прибывают в течение дня.
Наладится связь – не будет таких вот сводок: белые наступают, отбиты, отступают...
А куда, спрашивается, отступают? По каким дорогам?
Как бы не вчерашняя отлучка – сегодня у Мещерякова собственная связь работала бы безотказно.
Связь – она не только ведь сама по себе важная, она дисциплине родная мать: каждый командир знает, что он хотя и далеко, а на глазах у главнокомандующего, знает, что всякий день ему нужно перед штабом армии отчитаться, что его сводка и любое сообщение если в них набрехать, то сейчас же это и выяснится, выяснится просто – его нынешнее сообщение со вчерашним сравнят и с завтрашним и еще с донесениями соседних частей, с данными армейской разведки. Брехня сразу наружу станет.
...Там отступают белые, здесь отступают. А ничего этого нет – есть белое наступление!
Очень просто. Они нынче сами научились по-партизански воевать, беляки. Офицеров-дворянчиков тоже кое-чему научили мужики-партизаны. Вот они на месте и не задерживаются, когда не удалось взять село с марша, так не берут его, а если и взяли – поживились пограбили, воинский поганый дух подняли и скорее идут дальше. На Соленую Падь идут, на главные силы партизанской армии. Им, верно, о состоявшемся объединении партизанских сил тоже известно.
Этот белый план Мещеряковым давно был разгадан, еще в Знаменской, на пути в Соленую Падь он его понял, а нынче в нем уже и секрета нет, он ребенку ясный – план генерала Матковского. А сводки все еще победу за победой трезвонят!
Одна была во всем этом отрадная мысль: генерал Матковский, надо думать, тоже не рассчитывал, что его колонны будут двигаться по десять верст в сутки, никак не более того. И что на маршах он будет нести серьезные потери, генерал тоже не знал.
Ничего не скажешь, бывший главком Соленой Пади, а нынче командующий фронтом товарищ Крекотень делал для Мещерякова хорошую передышку, придерживал и трепал белые колонны на дорогах, и верстовские отряды бывшего мещеряковского подчинения тоже без дела не сидели. И, пользуясь передышкой, Мещеряков здесь должен теперь быстро организовать надежную оборону.
Но и это еще не все. Когда колчаковцы имели нынче хотя бы и частный неуспех, потому что сроки решающего сражения за Соленую Падь, которые они сами назначили, наверняка давно уже прошли, а партизанская армия все-таки имела относительный успех – то и надо было это положение использовать. До конца. Тут были возможности.
Задумался Мещеряков. Может, и не задумался – просто ждал. Ждал, когда само по себе что-то в голову придет.
Это с ним бывало, и даже не редко... Бывало, вот-вот уже начало боя и план у него есть, давно уже выработанный план боя, но он вдруг сам этому плану перестает верить. Знает: сейчас должно еще осенить.
"Раз!.. Два!.. Три!.." Передохнет и снова: "Раз!.. Два!.. Три!.." Посчитает на несколько заходов, и – что ты думаешь? – вот тут-то и явилось новое решение! Предстало во всей красе – бери его, осуществляй! Сразу и догадаешься, как ложный маневр сделать или засаду, где расположить резерв для решающего удара...
И не напрасно Колчак назначил за Мещерякова – за живого или за мертвого – хорошую сумму. Дальше этой обещанной суммы у него не шло, а все ж таки в ценах она, буржуазия, толк понимает! Знает за Мещеряковым его секрет – в решающий момент быстро сообразить, как ее, буржуазию, надо бить!
Противник-то это знал. А вот перед своими Мещеряков не хотел проговориться. Когда его спрашивали, как додумался он сделать маневр, да и весь бой в свою пользу, отвечал всегда одинаково: "Давно продумано было. И такой план был загодя продуман, и другой, и третий..." А что, в самом деле, неужели каждому признаваться, как перед самым боем все еще считал: "Раз! Два! Три!"?
Но в помещении, в отдельной комнате, что-то не получалось – хорошо придумать. Или народа не хватало ему, крику, шуму и гвалта? Или еще чего? А может, просто-напросто задача стояла нынче очень большая, стратегическая задача, решающая для всего хода военных действий?
И Мещеряков встал, начал по комнате ходить взад-вперед, закладывая руки то за спину, то пряча их в карманы галифе, то складывая на груди. А потом вот что случилось – он снова сел, так, ни для чего, выдвинул ящик стола, а в столе, оказалось, лежит коробок с цветными карандашами!
Он тотчас крикнул из коридора Гришку Лыткина, велел ему узнать, откуда взялись карандаши, кто доставил.
– А это вчерась лично доставили вам, товарищ главнокомандующий, начальник главного штаба товарищ Брусенков. Я знаю! – ответил Гришка.
– Да ну-у! – сильно удивился Мещеряков. – Это кто же мог подумать, а? И как будто даже упрекнул себя в том оттенке недоверия, которое возникло у него к Брусенкову с первой же встречи. – Ну, ты иди, Григорий, иди! Не толкайся здесь, не мешай!
Правда, еще подумал: может, это были карандаши бывшего командующего армией Соленой Пади товарища Крекотеня? В таком случае ему, товарищу главнокомандующему, их иметь и вовсе положено.
Гришка ушел.
Мещеряков вынул из планшетки карту, рассыпал на столе карандаши, из железного шкафа достал большой лист чистой бумаги...
Навалился всем телом на стол. Папаху покрепче надвинул на лоб. Поплевал на пальцы.
Прежде всего нарисовал кружок черным карандашом и написал сбоку печатными буквами: "Сол. Падь". Он за собой знал – печатные буквы у него всегда красиво получались.
А дальше пошло и пошло дело: дороги изобразил, села на дорогах, положение частей противника, о котором так или иначе можно было судить по сводкам, расположение частей партизанской армии. В масштабе сделал – вдвое увеличил на листке все размеры против карты.
Получилась полная диспозиция на 1 – 2 сентября 1919 года.
В последнее время в армии Мещерякова такая работа делалась, но только как? На худеньком листочке, карандашом в один цвет, и делал все это не Мещеряков, а его начальник штаба.
А нынче он сделал сам. В германскую войну чем только не приходилось заниматься саперу и телеграфисту Мещерякову при штабе армии, при других штабах и в полевых частях! Приходилось и диспозиции для начальства копировать, а нынче пришлось для себя самого.
И еще, он вынул из планшетки компас и, глядя на него, нарисовал на листке стрелки "север", "юг". Вот так! Вот и понятно, почему капитал сроду не хотел грамотных мужиков и пролетариев: дай им настоящую грамоту, они сами собой запросто и с войной и с жизнью управятся!
А что, если бы у Мещерякова имелась не одна-единственная карта-десятиверстка, имелось бы их без счету, как у полного генерала, к примеру?
Он бы на листке диспозицию уже не рисовал, не пожалел бы настоящую карту, и на нее, на готовую, нанес бы расположение своей армии и армии противника. Еще и от себя нанес бы на карту иные перелески, овраги и дороги, которые землемеры в свое время то ли не заметили, то ли инструмент их подвел, то ли они, выпивши, некоторые места на карту снимали. Рассказывают, такие случаи тоже бывали. И не так уж редко...
Это какая на карте была бы диспозиция?! А? Ну, и свою нынешнюю работу тоже хаять вовсе ни к чему!
Карандашей было восемь штук: белый, черный, красный, зеленый, коричневый, желтый, синий, фиолетовый. Все разного роста.
Он ими порисовал, и они сразу будто привычными стали, уж привязался к ним. Разложил их по росту и сказал: "Ты, черт!" Потом подумал: "Кому это сказано-то?" То ли белому карандашу, который был не зачинен вовсе и самый длинный, то ли красному за то, что он самый коротенький? Красный, значит, всегда в большом ходу, всем и каждому необходим, а белый ни однажды не понадобился. Белый для чего только нужен? Зря материал на него переводится, и место в коробке он занимает – на это место другой можно было положить, хотя бы еще один красный, либо коробок сделать чуть поуже, тоже выгода...
Тут-то и начала настигать Мещерякова одна мысль. Не до конца, но главное, что начала...
Генерал Матковский, начальник тыла верховного правителя Колчака, навязывал Мещерякову свой план кампании... Генерал, верно, спит и видит, как заставит он партизанскую армию перейти к обороне, к делу, для нее вовсе не привычному. Загонит партизан в окопы, сам же начнет играть своей артиллерией по этим окопам, по избам Соленой Пади. Прямой наводкой играть...
А что же Мещеряков? Хваленый главнокомандующий? Он вот что, – он хотя на марше устраивает белым колоннам трепку, но в целом генеральскому плану подчиняется, готовится к обороне Соленой Пади...
Покатал Мещеряков все до одного карандаши под ладонью. И еще раз покатал – карандаши тарахтели, будто маленькие пулеметики. Под эту игрушечную стрельбу Мещерякову очень захотелось и еще остаться тем, кем он до сих пор был – партизаном. То есть в оборону не переходить, контрнаступать, трепать белые колонны на марше и там и здесь, а потом разбить их на подступах к Соленой Пади окончательно. Не дать главной силе противника – артиллерии – сыграть свою роль...
При такой полной для противника неизвестности можно даже у него артиллерию отбить... Хотя бы – несколько пушек.
Сражения – внезапные, быстрые, победные – Мещерякову ясно представились.
Но как к ним подойти, к таким сражениям?
Быстрые маневры нужны, неожиданность... Нужно обеспечить скрытную переброску группы контрнаступления с одного направления на другое. Использовать местные ополчения. Они дрались бы, ополченцы, хоть и старики, хоть и мальчишки, – каждый за полного солдата, потому что бой шел бы всякий раз не за чужой какой-то, а за их же собственный населенный пункт!
План заманчивый.
Чисто партизанский.
Но тут надо было решиться!
Или сделать на этот план ставку, выполнять его всеми наличными силами, и когда получился бы успех, то получился бы он полным и блестящим – потерь понесла бы партизанская армия самое малое количество, оборону Соленой Пади и вовсе не пришлось бы держать, не ставить село под испытание, под белый артиллерийский огонь, неизбежный даже при самом лучшем исходе. Но зато уже и в случае неуспеха Соленую Падь оборонять вовсе будет нечем, попросту придется сдать ее. На растерзание сдать...
Еще можно было план этот выполнять лишь частично, главную же ставку по-прежнему делать на оборонительное сражение и только выделить группу контрудара, ослабить противника на марше, чтобы он подошел к Соленой Пади уже сильно потрепанным, чтобы еще до решающего сражения сопли и кровь по морде уже размазывал бы.
Но тут красота уже не та! Вовсе не та! Так ли, иначе ли, а белые успеют прихватить Соленую Падь огоньком. Ребятишек побьют. Баб тоже.
Как быть?
Какое принять решение?
Сводки не подсказывали Мещерякову ни слова. Молчали...
И он крикнул Гришке Лыткину, дремавшему в коридоре, чтобы тот позвал начальника штаба.
Начштабармом вот уже месяца два был у Мещерякова штабс-капитан царской службы, и, видать, вовсе неплохой штабс-капитан. Но ко всему еще он был давнишний партиец, отбывал за это каторгу в Забайкалье. Когда произошел Октябрь, воевал там за Советскую власть, а когда Советы побило контрреволюционное казачество – явился к Мещерякову и здесь тоже воевал. Явился он из города по приказу подпольного комитета партии, но не очень об этом рассказывал – знал себе воевал. Фамилия его была Жгун.
Жгун пришел с рукой на перевязи, это по нему еще в Забайкалье контрреволюция стрельнула картечью, с тех пор никак не могли вынуть осколок из локтевого сустава, а вредный был осколок – успокоится, после снова гной и кровь из сустава гонит. Жгун – седой, высокий, худущий – встал перед Мещеряковым по-военному, кашлянул.
– Прибыл по вашему приказанию!
Мещеряков подал Жгуну составленную цветными карандашами диспозицию, велел с ней ознакомиться. И карандаши на стол положил.
Начштабарм ознакомился, спросил:
– Ты и это умеешь?
– А что же!
– Какие будут сегодня распоряжения?
Мещеряков велел начальнику штаба срочно составить приказ всем командирам частей, чтобы они донесли: подробно о боевых операциях последних дней, о всех направлениях, по которым отступает противник, выходя из боя, при каких обстоятельствах противник от боя уклоняется, на сколько верст продвинулся за последнюю неделю, имеется ли связь между соседними колоннами противника, насколько надежная и как осуществляется? Можно ли эту связь прервать?
Жгун быстренько все записывал на бумажку, потом спросил:
– Приказ будем посылать через Крекотеня?
Вопрос был не простой.
Тут сказывалось положение, которое сложилось нынче в объединенной армии: главнокомандующим был Мещеряков, командующим фронтом – Крекотень, но фронт-то в армии был нынче один-единственный, в нем вся армия состояла. Не очень складно, однако Соленая Падь пошла на слияние только при условии, чтобы Крекотень оставался самостоятельным командиром.
Мещеряков подумал и сказал:
– Пошли всем действующим отрядам и Крекотеню тоже пошли. И чтобы он знал: послано всем. Не делай от него тихо.
– Ясно! – кивнул Жгун седой своей головой и виду никакого не показал. А он-то всегда был против этого условия Соленой Пади, считал должность командующего фронтом вовсе не нужной. – Разрешите к вам вопрос.
– Давай!
– Разрешите, товарищ главком, еще от себя расширить круг вопросов?
– Расширяй! – ответил Мещеряков. – Только не сильно. Чтобы полковые командиры не запутались бы в этом круге.
– Разрешите идти?
– Подожди... – Мещеряков помолчал, наклонился к Жгуну и тихо, быстро сказал ему: – Прикажи всем командирам частей срочно выяснить, сколько в каждом селе на пути предполагаемого следования белых возможно временно отмобилизовать конных подвод? Так отмобилизовать, чтобы ни одной бы хоть сколько годной кобылы и ни в одной ограде, ни на пашне не осталось бы. Сделай это, чтобы каждый командир подумал, будто только ему одному такой пункт предписано выполнить! Одному, а никому больше. Только к его району действия и есть у нас этот особый интерес. Сможешь?
И опять Жгун глазом своим острым, колючим не дрогнул, не повел. Кивнул, в бумажке сделал пометку.
– Все?
– Теперь все!
Жгун откозырял и ушел.
Э-э-эх, мать честная, что значит военная-то служба! Во всей армии один, верно, только Жгун это до конца осознает и понимает. Во всей армии только на него на одного и можно самому глядеть, чтобы это понять. Доведись до любого – сейчас вот и вытаращил бы на тебя глаза: "Как? Почто? Для чего? А-а-а, так вот что ты удумал, товарищ главнокомандующий! А ведь неплохо и удумал!" И пошла бы, чего доброго, эта новость до той самой бабенки, которая нынче на площади в Мещерякова глазами стрельнула! Весело так, прицельно стрельнула, шельма! Видать сразу – ей война нипочем, она свое дело знает.
Мещеряков поднялся из-за стола, прошелся по комнате, постучал пальцами по огромному железному ящику, оставшемуся в комнате еще от Кредитного товарищества. "Денег поди в этаком перебывало – мильон!"
Еще подумал: проделать в ящике дырку и установить на позиции. Под ним окопчик сделать, поставить пулемет и стрелять с пулемета через то отверстие. Вот будет бронеогневая точка! Только окопчик нужно бы сделать чуть подлиннее ящика. На случай, если противник все-таки приблизится – выйти из-под него и, оставаясь в окопе, метнуть гранату!
После этого Мещеряков и еще стал читать гражданские донесения с мест. Их множество было, и все самые разные.
Из села Тимаково сообщалось:
"Тимаковское народное восстание просит вас, товарищи из всех окрестных деревень, немедленно приступить к повсеместным восстаниям и поторопиться бы прибыть в села Тимаково, Чивилиху, Зубоскалово для поддержания наших сил.
Начальник Тимаковского
народно-военно-революционного штаба
Сизиков".
Из села Семиконного:
"Доношу начальникам штабов Тимаковского, как и Чивилихинского, что мы согласные отдать все свои силы товарищам на борьбу против Колчака, так как они имеют малые силы, просили присоединиться к ним повсеместно, в согласии умереть за одно общенародное право и Советскую власть, о чем и доношу в хорошем настроении все благополучно.
Начальник отряда
Агеенко".
"Товарищи и товарищи села Семиконного! Услыхали мы великую радость, что у вашего села идет спешная организация и мобилизация. Великая для нас радость. Чувствительно благодарим за вашу спешную организацию. Товарищи! Не теряйте время ни минуты. Пожелаем вам хорошего начала и успеха в настоящем восстании и еще несчетно раз благодарим всех вас, товарищи. У нас пока идет дело. Сегодня была стычка с белыми, жертв мало, а у нас есть белые в плену.
Начальник Тимаковского
народно-военно-революционного штаба
Сизиков".
Из села Коротково:
"Поднято Красное Знамя".
Из села Колосовка:
"Разбит отряд под командованием прапорщика Абрамовского. Прапорщик Абрамовский расстрелян. Задержано семьдесят шесть правительственных лошадей. Конвоиров в количестве двадцати трех взяли в плен.
Днем 29 августа было предложено находящемуся под арестом Никифору Савельевичу Несмеялову дать взаимообразно на дело революции поддержку деньгами, которых и было дано пятьдесят пять тысяч.
Спрошены были жители: "Желают ли они защищать себя от белых и как набрать армию?" Изъявилось добровольно мобилизоваться молодое сознательное и политически благонадежное крестьянство призывов с 1917 по 1908 год включительно.
Реквизировано стадо рогатого скота в числе семидесяти трех голов жителя села Чернодырино Сумарокова, которое гнали в направлении города.
Начальник Колосовского отряда
Бородулин".
Из села Полтавка:
"Ночь и день прошли спокойно".
Из села Черный Бадан:
"Получено известие: казачьи станицы Муровая, Булашиниха, Суликова добровольно сдают оружие нашим представителям. Остальные покуда воздерживаются".
Из действующей армии:
"Доводится до всеобщего сведения, что партизаном Мощихинским сложена песня под названием "Грозная пика":
О грозная пика сибирского люда!
Не ты ли оковы сняла?
Радость и слава настолько велика,
Что пика свободно росла.
О грозная пика! Ты вместе с борцами,
Ты вместе со знамем в бою,
Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!
О грозная пика! В бою с деспотизмом
Ты много от рабства спасла,
Ты иго вассалов, могуча и грозна,
Как вихрем, в пучину снесла.
О грозная пика! Пусть варвар запомнит,
Что пика с крестьянством сильна.
Крикну и я: "Здравствуй, пика всесильна,
И вечная слава твоя!"
Из села Московки:
"Объявляется, что во время набега белой банды на село Московку московским председателем был утерян пиджак, а в нем в кармане находилась печать Московского волостного исполнительного комитета. По возвращении председателя в село Московку пиджак и печать не найдены, которую просим считать недействительной".
...Мещеряков читал – ясно ему все представлялось. Даже и те деревни, которые в донесениях были упомянуты и которые он никогда не видел, появлялись перед ним, как настоящие. И люди, о которых донесения сообщали, которые их подписывали, тоже в один момент возникали и живые и уже убитые. И даже скотина, семьдесят три головы, реквизированная, и та будто мычала и табунилась где-то тут, за окном. Хороший был признак: когда вот так живо все видишь, даже невидимое, далекое, – это к удаче.
Насчет того, что казачьи станицы Муровая, Булашиниха и Суликова оружие сдали, а остальные все покуда воздерживаются, он крепко задумался...
Как бы казачишки эти не ударили с гор. Служивый народ. Да и какой вообще это народ, когда он только и знает, что служит? И мало того, еще службой своей хвастается? Служба его вперед всего интересует. В мужицкой деревне отслужил человек, домой вернулся, про него и забыли, кто он был унтер, или фельдфебель, или рядовой. Выпьют, так младший чин старшему морду побьет, о старшинстве не подумает.
У казаков не так. У них и в мирной жизни урядники, полусотники-сотники друг перед дружкой чуть что не строевым шагом ходят, и девку выдать замуж, так сперва глядят – какой командир свекром ей будет. Будто в этом для нее все счастье и состоит. Романовы-цари сделали либо до них кто придумал: наделили казачишек большой землей. Чины сибирские казачьи – двести, даже пятьсот десятин имели. На рядовую душу и то отводили по тридцати десятин. А те – богато наделенные – сдают землю арендаторам, и своим, и неприписным крестьянам, и старожилам.
И нынче казачишки эти воюют не столько с Колчаком, сколько между собой режутся. Фронтовики вернулись домой, пороху нанюхались досыта, больше не хотят, от колчаковской мобилизации уклоняются, а вот которые дома сидели, старшие уже возрасты, те за белую власть горой, обещаниям ее верят и подачками дорожат.
Так вот и получилось у них, у казаков, – фронтовики режутся с тыловиками, бедные с богатыми. У служивых издавна ведется: любое дело начинают ли, кончают ли – междоусобная свара для них прежде всего другого...
Конечно, и везде-то есть такое, и в Соленой Пади, и в Верстове, но то по крайней только необходимости, а вовсе не поголовная резня стоит. Это колчаки раздувают, кричат, будто крестьяне нынче идут одно село на другое, сын на отца. Им это выгодно кричать, колчакам, не признаваться, что, кроме казачьих станиц, – ни одно село в степи за ними не пошло.








