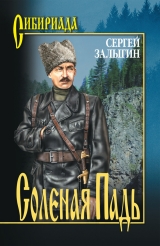
Текст книги "Соленая Падь"
Автор книги: Сергей Залыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ты вот что, – перебил финансиста Брусенков. – Ты скажи главному о реквизициях, о конфискациях, о контрибуциях – ему военными его силами всем таким приходится заниматься, – и пусть он знает, какой на это существует у нас порядок!
– Законность такая: конфискуйте, но за присвоение – расстрел. Делайте исключительно и только через комиссию. Что еще? Бывшему владельцу имущества от лица комиссии выдается расписка. Кончатся военные действия – многим оплатим обратно. Кроме злостных. Что еще? Расписки эти считаются совершенно как облигации займа. Нужно сказать: белые, у кого находят подобные облигации, тут же жестоко расстреливают. Деньги находят – ничего, за облигации абсолютно не щадят. И население, когда видит быстрое приближение белых, истребляет наш заем. Так что оплачивать его придется далеко не полностью.
– Правильно! – подтвердил Брусенков и еще сказал: – Он у нас, наш товарищ финотдел, дело знает, ничего не скажешь, только вот...
Мещеряков сел на стул, вынул из кармана гимнастерки трубку.
– Пускай разговаривает!
И завотделом, глянув на Брусенкова даже чуть насмешливо, продолжил про Панковскую волость:
– Начали они – в город сделали налет, захватили банк. А в банке денег не оказалось – белые вывезли. Захвачены были карандаши, бумага и две самопишущие машины...
Окна финотдела выходили во двор бывшей кузодеевской торговли: бревенчатая стена амбара замыкала двор с противоположной стороны, сбоку был огород с невысокой городьбой, в огороде – беседка. Садовая беседка – и в огороде. Смешно! Но так, значит, нравилось бывшему владельцу второй гильдии купцу Кузодееву.
Замечая все это, Мещеряков ничуть не терял интереса к рассказу. Пригляделся – моргает завфинотделом, оказывается, будто и не зря – умно моргает.
– И сделали тогда панковские свои собственные мучные рубли, – продолжал финансист и небольшими ручками показал этот рубль. – На керенском, на романовском выпуске – это им уже абсолютно все равно – рубли погасили, пуды поставили. Обеспечили подобное денежное наличие действительным запасом зерна в общественных магазинах. Но послушайте: опять богатый как имел больше хлеба, так и остался богаче других. Тогда они что поняли: муки запаса нет ни у кого. Мука сама по себе уже не хранится, а у кого все-таки был запас – они знали, произвели конфискацию. Конфисковали также и мельницы и стали молоть исключительно и только на мучные рубли. Стал мучной рубль подлинной ценностью. И чтобы увеличить ему обращение, они соль с завода на него исключительно и только отпускали. После всю наличную торговлю на него же перевели. И никто мучных рублей мешками уже иметь не мог, все крайне бережно к нему относились.
– Политика! – засмеялся Мещеряков.
– Политика! – подтвердил завфинотделом. – Только без золота... Золото ты, товарищ главнокомандующий, отдай нашему военному отделу. Там оно, может, и пригодится!
– Какому, какому? – быстро переспросил Мещеряков.
– Военному, товарищ главнокомандующий, – пояснил Брусенков. Пояснил, не оглядываясь, – он прикуривал от цигарки Коломийца. Прикурил, повторил еще раз: – Военному!
– А есть и такой у вас отдел? Есть?
– У нас – есть, – подтвердил Брусенков. – Ввиду военного времени, так он самый большой. Без него главный штаб – не штаб. Тем более не главный.
И Брусенков вышел в коридор. За ним и все вышли.
– Интересно-то как! – тоже ни на кого не глядя, проговорил Мещеряков. А почто же отдел этот не был, когда мы окончательный протокол нашего объединения подписывали? Когда он – самый крупный? Ввиду военного времени... И ведает, думать надо, военными делами?
Брусенков еще раз затянулся неразгоравшейся цигаркой.
– А некому было присутствовать – начальник отдела на позициях находился в то время. Вместе с товарищем Крекотенем находился он. С командующим фронтом.
– Так! – кивнул Мещеряков. – Так. Ну – пошли в военный отдел. Где он тут у вас?
– А он совсем не на пути. Посетим юридический, труда и народного хозяйства, информации и агитации, тогда уже – самым последним – будет военный.
– Предлагаю порядок этот изменить. Для меня главное то самое и есть, что у вас в конце числится. – Мещеряков остановился в коридоре, повторил: Где, спрашиваю, военный отдел? Ну!
И все остановились. Брусенков – как раз напротив Мещерякова, руки в карманы, Тася Черненко – справа от него, Коломиец – слева, Довгаль – чуть впереди, у противоположной стены коридора. В коридоре было полутемно, торопливо проходили мимо какие-то люди. За дверями слышались чьи-то голоса...
– Слушай, Ефрем, – сказал Довгаль. – Давай нарушать не будем! Военный отдел потому намеченный последним, что тебе с ним делов больше, как со всеми другими вместе. Ты в нем и останешься, будет надобность, а мы сможем уже быть свободными, то есть уйти каждый по своим местам. Вот так. Просто.
– Где военный отдел? – повторил Мещеряков.
Ему никто не ответил. Тогда он шагнул вперед, слегка отстранив Брусенкова, и открыл ближайшую дверь. Войдя, спросил громко и требовательно:
– Какой отдел?
Из глубины комнаты неловко поднялся крупный человек, смуглый, бородатый, в расстегнутой почти до пояса рубахе, и не по-военному, но все-таки в тон Мещерякову так же громко ответил:
– Юридический!
– А где военный?
– Отсюдова – вторая дверь. И направо тоже!
– Ясно! – ответил Мещеряков и снова повернулся, а в дверях уже стояли его нынешние сопровождающие. Стояли, тесно прижавшись друг к другу, но не двигались ни туда, ни сюда. Потом к Мещерякову протиснулся Довгаль, положил ему руку на плечо.
– Слушай, Ефрем, – сказал он, – ты человек военный, и не с этого тебе надо начинать, не с нарушений и не с глупого упрямства. Нас четверо, членов главного штаба, и для нас такой порядок – хороший, тебе одному только он плохой, а ты знай к своему гнешь... – Посмотрев на Мещерякова еще, Довгаль вдруг улыбнулся: – И все одно – ты и сам вошел в юридический, куда мы все вчетвером тебя хотели сейчас завести. Ну? Поимей же терпение!
Мещеряков постоял, потом кивнул в сторону бородатого юридического работника. Обернувшись к Брусенкову, сказал:
– Спрашивай, товарищ Брусенков. Я послушаю. Спрашивай вот этого. Объясняй – что к чему?
У Брусенкова же все еще рябинки были чуть красноватые, брови сдвинуты над узким и длинным носом. Уголком рта он покусывал снова затухшую цигарку.
– А может, еще поупрямимся, товарищ главком? – спросил он.
– Ну, когда тебе так понравилось... – ответил Мещеряков, а Довгаль обернулся к Брусенкову:
– Это ты тоже брось, Иван!
– Где товарищ Завтреков? Заведующий? – медленно, будто нехотя, спросил Брусенков у бородатого работника юридического отдела.
– Он что – сильно тебе нужон? – спросил тот.
– Сильно.
– Тогда он в главной следственной комиссии. Дело гражданки Решетовой решает.
– Текущие все дела отложить надо отделу. Текущие – после. А нынче заниматься исключительно и главным образом подготовкой к съезду.
– Занимаемся.
– Мало. Мы, может, товарища Завтрекова не дождемся, тогда ему передай, не откладывая, чтобы пришел ко мне и сделал свое предложение обо всех наших названиях. Положить надо конец безобразию и неразберихе! – Голос был у Брусенкова уже как обычный – глуховатый, отрывистый, требовательный. Он сделал как бы выговор работнику и замолчал, а вступился Довгаль и стал объяснять Мещерякову:
– Ведь у нас как, товарищ главнокомандующий? У нас по сю пору кто как вздумается, тот так и называется. И Краснопартизанская мы республика, и республика Соленая Падь, и Освобожденная территория, и просто – народная власть! А взять хотя бы, товарищ главнокомандующий, твою же армию... Армия, а порядку в ней того меньше, она – партизанская, красная, народная, объединенная, крестьянская, верстовская, соленопадская, мещеряковская – это же все упомнить и то невозможно! Пишем документы, протокол объединенный подписали, а после и понять будет невозможно, кто ж все таки его подписывал? И когда прямо сказать, то более всего в этом виноватые мы – руководство. Тут скрывать нечего.
– Надо раз и навсегда решить и записать, – сказал Брусенков. – А для этого неотложно надо собрать съезд, во всем утвердиться и наперед всего решить – кто мы.
Мещеряков кивнул. И о себе подумал, что он тоже далеко не все нынешние названия знает и понимает. И для всех-то тут – лес темный. "Ладно, – подумал он. – Не вовсе уж зря я в этот отдел тоже явился". И он сам спросил у бородатого юриста:
– Еще-то вы чем занимаетесь? Кроме названий – чем? К примеру.
– К примеру, составляем уголовный и гражданский закон для Освобожденной территории – это раз... Утверждаем все положения о конфискационных комиссиях, равно и акты крупных конфискаций. Все другие отделы, кроме военного, когда они издают распоряжения всеобщего значения, то с нами эти распоряжения заодно и подписывают. Еще организуем суды – сельские и волостные. Надзираем за лагерями военнопленных, передаем их отделу труда для разверстки по крестьянским дворам как рабочую силу, принимаем жалобы граждан на неправильные действия народной власти...
Загибая крупные потрескавшиеся пальцы, работник юридического отдела продолжал и продолжал приводить примеры:
– Хотя если обратно сказать, то у нас есть и без конца и краю становится всяких комиссий по всяким вопросам – они отделам все менее и менее подчиняются, а все более и более лично вот товарищу Брусенкову. Потому что они именуются не просто так, а чрезвычайными, – еще сказал юрист. – Хотя бы и чрезвычайная юридическая.
Мещеряков ответил ему:
– Ну, существуйте! Делов у вас – вот! – и похлопал себя по верху серебристой папахи. – Пошли? Дальше? – обратился он к Брусенкову.
Но тот снова махнул рукой почти в самую бороду юриста:
– Как понимаешь свою главную задачу? Самую главную?
– То есть?
– Ну, со всей глубиной?
– Трудную жизнь живем нынче... Все надо предусмотреть. Все! На далекое будущее.
– А что это – все? – заинтересовалась Тася Черненко. – Это как вас понять? Скажите, мы выслушаем.
– Когда выслушаете, я бы объяснил так: делаем мы власть, после под нее делаем закон. А надо бы вовсе наоборот: сделать всенародным обсуждением закон, после призвать к нему власть, которая его блюла бы и свято исполняла и за это перед народом на съездах отчитывалась бы.
– А кто же сделает, по-твоему, самый первый закон, если не власть? От безвластия закон никогда не произойдет, – усмехнулся Брусенков.
– Самая первая власть и должна быть чисто законодательной, то есть выслушать народ, записать, какой он хочет для себя закон. После от власти уйти и никогда ею не быть. Ни при каком уже случае.
– Как дева Мария, – родить без власти законы, – усмехнулся Брусенков. А то еще хуже – как ровно ты по Учредительному собранию тоскуешь? Закон без власти надумал, а? Да я такой закон навыдумываю для кого-то там такой хороший, что его сроду не одна самая наилучшая власть не сможет осуществить! Получится одно беззаконие! Это вот и сейчас уже, на сегодня, каждому видно, что даже у нас в отделах люди не столь занимаются делом, как выдумывают... Один – с деньгами выдумывает, другой – хочет закон без власти... И так далее, без конца. Я когда тебя спрашивал, что самое главное должно быть в отделе, – я ждал, ты скажешь: укрепление новой народной власти! Вот что я услышать хотел. А ты? Не забыть надо сказать товарищу Завтрекову. Как фамилия-то?
– Проскуряков.
– Понял ты меня, товарищ Проскуряков? Сделал вывод?
– У меня вывод загодя уже был сделанный. То есть я знал – тебе, товарищ Брусенков, мнение мое вовсе не поглянется.
– И в этом ты вовсе правый, – согласился Брусенков. – В этом – да! Потому что твое мнение – оно не твое. Оно – к большому нашему сожалению, нерасстрелянному – Якову Власихину в первую очередь принадлежит. Вот кому. Вредные мысли – они живучие. Их кто-то заронит, и заботы нету, что они живучие, другим приходится их раскорчевывать!
– Так ты считаешь, это что же – ерунда? – удивился бородатый юрист.
– Я за это ручаюсь. Где только ты набрался подобных мыслей? Не на пашне поди и не в скотской ограде, а где почище?
– Набрался я этого, где погрязнее. Заседателем в судах и в волостном и в уездном сиживал. В буржуазном и в капиталистическом суде. И не один год. Там и набрался. А грозиться ты мне не грозись, товарищ Брусенков! Я на службе не у тебя и не у товарища вот главнокомандующего – у народа. Так же, как и ты. Мне народ – сход либо митинг – укажет уйти, я уйду, спасибо скажу за освобождение от службы. Пойду на свою пашню, к своей скотине. А покуда я служу своей головой, какая она у меня есть вместе с мыслями, и вы тут не то что стращать меня всем кагалом должны, а должны меня слушать и понимать!
– Ишь ты, – сказал Мещеряков, – ишь как ты нас бреешь! Чисто!
И опять, уже когда снова были в коридоре, Тася Черненко посмотрела на Мещерякова коротким, внимательным взглядом, который он, однако, тут же и поймал, сказала:
– Трудно подбирать работников! Очень трудно! И мало их. И те, которые есть, далеко не всегда сознательные...
В тон Тасе Черненко Мещеряков заметил:
– Ищут все нынче. Все и каждый. Не каждый знает, чего ищет...
– И ты? – спросила Тася, впервые обратившись к Мещерякову на "ты". – И ты ищешь, товарищ главнокомандующий?
– Мне просто, – ответил ей Мещеряков, – побить Колчака. И даже того понятнее – нынче же надо побить генерала Матковского. Все! Кому это не понятно?
Следующим был отдел агитации и информации.
Тут работники оказались налицо, и все они вместе с пришедшими расселись по столам, стульям и подоконникам, а Брусенков сказал Тасе Черненко, чтобы она читала документы, подготовленные отделом в последние дни...
Тася читала "Воззвание главного штаба ко всей трудовой интеллигенции".
– "На нашей общей обязанности лежит разрушить старый строй и создать новый, одеть голых, накормить голодных, обучить неученых, защитить несправедливо обиженных! – читала Тася. – Не верьте слухам, что мы грабители, что мы – тот "красный зверь", о котором вопит Колчак, будучи сам с ног до головы в невинной человеческой крови. Когда сто человек голодных отнимают у одного богатого пищу – это не грабеж, а справедливость. И на этом пути социальной революции политический жернов эпохи перемолол уже многих кумиров. Из Временного правительства, до сих пор милого многим вашим сердцам, он сделал пылинки и атомы, которые ссыпались в мешки забвения. Рабочие и крестьяне побежали от этого политического Вавилона, как мопассановский герой от Эйфелевой башни.
Техническая мощь извращенной прессы сдавила крестьянину и рабочему мозги, и только интеллигенция пошла за ним, как за вифлеемской звездой.
Прежде многие из вас, интеллигенты, звали мужика делать революцию, но дядя Иван гнал вас палкой: "Молчите, крамольники!" Но роли переменились, теперь Иван зовет вас: "Пойдемте делать революцию!" – а многие интеллигенты его палкой: "Молчи, крамольник! Это не революция, а пугачевский бунт!"
Товарищи, трудовая интеллигенция! Чтобы наше восстание в действительности было не похожим на бунт, вы должны быть с нами. Смело несите знания нам, восставшим за добро и правду! Целость ваших жизней и имущества гарантирована нашими приказами, запрещающими разбой и самоуправство!"
Тася кончила читать, все замолчали, и тут Мещеряков заметил – все смотрят на него. И еще он подумал, будто все, что делается нынче в главном штабе во всех отделах, делается для него, происходит испытание ему... Когда бы Брусенков и все другие этого не хотели, так и начали бы показывать штаб с военного отдела, который для главнокомандующего всего важнее, в котором он понимает и разбирается... Нынче какая-то идет с ним игра. Недомолвка какая-то во всем, что происходит. И сейчас, нет чтобы читать Тасе Черненко и дальше – все смотрят на него, ждут, что скажет он. "Так и есть – испытание! Соображаю либо нет я в ихних делах... Или солдатишка серый – "ура-ура!", а ни на что больше не способный!" – подумал Мещеряков. Спросил:
– Это кто же сочинил? – Обвел всех глазами, остановился на фигуре немолодого уже человека, который, сложив на груди руки, сидел на узком подоконнике, свешивая часть туловища за окно. – Ты?
– Я! – подтвердил человек с подоконника.
– Так это за тебя мы и голосовали в главном штабе? Тайным голосованием ставили тебя на должность? Пуговицы в ящики опускали?
– За меня...
– Ясно!
"Отгадал – правильно..." – вздохнул Мещеряков.
– Забыл – у тебя образование какое? – разговаривал между тем Брусенков с заведующим отделом.
– Систематическое – высшее начальное. А затем самообразование в книжной лавке.
– Дальше-то я уже знаю об тебе: двадцать годов приказчика в книжной лавке прошел. Двадцать годов! Это сказать, товарищи, так сколь университетов стоит? – Брусенков обернулся к Тасе Черненко, Мещерякова он миновал взглядом и весело так сказал: – И вот пошла эта служба впрок – гляди, как кроет! Правильно написано товарищем! Что непонятные слова – про звезду, про башню, про жернова – тоже правильно! Что она, интеллигенция, все понимает, что ли? Сроду нет! Когда понимала бы, то и нельзя было про нее написать, как здесь написано: то она Ивана звала на революцию, а тот не шел, а то Иван зовет ее не дозовется революцию делать! И тут разница большая – народ за несознательность винить хотя и нужно, но далеко не так, как интеллигенцию, поскольку она получила образование, и не для себя только, а должна отдавать его народу! И винить ее за это надо сильно и как можно больше. А еще говорить ей непонятные слова – она их любит, не может без их дня прожить!
И тут вдруг Мещеряков встал и пошел. Пошел в военный отдел. "Надо сделать – сейчас же встать и сейчас же идти. Идти одному, никого не дожидаясь!"
А встал даже раньше, чем так подумал.
В военный отдел быстро распахнул дверь – тотчас оценил обстановку.
Люди здесь были все побриты чисто – не иначе как утром нынче брились... Это значит – вчера знали о встрече с главнокомандующим. И столы по ранжиру стояли в отделе, и лампа керосиновая стояла на одном из столов – показывала, что люди тут и ночью работают, и, конечно, находилась лампа на столе у начальника.
– Здравствуйте, товарищи! – сказал Мещеряков громко.
Военный отдел – пять человек – встал, нестройно ответил на приветствие. Не по-военному ответил и не по-штатски. Ответил, замолчал. Чего-то ждали еще, не хватало им чего-то...
Вернее всего, не хватало Брусенкова. Они не думали, что Мещеряков явится к ним один – без сопровождения начальника главного штаба.
– Вольно! – весело так и насмешливо подал команду Мещеряков, потому что в команде этой не было необходимости – люди и так стояли "вольно", а не "смирно".
Потом на лицах сотрудников военного отдела исчезла растерянность, все враз вздохнули, и Мещеряков понял – позади него, в дверях, появился начальник главного штаба.
– Да ты проходи, проходи, товарищ Брусенков, – сказал он ему, оглянувшись. – Послушай о чем у нас тут пойдет разговор! Ты же член ведь нашей военной ставки!
И Брусенков шагнул с порога в комнату, а Мещеряков тотчас закрыл за ним дверь. В коридоре остались Довгаль, Тася Черненко. Им он сказал:
– А мы, товарищи, здесь враз и управимся! Ждать нас долго не придется!
Подошел к столу с лампой, спросил у полного, уже немолодого человека в гимнастерке:
– Заведуешь?
– Заведую! – ответил тот.
– Фамилия?
– Струков!
– В германскую кем служил, Струков? На каких фронтах? В каком чине, когда демобилизовался?
– Пехота. Был на Восточно-Прусском, после – на Юго-Западном. Прапор. Домой вернулся в октябре прошлого года.
Мещеряков спрашивал, Струков быстро и четко отвечал, не задумываясь.
– Какое это в данный момент имеет значение? – начал было перебивать разговор Брусенков. – Какое значение имеют твои вопросы, товарищ главнокомандующий?
А Мещеряков строго спрашивал и спрашивал дальше:
– В Луцком прорыве шестнадцатого года был?
– Случилось...
– Это какого же было числа, подожди, подожди?.. – проговорил Мещеряков, вспоминая. – Генерал Брусилов пошел в прорыв какого числа?
– А в мае, когда считать по старому календарю! – ответил Струков и начал вспоминать, как было дело, до тех пор, пока Мещеряков сам не перебил его:
– Коротко: для чего твой отдел существует?
Тут впервые Струков задумался. Посмотрел на Брусенкова...
– Ну, вот хотя бы мобилизация. Снабжение армии. Оружейные мастерские. Всё – наши вопросы... – стал отвечать наконец Струков.
– Для мобилизации в армии есть штаб. Для снабжения – отдел снабжения. В главном штабе Освобожденной территории есть отдел финансовый и конфискационные комиссии. Мне нынче показывали все это, чтобы я понял. Я и понял. Как надо разобрался. Не знаю только – зачем ты? И к тому же – по всем вопросам. Когда бы ты занимался, скажем, одной только мобилизацией, я бы и тебя тоже понял и распустил бы своих работников, которые мобилизацию проводят. А когда ты едва ли не всеми вопросами занимаешься – мне что же, весь свой штаб расформировывать, или как? Кроме разве что оперативного отдела да еще разведки? Или, может, и разведка мне тоже уже ненужная? – Это все Мещеряков сказал будто самому себе, но тут же снова и быстро обратился к Струкову:
– Ну, ладно! Мы в главном штабе делали протокол объединения, ты тот день был у товарища Крекотеня. Так мне товарищ Брусенков объяснил. В какой деревне был?
– В Тимаковой...
Мещеряков быстро расстегнул планшетку, вынул карту, показал пальцем:
– Вот она – Тимакова... Вот она – дорога на Соленую Падь. Обрисуй, пожалуйста, кратко военную обстановку: где наши части, где дислоцируется противник?
Струков начал вглядываться в карту, пересек тонкую линию дороги ногтем:
– Наши – тут... А вот тут – белые. Да я ведь вовсе и не с оперативной целью был. Был по делам мобилизации.
– Ну все равно, как военный отдел, интересовался же ты положением?
– Не успел. Спешил слишком.
– Это, конечно, может быть. Тогда давай коснемся здешнего положения. Надо же нам с чего-то общее дело начинать. Как ты находишь оборонительные работы под Соленой Падью? Признаешь хорошими?
Струков снова подтянул к себе карту и стал показывать, где и что сделано, какие выкопаны окопы, где, по его мнению, следовало бы еще копать. Мещеряков слушал внимательно. Поддакивал. А тогда и Струков спросил вдруг его:
– Мне тоже интересно – как ты дело находишь, товарищ главком?
– В какой части?
– Ну, хотя бы в части состояния армии? Общего состояния?
– Общее оно среднее. До хорошего далеко.
– Почему так?
– Выпивки много на позициях по сю пору. Разной. И самогонка, и бражка, и даже лавочная встречается. И бабы тоже разные шляются – свои, и чужие, и вовсе беженки. Служба связи не поставлена. Ну и еще могу перечислить...
– Это потому, – вступился Брусенков, – что у нас гражданское население повсеместно исполняет наряды на рытье окопов. А всем и каждому известно гражданское население без баб не бывает. Но я спрошу так: кроме баб, ты на позициях заметил еще что-либо, нет, товарищ главком? Командные курсы наши заметил? Всю армейскую организацию? В целом?
Мещеряков прошелся по комнате, остановился. Постоял. В окно поглядел. А когда обернулся, сказал:
– Ну, вот что, товарищи, я уже и готовый ответить на все вопросы. То есть как я понял ваш военный отдел. – Шагнул от окна на середину комнаты. А понял я так: ты, Струков, вовсе и не бывал в Тимаковой тот день, когда мы подписывали объединенный протокол. И в штабе тоже не был – не хотели мне тебя показывать. Не расчет тогда был. Зато был ты на местных оборонительных позициях. Был так: ходил следом за мной. Узнавал, что я делаю, как распоряжаюсь и разговариваю как. После товарищу вот Брусенкову все докладывал.
Струков заметно вытягивался, принимая стойку "смирно". А Брусенков подошел к Мещерякову:
– Так вот мы и не скрываем, товарищ главнокомандующий, что над тобою и над всей армией должно быть со стороны главного штаба руководство, а значит, контроль. Так и должно быть. Не иначе. Ни твоей бесконтрольности, ни чьей другой не допустим. Тем более в военное время. Кончим воевать – другой разговор: мирная жизнь, она потому и мирная, что свободнее и бесконтрольнее. А нынче – положение всей жизни военное. Не тебе это объяснять!
– Понятно. Но когда я об контроле об этом знаю – это одно. Когда он от меня делается тайно – то это называется шпионство. И чтобы впредь таких недоразумениев у нас не случалось, я прямо заявляю: для меня нынешнего военного отдела не существует! А ежели все ж таки кто из его работников будет и дальше шариться в армии, по моим следам ходить и нюхать, то я отдам приказ брать таких и стрелять, как за шпионство!
Брусенков покраснел. Рябины его по всему лицу сделались красными. Клюква или брусника. Он еще шагнул к Мещерякову, но тот не дал ему говорить, сказал сам:
– Дальше. Дальше так: я ультиматум до конца все ж таки не ставлю. Предлагаю: завтра в десять часов товарищ Струков является ко мне в штаб армии и дает обещание, что никакого шпионства с его стороны более не будет. После того он докладывает свои честные соображения – как отдел его может армии и общей нашей победе помогать и в действительности быть полезным. Когда мы с товарищем Жгуном, начальником моего штаба, эти предложения усмотрим как хорошие – то и хорошо дальше будем вместе работать. Когда они будут для нас негодные – то я уже окончательно и в полном ультиматуме повторю нынешние слова: военного отдела для армии нет и не существует! Все! В других отделах я больше нынче находиться не имею возможности – некогда!
И, козырнув, Мещеряков быстро пошел прочь из комнаты. Распахнул дверь... Остановился. Так же резко вернулся, вынул из кармана и положил на стол коробок с цветными карандашами.
– Это ты мне давеча прислал, товарищ начальник главного штаба! – сказал Брусенкову, но не оборачиваясь к нему. – Возьми! У нас и в своем штабе таких дополна!
Брусенков усмехнулся, протянул руку, взял коробок, потряс его около уха. Сказал:
– Ну, мы примем предметы обратно. Вовсе не постесняемся принять. А еще вот что – отдай-ка нам золото! Сорок семь тысяч и сколько там у тебя фунтов? Не хочешь отдавать военному отделу – отдай прямо в главный штаб. Прямо мне. Я ужо использую. Смогу. На общее наше дело, и с умом использую...
– Нет, – ответил Мещеряков. – Не отдам. Самому пригодится. – И еще раз, уже с порога, повторил: – Не отдам!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На другой день в избе Толи Стрельникова снова собрались члены главного штаба.
Сидели в горнице.
Спокойным оставался, кажется, один только Брусенков.
Изба Стрельникова всем была знакома, но уже по одному тому, что это было жилье, а не штабное помещение, здесь невольно приходило на память, что к ночи люди имеют привычку ложиться спать, утром – вставать и завтракать, днем – обедать...
После напряжения, в котором жил главный штаб, после бессонных ночей, бесконечных посетителей, бесконечных событий, которые врывались вслед за этими посетителями, или в донесениях с мест, или еще как-то, даже неизвестно как, – обычное жилье казалось странным, поначалу оно охватывало каким-то оцепенением.
Однако нынче ничто не могло помешать присутствию здесь еще и беспокойства, волнения. Необычная была нынче встреча.
Разговор был тихим, сдержанным – о том, о другом...
Тася Черненко все глядела в окно, будто упорно ждала еще кого-то, на продолговатом смуглом лице ее проступал неровный румянец, пальцами то одной, то другой руки она теребила металлическую пуговицу гимнастерки. Пуговица оставляла на пальцах серый налет, Тася вытирала их о голенище сапога и принималась теребить пуговицу снова.
В кухне тяжко шаркала ногами и кашляла нутряным, навек приставшим кашлем древняя старуха – Толи Стрельникова бабка.
Толина мать умерла давным-давно, он ее не помнил, бабка и воспитывала его вместо матери, а теперь воспитывала и выхаживала, как могла, правнуков, и родных и неродных: жена Толи тоже померла лет пятнадцать назад, он снова женился, женился на вдовой и детной. Теперь росли ее ребятишки и его, от первой жены, и общие, от нынешнего брака.
Жена и старшие дети страдовали, рыли окопы, малые все были на огороде, бабка одна и хозяйничала в доме, изредка стонущими, глухими окликами призывая в помощь девчонок, которые возились на крыльце с самыми малыми, искались друг у друга.
– Старая уже сильно. А ходит. Работает... – сказал Довгаль, прислушиваясь к шагам на кухне.
– Всю-то жизнь так... – кивнул Толя, плотнее заправил пустой рукав домотканой рубахи за пояс. – Я в пятнадцатом годе в лазарете лежал с масленки и до покрова. После первой еще контузии. Еще был с рукой. И вот закрою глаза и слышу: бабка-то ходит, ходит, ходит... День-ночь без конца и краю ногами шебаршится и грудью кашляет... Я расту – из сосунка в парнишку, из парнишки в парня, из парня в мужика, – а она все шарк да шарк. День-ночь, день-ночь... По кругу.
Удушливо пахло геранью, расставленной в глиняных горшках по всем подоконникам. Иные горшки были поломаны, повязаны бечевками, из одного сквозь щель выползал на подоконник желтый узловатый корень.
Посреди широкой деревянной кровати, покрытой лоскутным одеялом, будто в беспамятстве, лежал, раскинув все четыре лапы и хвост, рыжий встрепанный кот с разорванным до основания и еще не зажившим ухом. Черные с отливом и жадные мухи тревожили ему незажившее место, забирались внутрь, кот скалился, бил по уху лапой и просыпался, но тут же снова впадал в сон, даже храпел.
В углу, возле печки-голландки, на гибкой жердочке чуть покачивалась пустая люлька.
– Что – пустая-то весится? – кивнул на люльку Довгаль. – Снял бы, когда не нужна...
– А это баба не сымает, – ответил Толя рассеянно. – Все ж таки, говорит, острастка. Надпоминание.
– Ну и как? – осведомился Коломиец. – Как? Помогает? Ты-то – боишься?
– Я-то – не сильно. А баба – та страшится. Который раз.
– Все одно – толку нету! – махнул рукой Коломиец, пошел на кухню закурить от уголька, а когда вернулся, сказал еще: – Мы вот многодетных и малоимущих даже от службы в народной армии освобождаем, бумагу им пишем на этот предмет в отделе призрения. А ты мало того – многодетный, еще и безрукий, а служишь! Зря это ты, однако... Без тебя революция не погибнет тоже.
– Не в армии служу – в ополчении! – отозвался Толя. – Ну, а когда революция не погибнет без меня, то я без ее – запросто. Другие есть – с одной рукой научатся делу, а я без правой жизнь потерял, ничего не мог. У лесопилки живет Елисеев Никифор – тот запрягает одной рукой! Веришь ли уздает, и хомутает, и засупонивает. А я? С готовой вожжиной могу управиться – не более того! А тут – сгодился! И еще как сгодился: у меня есть в ополчении и с руками и с ногами, кругом целые, а мне все ж таки подчиненные! Я и сам к этому долгое время был без привычки.
– Привык? – спросил Довгаль.








