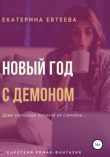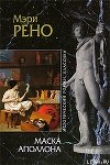Текст книги "Петербуржский ковчег"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Федор Лукич был невероятно сладострастен, хотя под конец жизни и неспособен уже на альковные подвиги. Не в силах совершить такой подвиг, он любил хотя бы посмотреть...
Здесь Милодора замолчала на минуту, отвернула лицо от света.
... Об этом так трудно рассказывать! Но что было – то было... Старый супруг заставлял Милодору обнажаться и подолгу смотрел на нее, обнаженную... Ее поначалу сильно пугало это, потом она привыкла... Однако прошло какое-то время, и старый Шмидт перестал удовлетворяться созерцанием прелестей молоденькой жены. Он тосковал, ему бы еще раз жениться – разнообразия не хватало...
Федор Лукич долгие вечера простаивал у окна, разглядывая снующих по тротуару девиц. Он даже велел дворнику Антипу вырубить разросшийся боярышник у ограды, чтобы иметь возможность лицезреть нежные щиколотки юных горожанок... Федору Лукичу пора бы уж было позаботиться о душе, подумать о предстоящей встрече с Богом, а он все засматривался на молоденьких девиц, – как будто недобрал общения с ними в молодости.
Замужняя жизнь Милодоры была коротка. Сама Милодора не могла бы прибавить к этой фразе «увы»... Сначала у Федора Лукича что-то случилось с нервами: он постоянно прикусывал одну щеку. Потом на эту же сторону его парализовало. Он лежал в параличе с полгода, пожелтел, иссох... Бог не даровал ему легкую смерть. Федор Лукич умирал несколько дней: то приходя в сознание, то возвращаясь в забытье. Верная долгу молодая супруга все это время не отходила от постели умирающего. Как бы дурно она ни относилась к мужу, сейчас это значения не имело: она меняла под ним белье, обтирала тощий зад супруга, брила, поила с ложечки, кормила жидкой кашкой, поправляла на челе колпак... А Федор Лукич, все реже приходя в себя, смотрел на Милодору с едва скрываемой ненавистью. Парализованный Шмидт не мог уже побурчать, не мог произнести ни слова; поэтому для Милодоры так и осталось загадкой: по какой же причине умирающий супруг так возненавидел ее перед смертью; быть может, он путал ее с первой женой, бежавшей с ловким шулером?.. А может, ненавидел именно Милодору – за цветущую молодость ее, за предстоящие без него многие дни ее жизни, за то, что красота юной супруги (его, старого Шмидта, несомненное достояние) достанется кому-то другому – какому-нибудь ловкому хлыщу из тех, у которых за душой ни шиша, но зато язык подвешен...
Аполлон проявил живой интерес к прошлому Милодоры – и это выглядело подкупающе. Милодора рассказывала с удовольствием. Всякий, кому нечего скрывать, говорит о себе с удовольствием...
Уютно тикали напольные венецианские часы, мелодично ударяли куранты... Аполлон удивлялся тем тонкостям, какие подмечал в неспешном рассказе Милодоры...
... Милодора, в девичестве Степанова, была дочь гвардейца, погибшего в русско-шведскую кампанию 1809 года в Финляндии. Предки Милодоры по отцу – из архангельских купцов. Правительство в XVIII веке наиболее богатых купцов селило в Петербург и «зачисляло» во дворянство. Так первые Степановы оказались в северной столице и сподобились дворянского чина. Однако, не успев окрепнуть на новой почве, не приспособившись к новым условиям, эти новоявленные дворяне обеднели...
У Милодоры были еще две старшие сестры. В детстве, как водится в домах небогатых, все три сестры спали в одной большой постели. Но старшие сестры умерли. Одна – в возрасте двенадцати лет, а другая – в возрасте восемнадцати лет. Их звали как в Житиях: Митродора и Нимфодора... Сестер своих Милодора помнила не очень хорошо. Если бы не портретики в медальонах, стерлись бы в памяти лица. А вот похороны их запомнились крепко.
Кто задумывался над метаморфозами, происходящими с девушками, не мог не прийти к наблюдению: девушка становится красивой, когда в ее внешности появляется некая дьяволинка. А как дьяволинка появилась, считай, девушка готова к браку. В Милодоре дьяволинка появилась рано – ей едва исполнилось двенадцать лет. Девушка (она была уже именно девушка) и сама однажды заметила, что к ней изменилось отношение окружающих... Сначала ее вдруг стал замечать дворник – провожать взглядом, – потом перестали задирать соседские мальчишки... Оценивающим удивленным взглядом стали одаривать материны ухажеры (мать Милодоры была женщина очень видная и опрятная, и ухажеров было много). Один из ухажеров с нагловатыми навыкате глазами как-то пожаловал Милодоре пятак и попросил за то показать коленку. Милодора показала, совсем глупая девочка была; потом едва отвязалась от наглеца, у которого оказалось пятаков с лишком...
Кстати сказать, о той самой дьяволинке: древние египтянки, чтобы расширить зрачки и придать таинственный блеск глазам, капали в них сок из растения «сонная одурь», впоследствии получившего название белладонны. Матушка Милодоры скорее всего не знала таких исторических тонкостей, равно как и не знала, что хитрость сия известна была еще египтянкам. Но из жизненного опыта она знала про действие сока белладонны. И иногда использовала его – закапывала себе в глаза. У нее в юности была подружка – француженка. Поверенная во все сердечные тайны. Каким-то ветром занесло ее в Россию, как, впрочем, заносило многих и иногда весьма достойных людей (вот Дидро, например, или баронессу де Сталь, а также Иоганна-Готфрида Зейме, Фридриха Крейцвальда и прочих)... Эта девица была что называется оторви-да-брось!... Авантюристка, каких еще поискать. Вероятнее всего, именно от нее мать Милодоры почерпнула знание о действии сока белладонны. Та француженка умерла в молодом возрасте и умерла глупо: выдавила прыщик на верхней губе и от того у нее стало заражение крови...
Когда Милодоре исполнилось четырнадцать лет, ее и мать пригласил к себе господин Шмидт – будущий муж Милодоры (но он и матери ее годился в отцы). Господин Шмидт давно разглядел дьяволинку Милодоры, был глазастый на этот счет, и та не давала ему покоя. От той дьяволинки отталкивались все его похотливые мысли... Господин Шмидт обсмотрел Милодору и спереди, и сзади; и глянул, будто ненароком, за кружевной воротничок, и едва не полез под юбку. Впрочем сдержался – не иначе смутило его присутствие матушки Милодоры... Разговаривал он с гостьями вкрадчивым голосом. Попотчевал обедом, приготовленным мастерски: легкий французский бульон и индюк с цикорием. Милодору и ее матушку, не знавших постоянного достатка и не привыкших к роскоши, просто потрясло то, что в этом доме согревали тарелки перед тем, как наливать в них бульон... Удовлетворенный осмотром, господин Шмидт дал Милодоре коробку леденцов. Пока Милодора наслаждалась лакомством (при этом «сосулька» постукивала о ее зубки), Федор Лукич разглагольствовал о том о сем: о ценах на древесину, о газовых фонарях, которые хотят установить в столицах, о низких нравах нынешней молодежи, не знающей, что такое долг и что такое честь, о галломании, которая опять набирает силу... Говоря, он холодно и внимательно поглядывал на Милодору из-под стариковских бровей. Потом вдруг любопытствовал, не сбавляет ли мать дочери годков, точно ли Милодоре четырнадцать?.. Матушка подтвердила – уж, разумеется, она догадывалась (да, пожалуй, и знала наверняка), к чему все эти вопросы и само приглашение в гости. Но что у матушки было в ту пору на уме – тайна. Не исключено, что заботила ее в первую очередь не дочери судьба, а судьба ее собственная. Надо было сбыть с рук взрослеющую дочь, все более отвлекающую на себя внимание выгодных кавалеров. В последние годы Милодора и ее мать жили не очень хорошо, все меньше ладили друг с другом. И мать все чаще ставила дочку коленями на гречневую крупу... Ах как безжалостно крупа впивалась в нежные коленки – как будто прорастала в них!... Естественно, любви к матери подобные экзекуции не прибавляли... Матушка, несколько раздраженно поглядывая на дочку, с наслаждением сосущую леденцы, подтвердила, что ей четырнадцать. Господин Шмидт вздохнул: слишком молода (в смысле годков, разумеется; в смысле же развитости форм – все было просто прекрасно), а ждать еще год-два – риск немалый... Господин Шмидт не досказал, но у него на лице было написано: либо помрешь, либо из-под носа девку уведут. Студент какой-нибудь с умными очками или лихой ямщик в красной рубахе... И не стал Федор Лукич с важным делом тянуть. Подучил мать прибавить дочери годков, а через месяц-другой повел невесту под венец. Дал за нее немного денег. Матушка Милодоры, пересчитывая деньги, вздыхала и поминала народную мудрость: «Как нам покупать – так дорого, как нам продавать – так дешево».
Еще вчера мамаша ставила Милодору коленями на гречневую крупу, а уже сегодня отдавала замуж – надевала ей на прибранную головку белоснежный венец. Тайком от дочери смахивала у себя с ресницы слезу... И крутила напропалую любовь с гувернером.
Матушка говорила Милодоре, чтоб та радовалась – ведь очень удачно вышла замуж; не всякой девице так везет в жизни, чтоб почтенный состоятельный человек положил на нее глаз... Матушка говаривала: «Главное женское дело в жизни – удачно выйти замуж. А дальше – как салазки по накатанной горке»... Но Милодора, глупая, пугалась: то, что гнусный старик проделывал с ней в постели, не могло не напугать. Господин Шмидт совсем не жалел ее, думал только о себе, о своих удовольствиях и нуждах. Он говорил о любви, но Милодора не знала никакой любви; он говорил о красоте, но Милодора красоты не видела ни в отвислых щеках супруга, ни в его костлявой груди; он говорил о наслаждении, а она никакого наслаждения не ощущала – только боль и унижение. Все было так мерзко, грязно... все пахло потом... И еще эти противные стариковские слюни на губах!...
Мать некоторое время довольно ловко пользовалась своим положением тещи. Зять, который был старше этой тещи чуть не в два раза, платил теще нечто вроде пенсиона. Но постепенно отношения между матерью и дочерью становились все прохладнее. Федор Лукич это замечал и извлекал из этого для себя практическую пользу – урезал потихоньку пенсион, ссылаясь на финансовые затруднения. В конце концов матушка Милодоры, красивая еще женщина (кабы не гибель мужа, совсем не так развивалась бы ее судьба), укатила с любовником-гувернером в Европу. Тот вроде был довольно удачливый человек. С умом вложил деньги, скопленные в России: занялся разливом минеральных вод и продажей их... Несколько раз матушка прислала Милодоре коротенькие весточки: из Баден-Бадена, из какого-то поселка в горной Швейцарии, а последнюю – из Ниццы... Вряд ли она даже знала, что дочка ее овдовела.
Милодора не отзывалась слишком худо о покойном супруге. Наоборот, как бы подсмеивалась над ним и ему подобными. Размышляла вслух: будто в отношении женщины интерес мужчины с возрастом опускается все ниже. И Аполлон не мог не согласиться с ней. Действительно, юношу волнуют девичьи глазки, миловидное лицо, прядки волос над соболиными бровями... Мужа в летах глазки уже не прельщают. Он может даже вовсе не обращать на них внимания. Его более волнуют нижние формы... Немощный же сладострастный старец готов целовать юной девице пальчики на ножках, – что и проделывал иной раз престарелый супруг Милодоры...
По его смерти Милодора, как и полагается, носила на шляпе траурный креп и соблюла все иные условности (душа умершего супруга вряд ли имела основания на нее обижаться и наверняка обрела покой), но скорби не испытывала. Увы, Федор Лукич Шмидт слишком много думал о себе и о своей похоти и совершенно не принимал в расчет настроения других, даже своих близких, – откуда же тогда скорбь?
Глава 11
Этот доверительный разговор очень сблизил Аполлона и Милодору – тем откровения и хороши, что сближают; и если была между людьми какая-то приязнь, то она еще более укрепится. А уж если была приязнь сердечная... Аполлон после этого разговора ни о чем ином и думать не мог, как о Милодоре. И ночью она ему снилась... Он, правда, видел ее во сне то со спины, то сбоку; все хотел посмотреть в лицо, но это не удавалось; между тем он знал – перед ним Милодора... И страдал: так хотел видеть ее глаза...
... А утром узнал, что госпожа Милодора уехала в деревню.
Это было так внезапно и так не ко времени – ведь добрые отношения их только-только начали завязываться. От этой новости почему-то сжалось сердце... Зачем и надолго ли уехала Милодора, он пытался выведать у Устиши, – но та как бы и сама не знала. И Аполлон понял, почему никак не мог увидеть лицо этой привидевшейся ему во сне прекрасной женщины, – лицо было закрыто для него. Он подумал, что она, хоть и рассказала о себе много, и даже такого, чего не доверяют малознакомым людям (быть может, только сердечным подругам), а до конца не раскрылась, спрятала лицо. И уехала...
С другой стороны: кто он такой, чтобы Милодора раскрывалась перед ним, как перед духовником, как на исповеди; кто он такой, чтобы она пустила его во все уголки своего сердца?.. Никто!... Тайный воздыхатель, каких, не исключено, вокруг нее множество, – или было бы множество, не отпугивай ухажеров влиятельный граф Н.
Умом Аполлон понимал, что не должен принимать близко к сердцу столь внезапный отъезд Милодоры, но чувством... Чувства его были в расстройстве. Едва ли Аполлона не мучила обида – он ничего не мог с собой поделать. Он вдруг понял, что ему плохо без Милодоры, что он за эти дни слишком привязался к ней; Аполлон понял, что она необходима ему, как воздух... И теперь его мучила мысль, что он, по всей видимости, не надобен Милодоре, как воздух, что он не дорог ей так, как дорога она ему. Аполлону еще вчера представлялось, что есть надежда, а сегодня кололо в сердце то, что надежды нет. Это более чем огорчало. И – человека гордого – уязвляло...
«Боже! Зачем ей вдруг понадобилось в деревню?!»
Все валилось у него из рук, все, что не имело отношения к Милодоре, как бы утратило для него интерес, и он удивлялся, что так быстро, так легко и так бесповоротно поддался очарованию красавицы. Как будто стал совсем дитя...
Нет, с этим Аполлон не мог смириться. Он взял себя в руки и усадил за работу. Только работа могла принести ему сейчас облегчение. Аполлон совершил усилие над собой, он сумел сосредоточиться над тем, чем единственным жил до этого времени, – он обратился к Горацию. И новые строки вышли из-под пера:
И действительно, стало легче.
Но не надолго – ровно до тех пор, как Устиша проговорилась, что госпожа не в деревню поехала, а «кажись, в Москву, по делам»... Проговорилась и охнула, прикрыла ладошкой роток. Больше из нее ни слова нельзя было вытянуть. Да Аполлон и не тянул – неловко было выпытывать у горничной про госпожу, ведь горничной, да еще такой не в меру впечатлительной, неизвестно что на ум взбредет.
Промаявшись дня три, Аполлон и сам поехал к себе в поместье – думал, на лоне природы и в суете хозяйских дел обретет душевный покой. Но в деревне ему стало еще хуже: возникло такое чувство, будто перед ним захлопнулось окошко; до тех пор он не много и видел в окошко, но теперь не видел ничего вообще.
Как же он сочувствовал брату, у которого со столь молодых лет вся жизнь протекала при «захлопнутых окошках»; да и не протекала, пожалуй, а тянулась, тянулась, как патока (но далеко не сладкая, как она), а впереди не было ни проблеска света: молодому человеку не подняться, не пойти, не увидеть, не удивиться, не полюбить, не прожить... а только ждать избавления от земных мучений – избавления в образе смерти...
Не выдержав в усадьбе и недели, Аполлон поехал обратно в Петербург.
Милодора еще не вернулась...
Аполлон потосковал пару дней, а потом как бы перегорел и уже не воспринимал внезапный отъезд Милодоры так остро... И даже удивлялся себе, своей реакции. Почему бы и нет, в конце концов!... У нее своя жизнь, в которую она позволила ему лишь на минутку заглянуть, – не более...
И дух его успокоился.
Аполлон закончил заказанные «Буколики» Вергилия, но не спешил относить их к издателю, опасался, что кончил перевод слишком быстро и текст не совсем зрел. Текст должен был вылежаться.
Некоторое время Аполлон посвятил приведению в порядок своих мыслей (совсем не плохое занятие для того, кто ищет любви). Он излагал их на бумаге и складывал листочки в стол. Таким образом он поступал давно. Это не был дневник в привычном смысле слова. В этих записках даже не прослеживалось определенной системы. Это было более похоже на хранилище мыслей, которые жаль терять, это были разрозненные философские заметки. Такие примерно заметки были и у Жоржа Дидье.
Дабы не слишком интриговать читателя, мы приведем здесь образчик из заметок Аполлона, но, чтобы не сильно отвлекать от нити повествования и не утомлять человека не очень заинтересованного, подберем образчик небольшой:
«Гений близок к болезни. Гений близок к преступлению. Гений привык попирать рамки и общепринятые правила. В глубине души он презирает средний уровень, по крайней мере, относится к нему пренебрежительно. Гений всегда «над», гений свободен, раскован, часто неорганизован, не так крепко привязан ко всякого рода условностям, обычаям, традициям, как разум посредственный. Гений – часто авантюрист. Он более большинства самостоятелен, либо несамостоятелен вообще... Но в его самостоятельности и кроется опасность для гения. Он – как утлый челнок в безбрежном море. Никто ведь не будет спорить, что гении плохо кончают или мало живут. И путь их – сплошные тернии.
Гений, как бесплотный дух, царит над временем и пространством – и не подчиняется их законам.
Вся история человечества – путь от гения к гению. Между тем гений – загадка. Даже для самого гения. Гений не управляет собой. Он живет, действует, творит по наитию. Не оглядывается на пройденное, не критикует себя. Он идет дальше, он спешит. Он живет в своем мире. Это его бремя и проклятие. И, может, счастье?.. Гениальность – как болезнь. Наитие – припадки. Гениальность – как чудеснейшее из состояний. Наитие – прозрение. И хотя плоть – вместилище гения, слишком велик отрыв гения от плоти. Гений летит, парит; плоть – тащится. Плоть угнетает гения. Плоть иногда угнетает и посредственность, ибо плоть сковывает душу.
Примитивное, животное остается с плотью, гениальное возносится к Духу... Нельзя быть немного гениальным или очень гениальным. Можно быть только просто гениальным...»
... Обретая успокоение в душе, Аполлон часто в одиночестве прогуливался по Петербургу: по ни с чем не сравнимому Невскому проспекту, по Миллионной улице, на которой любил захаживать в лавки и лавочки, в антиквар, где мог подолгу разглядывать всякую занимательную мелочь; хаживал по набережной Невы, вдоль каналов, по чудному, цветущему в это время Летнему саду, огороженному решеткой, ради одной которой, говорят, явился в Петербург некий сумасшедший англичанин (сошел с корабля, посмотрел на решетку и вернулся обратно в Англию)... Были у Аполлона несколько излюбленных точек, с которых город виделся особенно прекрасным. Обозревая виды города, он чувствовал настроение пейзажа; когда настроение пейзажа было созвучно струнам его души, Аполлон испытывал едва ли не блаженство... Он полюбил этот город и, кажется, уже не представлял своего будущего в отрыве от него... Грустя по Милодоре и стараясь не признаваться себе в очередной раз в этой грусти, Аполлон все больше времени проводил наедине с городом. Неожиданно для себя Аполлон иногда подмечал интересную деталь, незаметную для других: например, в девушке, случайно встреченной на набережной, он угадывал танцовщицу – по особо вывернутым носками к наружи ступням; увидев у чистильщика в руках чьи-то башмаки с неравномерно стоптанными каблуками, заключал, что у владельца башмаков либо кривые ноги, либо застарелый геморрой (как замечательно, право, иметь такую наблюдательность!); а вон тот молодой господин, поигрывающий тростью перед дамой, не случайно отпустил бородку – под ней он прячет некрасивый подбородок... Порой Аполлон брал извозчика и ехал на побережье. Там возле самого прибоя были у Аполлона любимые камни, на кои он присаживался отдохнуть. На море он мог смотреть бесконечно – море как будто завораживало его. Это был живой переменчивый мир, такой же, как и тот, в котором Аполлон жил, – как город, как мир людей, – и каждую секунду этого мира уже невозможно было повторить. И повлиять на этот мир каким-нибудь образом, кажется, было невозможно. Аполлону всякий раз было трудно с морем расставаться. Уходя от моря, он будто что-то терял.
Доктор Федотов не раз приглашал Аполлона к себе «на сеансы» в Обуховскую больницу, что на Фонтанке; говорил: всякому мыслящему человеку не лишне посмотреть на себя «без обману, в суть», дабы видеть на чем (тленном, зыбком, презренном) строятся возвышенность чувств и духовность и в должной мере ценить их. И Аполлон однажды посетил его.
Федотов и Холстицкий как раз работали вместе.
... Это было полуподвальное помещение с низкими арочными сводами из кирпича и с окошками под потолком, залитыми в тот день солнцем; помещение сырое, с неистребимой плесенью по углам... На одном из каменных (специальных прозекторских) столов со стоком лежал труп мужчины. Кожа еще поблескивала инеем – верный признак того, что тело совсем недавно вытащили из ледника; волосы – слипшиеся, нос – раздавлен. И хотя труп был заморожен, запах от него шел отвращающий – кто хоть однажды слышал его, уже не спутает ни с каким иным... Окошки под потолком были раскрыты, снаружи громко щебетали птицы.
Доктор Федотов в фартуке, заляпанном кровью, и с большой пилой в руках примерялся к трупу. Миша Холстицкий быстрыми уверенными движениями набрасывал какие-то контуры на прикрепленном к доске большом листе бумаги. На груди трупа лежала коробка с подготовленными загодя красками, рядом на столе и на скамейке были разбросаны кисти...
Аполлон, не ожидавший, что перед ним так сразу и во всей неприглядности предстанет зрелище смерти, опешил. Нельзя сказать, что он был близок к обмороку, но и удовольствия от сильного впечатления не получал.
Федотов и Холстицкий не сразу заметили вошедшего Аполлона. Занимаясь каждый своим, они спорили. Художник доказывал, как будет грамотнее и естественнее изобразить распил бедра, а лекарь убеждал, как это надлежит сделать понятнее, пусть и в ущерб натуре, – чтобы видны были каждая мышца, каждая фасция и каждый сосуд. Одолел в споре Федотов, заявив раздраженно, что это он платит Холстицкому за каждый лист, а не Холстицкий ему. Художник устал спорить, к тому же он заметил Аполлона.
– А вот и господин Романов изволил покинуть Вавилон! – приветливо улыбнулся Холстицкий.
Федотов обернулся:
– Это весьма кстати. Анатомирование любит аудиторию – так говаривали еще мои учителя.
Художник пригласил:
– Подходите поближе. Будет виднее. Однако Аполлон остановился в некотором отдалении.
– Отсюда тоже видно неплохо...
– Вы можете присесть на скамью, молодой человек, ежели вам дурно... – доктор Федотов указал куда-то в угол.
– Нет. Все хорошо, – Аполлон крепился духом, но этот ужасный запах был, кажется, непереносим.
– Какая-то бледность, – Василий Иванович критически всматривался в лицо Аполлона. – Не придется ли нам приводить вас в чувство!...
– Это с непривычки, – Аполлон остался стоять.
– Вот видишь, Миша, – обратился Федотов к художнику. – А ты с непривычки упал на пороге...
Холстицкий стушевался, но возражать не стал. Доктор Федотов кивнул Аполлону:
– Ежели все-таки вам станет дурно, постучите себе слегка вот здесь... – он показал большим пальцем на трупе место в верху живота. – Тут, знаете, нервное сплетение... Быстро придете в себя...
И он начал пилить...
Не то пила была мастерски заточена, не то замороженное тело так легко пилится, анатом сделал всего несколько резов, – а уж распилил бедро чуть выше колена. Не останавливаясь, он сделал еще несколько резов и отделил кругляш шириной примерно в два пальца. Через пару минут – еще такой же. Потом еще и еще – до тех пор, пока все бедро не оказалось распиленным на кругляши... Эти фрагменты Федотов разложил перед Холстицким на скамье на специальной подставке и указал мизинцем:
– Вот, смотри!... Здесь, здесь и здесь... все одна мышца – стройная. Видишь, как крутится! Это надо показать... Хоть грамотно, хоть нет, но чтобы было понятно человеку несведущему в анатомии. Вот, нашему гостю, например...
Холстицкий взялся за кисти. Федотов какими-то веселыми глазами посмотрел на Аполлона:
– Все хорошо, молодой человек?.. Тогда идем дальше...
Получив утвердительный ответ, анатом подхватил свою страшную пилу и принялся пилить у трупа голову – по надбровным дугам к вискам и еще ниже, к затылку. Голова нависала над краем стола и пилить было удобно, да и сноровка у Федотова была, – должно быть, процедуру эту он проделывал не первый раз.
Сделав надпил черепа по периметру, Василий Иванович отложил пилу и взялся за долотце.
Осматривая острие на свет, сказал:
– А госпожа Милодора, значит, еще не приехала... Иначе нам не видеть бы вас здесь, Аполлон Данилович...
– Почему вы так заключили? – Аполлон ни-как не ожидал, что будет разговаривать здесь, при этих ошеломляющих манипуляциях доктора, о Милодоре. – Разве я похож на открытую книгу?..
– Все, у кого неспокойно на сердце, похожи на открытую книгу. А уж особенно те, у кого в сердце нежное чувство. Простите, конечно, что я об этом заговорил...
Аполлон пожал плечами и промолчал. Господин Федотов попробовал острие долота пальцем и удовлетворенно хмыкнул:
– Надо быть слепым, молодой человек, чтобы не видеть вашего трепетного отношения к Милодоре. Но, поверьте, ваше чувство нельзя назвать безответным. Со стороны это хорошо видно. Правда, Михаил?..
Художник вздохнул:
– Увы, на меня Милодора и не взглянула. Федотов продолжал:
– Все у вас будет хорошо, Аполлон Данилович. Это вам даже Настя сказала. Помните?..
– Она немного странная девочка, – кивнул Аполлон.
– А госпожа Милодора... – доктор с минуту примеривался долотом к надпилу. – Ей, должно быть, понадобилось побыть немного одной: заглянуть внутрь себя, одуматься, взвесить. Знаете ведь, как это бывает... Настоящее чувство приходит не каждый день...
Острием долота Федотов подцепил крышку черепа и нажал на рукоятку. Крышка отскочила со звонким треском, очень напоминающим треск скорлупы ореха, и обнажился розовато-серый мозг, опутанный прозрачной оболочкой, как паутинкой. В бороздках между извилинами можно было рассмотреть что-то вроде сукровицы... С какой-то не совсем приличествующей моменту нежностью, а может, с почтением Федотов погладил ладонью обнаженный мозг.
У Аполлона было сейчас такое странное чувство, будто доктор Федотов анатомирует не чье-то постороннее тело, а именно его, что именно ему – Аполлону – доктор распилил сейчас голову и рассматривает его мозг, и прочитывает его мысли – тайные, заветные – мысли, которые Аполлон и сам от себя прятал, ибо даже не смел надеяться... на то, что оказал на Милодору столь сильное впечатление...
О как приятны Аполлону были эти слова! Как желалось ему, чтобы слова эти хотя бы наполовину соответствовали истине!...
Федотов даже не попробовал вытащить мозг; должно быть, требовалось немало времени, чтобы мозг оттаял.
Доктор сказал:
– Вы, Аполлон Данилович, произвели на нее сильное впечатление...
При этих словах Аполлон невольно вздрогнул: будто лекарь, действительно, перебирал его мысли. Но Федотов не заметил реакции Аполлона, поскольку рассматривал в данную минуту мозг.
Федотов с задумчивым видом продолжал:
– Я думаю, это понял и граф Н. Не случайно он почти перестал появляться в доме. Умный человек. Понимает, как она молода... как вы молоды.
Поддержал ее в трудное время, а теперь отходит. Благородно, знаете... А между тем он наверняка без ума от Милодоры. Разве можно быть от нее не без ума?.. Теперь вот вы, Аполлон Данилович... Уж простите, что я затеял этот разговор!... Поддерживайте Милодору. Она слишком хрупкое создание – легко сломать. Мечтает о прекрасном будущем для всех людей – в то время как каждый только и думает что о себе... Аполлон сказал:
– Ах, если бы ваши слова оказались правдой!... – он не устыдился своей искренности.
Лекарь, переглянувшись с художником, улыбнулся:
– Самое время напомнить истину: когда стрела амура ранит сердце, глаза закрываются.
Миша Холстицкий сказал:
– Вокруг Милодоры крутились знатные женихи – графы да князья. Она оставалась к ним равнодушна – это было видно. Получили от ворот поворот и теперь они – ее враги. Не мечтайте о легкой жизни, Аполлон Данилович...
– Посмотрим, посмотрим, как все сложится! – перебил Федотов. – Не будем докучать молодому человеку наставлениями, – и, повернувшись к трупу, доктор снова провел по поверхности мозга рукой. – Поговорим и о других вещах вечных... Вот мозг... – при этом Федотов совершенно преобразился; он любил предмет, о котором сейчас говорил. – У мужчины и женщины мозг одинаков. Но один мозг мыслит себя мужчиной, другой – женщиной... Мозг разных людей по-разному отражает окружающий мир – с тою примерно разницей, с какой один человек отличается от другого. Как вам эта идея, господа?.. В природе человека, согласитесь, много загадок... Кстати, одна из них – любовь... Много загадок в самом явлении жизни, – Федотов, задумавшись, взялся поправлять ланцет о камень-гладыш. – Когда ненастье меняется на вёдро, когда поворачивается ветер, смерть начинает опять снимать свою жатву... Почему?.. Я думаю, в явлении смерти не меньше загадок... Ты рисуешь, Миша?
– Говори, говори... – отозвался Холстицкий. – Ты мне не мешаешь.
Федотов кивнул на тело, распростертое на столе:
– Прежде чем резать, всегда надо трижды убедиться, что перед тобой труп. Иначе может случиться то, что случилось с аббатом Прево. Чем не загадка?
– Какая же? – Холстицкий ловко накладывал краски на бумагу, он не ошибался: всякий раз с ходу выбирал нужный цвет; он сейчас был не столько художник, сколько опытный ремесленник.
– С аббатом в деревне случился обморок. Да такой странный обморок, что ни дыхания, ни сердцебиений... Местный лекарь, сочтя аббата умершим, взялся вскрывать его. А аббат в момент вскрытия возьми да и очнись. Увидел свой разрезанный живот и испустил дух – на сей раз по-настоящему... А еще сколько раз бывало – хоронили людей заживо, не разобравшись... – лекарь надрезал ланцетом внешнюю оболочку мозга, из надреза проступила кровь (труп оттаивал потихоньку). – А потом, когда эксгумацию делали зачем-то, обнаруживали останки то на боку, то на животе...
– Остается посочувствовать несчастному аббату, – улыбнулся одними губами сосредоточенный Холстицкий.