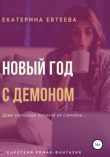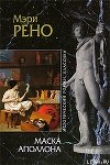Текст книги "Петербуржский ковчег"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Глава 9
Как ни гнал от себя Аполлон те подозрения, что возникли у него после разговора с сапожником Захаром, ничего не получалось. Они, кажется, были неистребимы. То есть он бы справился с ними, конечно, если бы... если бы они в скором времени не стали получать некоторые подтверждения. Аполлон и сам стал невольно замечать тайные появления гостей – очень поздних, ибо после десяти вечера как будто не принято у добропорядочных господ являться с визитами к даме и засиживаться у нее далеко за полночь... А господ появлялось не один и не двое, а по десять и пятнадцать. Были среди них и штатские в цилиндрах и черных плащах, подбитых светлым шелком, были и офицеры со сверкающими золотом эполетами – таких в хорошую погоду немало встретишь на дворцовой набережной, прожигающих дни, волокитствующих, поставивших лямуры, выпивку и удовольствия карточного стола далеко впереди службы...
До Аполлона стал потихоньку доходить смысл слов его приятелей, что, дескать, от этой дамы надо держаться подальше, что дурная слава идет о ней. Хотя – какая именно слава, он не слышал.
Впрочем, немного поразмыслив, Аполлон уже понял, что вряд ли о Милодоре говорят как о путане, даме полусвета (пожалуй, кроме сапожника Захара, человека очень простого, никто так и не считал). Аполлон начал подумывать о Милодоре как о масонке... Он знал, что в Петербурге есть несколько масонских лож. И слышал, что эти ложи посещают весьма высокопоставленные особы, а некоторые из этих особ даже приближены к императорской семье. Здесь – у Милодоры – не была ли одна из таких лож?..
Аполлон унимал эти домыслы трезвой мыслью: не спешить составлять мнение; Милодора – женщина умная – в этом у него уж была возможность убедиться; ужели умная женщина станет окружать себя людьми недостойными? Ужели ум не зарок порядочности?
Господи, какие в этом могут быть сомнения!...
Так подумав, Аполлон всякий раз вздыхал облегченно.
А Милодора уже несколько привыкла к новому жильцу. При случайных встречах с ним была неизменно любезна и улыбчива. Напряженность во взгляде ее исчезла. Взгляд, наоборот, теперь стал приязненный, теплый – теплый, как гнездо птицы, – такое сравнение пришло однажды на ум Аполлону. И хотя Аполлон все еще был смущен своими неистребимыми подозрениями (человеческая натура слаба) и, пребывая в растерянности, несколько дней не искал с прекрасной Милодорой встреч, думать о ее глазах, а тем более заглянуть в них, продолжало оставаться для него величайшим из удовольствий, сравнимым разве что с удовольствием поцеловать птичку, или – с удовольствием от созерцания ребенка, от созерцания игры ребенка...
Он продолжал работать над переводом, но дело шло трудно – ибо по-прежнему не было покоя на душе, и думы о Милодоре занимали в сознании слишком много места. Аполлон писал, потом рвал написанное, писал опять, зачеркивал, терзал свой текст, а что оставалось – переписывал набело. Но не было удовлетворения – значит, не было хорошо сделанной работы. И Аполлон опять рвал то, что пять минут назад с прилежанием переписывал.
Это была мука...
Побросав обрывки в корзину, Аполлон молился. У него висела маленькая иконка в углу... Он не знал, кто наслал на него в тот недобрый час искушение – прекрасную Милодору, но он знал, что это искушение давно правит им, человеком сильным, незаурядным. Аполлон все чаще в последнее время просил Господа утвердить его дух...
Аполлон много размышлял над своим состоянием в поисках средства для излечения – именно излечения от этого наваждения, захватившего и разум, и сердце, и душу. Аполлону казалось, что Милодора, поставив перед собой некую непонятную ему цель, забавляется с ним, и ее доброе отношение к нему неискренне. У Милодоры была какая-то закулисная жизнь, какая-то тайна, в которую она и не думала никого пускать, и его, Аполлона, в частности; какая же может быть при этом искренность в их отношениях – даже при самых искренних ее глазах!...
Тут он осаживал себя: какие отношения? кто он вообще Милодоре? жилец – один из жильцов... Приязненный взгляд, вежливый кивок, слово, произнесенное мимоходом, – вот и все их отношения. А он возомнил, а он принимал и принимает близко к сердцу... Почти уж ревнует... к тайным сборищам.
Господи! Что за мука: томление души, влечение сердца, уязвление разума!...
Аполлон пару раз заговаривал с лекарем Федотовым о «поздних гостях» Милодоры. Но Федотов сразу становился сумрачным и молчал. Горничная девушка Устиния тоже замолкала, едва улавливала в словах Аполлона намек на таинственных гостей хозяйки дома, хотя обычно была весьма речиста. С художником Холстицким Аполлон пару раз встречался на лестнице, но они не были еще представлены друг другу и потому лишь обменивались замечаниями о погоде...
С другой стороны: на какую искренность рассчитывал Аполлон? Каких признаний ждал? Они ведь с Милодорой были знакомы едва неделю... Это в его воспылавшем очарованном сердце время летело быстро; день этого сердца вмещал в себя столько, сколько холодное сердце вмещает за год...
Подумав так, Аполлон старался взглянуть на себя со стороны. И ему представлялось, что он слишком возомнил о себе. Он должен был быть благодарен Милодоре и за ее приязненный взгляд, И за вежливый кивок, и за слово, произнесенное мимоходом. И, увы... не требовать большего.
Так, дух Аполлона пребывал в смятении. И Аполлон догадывался: из этого шаткого состояния дух его выйдет в другое – либо поднимется на ступень, либо опустится. Страсть совершенно завладевала им: любовь или ненависть... Скорее всего это были две ее грани.
Однажды рано утром в дверь к Аполлону постучал Карп Коробейников – привез из поместья продукты (Аполлон за всеми сердечными заботами в последнее время частенько забывал о еде и потому даже несколько похудел).
Карп доставал продукты из корзины:
– Вот хлеб от Марфы. Еще теплый был, когда в платок заворачивал...
– Как поживает Марфа? – спрашивал без интереса Аполлон.
– Хорошо, слава Богу!... А вот масло от Феклы...
– Как Фекла поживает? – Аполлон невидящими глазами смотрел за окно.
– Хорошо, слава Богу!... А вот сало от Степана...
– Здоров Степан?
– Здоров. Что с ним сделается... А барышни Кучинские все спрашивают о вас, Палоныч...
Барышни Кучинские... Аполлон сейчас думал о них не более чем о какой-нибудь остзейской баронессе, с которой не имел чести быть знакомым...– А как брат Аркадий Данилыч? По мне не скучает?
– Да как знать! – разводил руками Карп. – Может, скучает. Нам о том не говорит. То ворчит, то вздыхает, то попросит страничку перевернуть.
Аполлон улыбнулся лишь краешками губ:
– Что ворчит – хороший знак.
– Вот и мы так думаем. Ворчит – значит, в силе барин...
Устиния – Устиша, как ее любовно называли некоторые жильцы, – являлась к Аполлону в комнату ежедневно для уборки; несмотря на то, что в комнате у него царил почти идеальный порядок. Всякий раз входя после стука, Устиша делала довольно сносный книксен и начинала вытирать пыль. Если Аполлон был не занят особо, девушка разговаривала с ним о том о сем. А если он был занят... она тоже разговаривала. Поговорить – это было ее слабое место. А может, наоборот – сильное... Она этим жила...
Как-то Устиша передала приглашение хозяйки: если господину Романову надобно, он может пользоваться библиотекой. Аполлону, конечно же, было «надобно», и он не упустил возможности познакомиться с библиотекой.
Собрание книг в доме было большое, но у Аполлона сложилось впечатление, что подобраны были книги без должного вкуса. Среди авторов известных и весьма достойных довольно часто попадались и никчемные, и даже плохо отредактированные. Это и книгами-то назвать было нельзя – одна видимость... Кто был человек, собиравший эту библиотеку? Василий Иванович Федотов говорил как-то – Шмидт. Этот старик Шмидт имел позументную мануфактуру – процветавшую в конце прошлого века, но пришедшую в некоторый упадок ныне. Наверное, Шмидт был очень далек от литературы...
Однако все, что нужно, Аполлон в библиотеке нашел (он долго не хотел себе признаваться, что больше всего в библиотеке ему нужна была Милодора – эту «книгу», пока закрытую, хотел он читать, не думая о времени). Книги греческих и латинских авторов – в оригинале и переводные (хотя с неразрезанными страницами) – стояли на полках... Также нашлись довольно редкие словари. Попались под руку и несколько томиков из немецкой и французской философии.
... Милодора часто писала что-то, стоя за конторкой. У нее была красивая маленькая очень гибкая – словно без костей – рука; пленяли глаз округлое плечо, которое так и хотелось погладить, беломраморный нежный локоток...
Аполлона разбирало любопытство: что же она писала?.. Заглянуть из-за спины он не позволял себе, а спросить прямо считал бестактным – если человек сам не говорит. Аполлон как-то присмотрелся к одной из книг, из которой Милодора делала выписки. Книга эта была... «Римское право». По мнению Аполлона – одна из скучнейших книг, написанных за время существования всех цивилизаций, хотя, без сомнения, и полезная. Удивительно, удивительно... Да, эта молодая красивая женщина была загадка...
... А однажды Аполлон поймал на себе взгляд Милодоры.
Аполлон внезапно, будто почувствовав некий магнетизм, обернулся и увидел, что Милодора смотрит на него. Глаза у нее были грустные. И даже, быть может, печальные... Словно она видела нечто такое, чего он не видел, причем видела в нем самом – так ему показалось. Однако, что бы ему ни казалось, само обстоятельство – Милодора смотрит на него – было так волнующе и так обнадеживающе!
Милодора вдруг смутилась и отвела взгляд:
– Я задумалась, простите...
Аполлон снял с полки какую-то из книг, сердце его взволнованно билось.
– Если вам угодно, – почему бы и не задуматься?
– У вас хорошее лицо... вдохновенное... – Милодоре нелегко дались эти слова. – Глядя на вас, хорошо писать... – она улыбнулась и отвернулась к своим запискам.
– Имеете в виду записи в домовую книгу? Приход – расход?
Милодора никак не восприняла его шутку.
– Иногда так хочется заглянуть в будущее...
Он не увидел связи этой фразы с их разговором, потому затруднился ответить. А спустя некоторое время подумал, что в Милодоре есть что-то от провидицы. В каждой красивой женщине, наверное, есть что-то от провидицы, от колдуньи – не случайно ведь в средневековой Европе инквизиторы сожгли тьму красавиц.
Дабы развеяться от этих мыслей (самокопания, известно, могут довести до безумия), Аполлон опять вышел в свет. Некоторые дамы пришли в оживление при появлении его, и не удивительно – он был высокий, приятной наружности, умный и обходительный, мог поддержать модные разговоры, и в обществе о нем отзывались хорошо. Складный добрый молодец; какой-то острослов отпустил про Аполлона шутку – дескать, внешне и внутренне он соответствовал своему имени...
Светские дамы и не догадывались, что Аполлон бежал к ним... от себя. Иначе очень бы огорчились. Через молодых господ-литераторов, с коими был Аполлон накоротке, интересовались дамы, где он ныне живет и куда ему можно посылать приглашения на «интересные» четверги и пятницы... Аполлон отшучивался, делал вид, что отвлекается, но никому не открыл, где обрел себе кров. А найти его можно, говорил, через господина Черемисова...
Про графа Н. слышал, что у того неприятности с Аракчеевым: будто возникли разногласия по поводу военных поселений, и будто Аракчеев о тех разногласиях доложил лично государю; но государь, что удивительно, вдруг вступился за графа Н. Граф, говорили, – корабль непотопляемый. Должно быть, государь Александр Павлович чем-то очень был обязан ему либо крайне рассчитывал на него в будущем...
Упоминали и Милодору вскользь (тут Аполлону стоило многих усилий не обнаружить свое повышенное внимание и не начать выспрашивать подробностей): будто с графом Н. ее видели в Эрмитажном театре, и там она была представлена государю; Александр Павлович посмотрел на нее не без интереса и заметил, что госпожа Шмидт так свежа, словно только что приехала из Таганрога (говорили также, что император не вполне здоров и в последнее время только и помышляет, что о поездке в Таганрог)... Дамы язвили по поводу Милодоры: граф Н., конечно, милый человек, с заслугами и с известным влиянием, но что эта женщина находит в старцах?.. Акцент дамы ставили на слове «эта»; так они выражали свое небрежение. Потом между собой тихонько злословили; что именно они говорили, никто не слышал, однако любому было видно, каким ярким румянцем вдруг покрывались при этом щеки дам, как загорались глаза их и с какой нервностью дамы принимались обмахиваться веерами...
Посетив два-три бала, Аполлон устал от них. В Вечной книге сказано точно: суета и томление духа... Это и о балах сказано. Когда через издателя Черемисова ему передавали новые приглашения, – перевязанные благоухающими шелковыми лентами, разрисованные сердечками и озорными амурами, – Аполлон втайне злился, он сразу вспоминал тот злой румянец на щеках неумных дам... но за приглашения письменно благодарил. Обычно сказывался нездоровым. Должно быть, в высшем петербургском свете нездоровье Аполлона Романова скоро стало притчей во языцех. Но Аполлона это не тревожило.
Наконец Федотов познакомил Аполлона с Холстицким.
Господин Холстицкий показался Аполлону мягким покладистым человеком. Даже не верилось, что такой может вспылить и покромсать ножом портрет, над которым долго трудился. По всему видать, сильно обидел его тот полицеймейстер...
Михаил Холстицкий, оказалось, был давний друг Федотова (живописец в юности брал у Федотова уроки анатомии) и во всем, кроме живописи, уступал ему роль принципала – первого. Поэтому Василий Иванович обыкновенно задавал тон. Замысел издать отечественный анатомический атлас принадлежал тоже Федотову...
Лекарь и живописец нагрянули как-то к Аполлону вечерком, и Холстицкий в пять минут набросал оловянным карандашиком вполне приличный и даже романтический портрет Аполлона. Холстицкий был хороший художник: он подметил и сумел изобразить беспокойство в глазах Аполлона. Глядя потом на портрет, Аполлон сам изумился, как верно передана была деталь и насколько портрет соответствовал душевному состоянию изображенного.
Потом они все трое спустились проведать дочку Захара.
Насте-Настюхе было лет двенадцать. Она очень тяжело перенесла простуду, но теперь уже пошла на поправку. Василий Иванович, послушав ей грудь трубочкой, сказал, что теперь выздоровление пойдет совсем быстро, ибо вредный северо-западный ветер сменился на южный.
Пока Федотов выслушивал ей легкие, пока разговаривал, девочка все посматривала на Аполлона – чем-то он приглянулся ей. Когда Василий Иванович замолчал, Настя спросила Аполлона, умеет ли он танцевать.
– Умею, у меня был хороший учитель из Рима, – улыбнулся Аполлон, вспомнив женолюбивого Риккардо. – А почему ты спрашиваешь?
Глаза у девочки блестели.
– Мне приснилось сегодня, будто мы с вами танцевали.
– Вот как! – вскинул брови Аполлон. – А разве ты видела меня прежде?
– Нет, я впервые вас увидела во сне...
– Ну и что же мы танцевали? Мазурку, гавот?..
– Нет... Мы танцевали на крышке гроба.
– Какой странный сон, – Аполлон изменился в лице; он подумал: достойна сочувствия девочка, которую тревожат подобные сны.
– А вокруг была вода... Вы думаете, это пророческий сон? – девочка, сев в постели, заглядывала Аполлону в глаза. – Разве в этом сне нет ничего такого?..
– Я в этом не понимаю. Никогда не разгадывал сны и никому не поверял то, что сам видел.
– Вот и напрасно... А мне было хорошо-хорошо, словно бы вы – мой жених...
Тут Захар, который сегодня был трезв как стеклышко, и что-то шил на коленях, ловко управляясь с граненой шорной иглой, перебил дочь:
– Настюха! Не испугай молодого господина. Может, он не собирается в ближайшее время жениться, – улыбнувшись, он перекусил суровую вощеную нить.
Но девочка продолжала:
– А я будто бы не я, а госпожа Милодора...
Наверное, Аполлон побледнел в этот миг – каким образом эта маленькая болезненная девочка, только начавшая жить и неискушенная в знании человеческих характеров и поступков, эта мышка, не покидавшая неделями своей норки, сумела рассмотреть тайну его сердца?..
Настя заулыбалась и стала успокаивать его:
– Не пугайтесь... Я часто вижу такие сны – особенно когда болею. Но воду, много воды, видела впервые. К чему бы это?.. Не знаете? – обратилась она к Федотову.
– Нет, детка... Знаю только, что тот, кто понравится тебе, – хороший человек. Поэтому за господина Романова я спокоен.
– Да, он мне нравится...
– Может, у нее опять жар? – подсказал Захар.
–...но он что-то побледнел, – продолжала Настя, не обращая внимания на отца. – Не пугайтесь! Что мои сны!... Как дым!... Вот папеньке не так давно наяву дьявол показался, с копытами и с деньгами, пахнущими козьим навозом. А глаза у дьявола горели огнем и голос был скрипучий, как дужка у нашего старого ведра.
Захар засмеялся:
– Антип говорит, что я пьяный был – вот и привиделось. А я ведь ни в одном глазу...
Федотов велел девочке больше спать и греться на солнце. А отцу ее – чаще варить кашу и добавлять в котелок масло... да на зелень медяка не жалеть... да меньше рассказывать ребенку всякой чепухи. У девочки и без того болезненное воображение – это скажет всякий, кто переговорил с ней хоть пять минут...
Захар, слушая наставления доктора, мыл руки. Потом тщательно вытер их о фартук и достал потрепанную книгу из-под подушки:
– Почитаю ей. Она любит. Некто Пушкин...
Глава 10
Прошел уже месяц с тех пор, как Аполлон поселился в доме Милодоры. Работа его продвигалась, и он отнес Черемисову пять первых эклог [7]7
Эклога – в античной и затем в европейской поэзии одна из форм буколики (поэтического жанра).
[Закрыть]. Издатель был доволен и почти без правки отправил тексты в набор. Расплатился, как всегда, книгами.
За это время Аполлон сдружился с Милодорой. И все больше удивлялся широте ее познаний. Поначалу ему казалось, что Милодора намеренно выводит разговор на те темы, которые знает, о которых читала с утра, и потом блещет знаниями, но когда заговорил с ней о другом, о третьем, убедился, что был не прав. Милодора с легкостью поддерживала разговор на любую тему. Беседы с ней доставляли ему истинное удовольствие... Порой, дабы не попасть впросак, приходилось Аполлону в значительной мере изощрять свой ум. Но как бы он ни изощрял его, он ни на секунду не забывал, со сколь красивой женщиной общается. И за возможность быть с этой женщиной рядом, наслаждаться ее красотой и обаянием часто благодарил Создателя...
Подружился Аполлон и с Настей. Не однажды встречал ее во дворе, где девочка по настоятельному совету доктора Федотова прогревала на солнышке легкие. Она не пропускала ни один солнечный день.
Настя, в отличие от детей многих других петербургских ремесленников и артельщиков, умела читать. Специально для нее Аполлон выписал из «Одиссеи» несколько сюжетов и оформил их в виде сказок. Настя была от этих сказок без ума и читала их на заднем крыльце, на солнышке,– а теплый весенний ветерок тихо перебирал страницы и шелестел ими.
К середине мая в доме появился еще один жилец. О нем Аполлону рассказала Устиша (Аполлон девушке нравился очень, но она старалась быть ненавязчивой)...
Звали нового жильца Карнизов, и он был офицер. Но в каком полку служил – то трудно разобрать человеку неискушенному, той же госпоже Милодоре. Ведь у мундира всякого полка свои внешние отличия: цвет воротника и отворотов, галуны, обшитые шнуром обшлага; совершенно особые поясные шарфы... Офицер – и офицер; этого вполне было достаточно, чтобы уже сложить кое-какое мнение о человеке... Как говорится, встречают по одежке...
Аполлон слушал рассказ горничной вполуха.
... Но в доме офицер Карнизов появился с некоторой странностью. Не ударила рында – отвязалась бечева от языка. Поэтому дворник Антип и не сразу услышал вошедшего, проспал. Каркнула ворона... Оказывается, ворона сидела в клетке. У Карнизова не было с собой никаких вещей, кроме этой клетки... Милодоре не понравилось ни то, что отвязалась бечева от языка рынды, ни клетка с вороной, ни сам офицер – круглолицый, молчаливый, с запавшими в глазницы внимательными (с каким-то даже пронизывающим холодным взглядом) глазами. Но офицер спрашивал про зал. Он прочитал в афишке, что сдается в этом доме целый купольный зал. А его любимой птице необходимо было пространство. И Карнизов готов был неплохо платить за зал.
Новый жилец сулил хороший доход, и Милодора посчитала необходимым прикрыть глаза на странную привязанность этого офицера к птице – не к веселой канарейке, не к сладкоголосому соловью, не к говорящему попугаю, не к скворцу... а к вороне, ничем не примечательной, отвратительной на вид, пугающей даже вороне...
Карнизов изволил сразу же осмотреть зал. А осмотрев, уже не захотел уходить. Зал был просторный и светлый. Карнизов выпустил ворону из клетки и несколько раз громко хлопнул в ладони. Испуганная птица моргнула черно-сизым глазом, взлетела под потолок, облетела люстру, смахивая с нее крылом пыль, и уселась на багетный карниз-Офицер был доволен. Он расхаживал некоторое время от стены к стене, скрипя начищенными ваксой сапогами и осматривая пыльные углы. Мельком глянул в окно, на мощенную брусчаткой улицу, на чугунную ограду, провел рукой по панели и, брезгливо скривившись, сдул с пальцев пыль...
«Здесь еще не убрано, – сказала госпожа. – Зал давно не используется ни по назначению и... никак...»
«Кар-р-р!...» – хрипло и как бы простуженно отозвалась сверху ворона, и помет ее звучно шлепнулся на подоконник.
Карнизов улыбнулся и сказал, что вещи его подвезут позже, а пока он хочет отдохнуть. Госпожа Милодора, Антип и горничная вынуждены были покинуть зал.
Госпожа Милодора призналась позже, что у нее почему-то стало тяжело на сердце в тот миг. Пока Устиния толкла ей в ступке сухой корень валерианы, Антип не удержался от того, чтобы заглянуть в зал через замочную скважину. Очень любопытно было старику, что делает этот странный офицер в неубранном зале. Господин Карнизов в задумчивости прохаживался туда-сюда и чистил нос. Потом он вдруг повернулся к двери и погрозил в ее сторону пальцем – будто почувствовал, что за ним смотрят. Но Антип все смотрел. Тогда Карнизов схватил какую-то тряпку с диванчика и, скомкав, швырнул ее в дверь – точно в замочную скважину. Старику Антипу запорошило пылью глаз. Антип потом еле проморгался, целый вечер ворчал и наконец дал себе обещание больше в замочную скважину не заглядывать...
Устиния говорила, что у господина Карнизова неприятные глаза – непонятного цвета и блестящие; говорила, что заглянуть Карнизову в глаза никак не удается – он имеет обыкновение прятать их. Зато когда ты на него не смотришь, он так и разглядывает тебя, – словно прикасается чем-то липким – это так и чувствуешь; когда Карнизов смотрит на тебя сзади, почему-то кажется, что подол твоей юбки (простите меня Бога ради, Палон Данилыч!) задран, – возможно, это и называется «раздевать взглядом». Другие горничные девушки тоже не в восторге от этого жильца.
Господин Карнизов явно немногословен. Он больше глядит, нежели говорит. Больше спрашивает, – если вдруг заговорит, – а когда, в свою очередь, к нему обращаются с вопросами, отмалчивается. О себе ничего не рассказывает...
– Зато новый жилец очень заинтересовался этим крюком в вашей комнате, – у Устиши был цепкий глаз, и если она что-то подмечала, то это, как правило, соответствовало действительности.
– Ты рассказала ему про крюк?
– Да. Но надо же о чем-то говорить... К тому же, когда тебя так внимательно слушают, разговор из тебя так и льется, так и льется... – призналась Устиша.
... А ворона очень противная, наглая. Каркает, каркает и гадит повсюду. Спасу нет...
В тот же день, что господин Карнизов явился, он отправился куда-то и вернулся только под вечер на экипаже, обитом железом и с решетками на окнах – это Устиша видела собственными глазами. В таких экипажах перевозят арестантов. Господин Карнизов привез свои вещи, которых набралось несколько сундуков. Эти сундуки выгружали и вносили в зал двое молоденьких бритоголовых солдат. Потом солдаты уехали, а Карнизов велел Устинии помочь разобрать кое-какие вещи. У него, оказалось, были и своя постель (правда, насквозь пропахшая казармой), и дорогая фарфоровая посуда, и расшитые цветами полотенца, и Бог весть что еще – во все-то сундуки Устиша не заглядывала. Но он – как невеста с приданым...
А самое любопытное: это то, что когда сапожник Захар увидел поселившегося в доме офицера, то побледнел, весь задрожал и, не сказав ни слова, ушел к себе в подвал. Настюшка потом говорила, что папенька ее никогда так долго не молился, как в тот день. Отчаянного вояку, ветерана войны двенадцатого года, встречавшего головорезов Бонапарта грудь в грудь, никто не видел прежде столь испуганным...
Как-то вечером Аполлон и Милодора засиделись в библиотеке (служащей хозяйке и кабинетом) допоздна. Сумерничали – тихо беседовали в уютном полумраке. Аполлон выразил недоумение – так много неразрезанных книг; зачем тогда муж Милодоры покупал их, если в них ему не было нужды, если в них даже не заглядывал?.. Или видел в книгах только признак роскоши? Покупал те, на корешках коих было больше позолоты?..
Милодора рассказывала о бывшем своем супруге, глубоком старике, лишь с малой толикой уважения, почтения – она как бы отдавала дань... Кроме того, она из обыкновенной вежливости не хотела обидеть Аполлона, задавшего вопрос...
На самом деле не только уважения, но и обыкновеннейшей привязанности она никогда не испытывала к мужу, Федору Лукичу Шмидту. Пожалуй, память его Милодора уважала больше, чем его самого: регулярно ставила в православной церкви поминальные свечи, содержала в порядке могилу. Она была довольно богобоязненная женщина и старательно исполняла свой долг.
Вдовство Милодоры было заложено уже в самом ее браке – как, впрочем, заложено оно во всяком мезальянсе [8]8
Мезальянс – в дворянско-буржуазном обществе брак с лицом низшего социального положения; неравный брак.
[Закрыть]. Положа руку на сердце, Милодора могла признаться, что не только не страдала во вдовстве, но и вздохнула после смерти Шмидта свободно. Супруг ее был нелегкий человек, причем с дурными наклонностями, – и выдержать такого могла лишь молодая сильная женщина с не очень широким жизненным кругозором, с не очень устойчивым общественным положением, не имеющая иных, кроме своего замужества, перспектив...
Аполлона заинтриговал рассказ.
... Старый супруг Милодоры по наследству владел позументной мануфактурой, которая многие годы процветала и приносила постоянный солидный доход. Шмидт еще и расширял дело: к цехам проволочному, прядильному, плющильному и позументному присовокупил цех бархатный. Был Шмидт известен и уважаем, и даже лет десять занимал хорошую должность – ведал в городе вопросами градостроения; решал он на этой должности мало, больше скучал, глядя в окно, зато получал приличный оклад (были времена, когда вопросами градостроения в Петербурге ведали сплошь итальянцы; тогда итальянцы были в моде и в фаворе; доктор Федотов говорил, хуже нет, когда о способностях человека судят по его национальной принадлежности; и никак-то, увы, не придет мода на незатейливого человека русского)... Потом пришла старость, и началась для Федора Лукича, привыкшего к жизни безбедной, черная полоса. Продукция его мануфактуры уже не имела прежнего спроса, дело стало чахнуть. Как раз в эту пору – собственного заката, подавленности и немощи – Федор Лукич Шмидт и женился на Милодоре. До этого он один раз был женат – еще в молодости; но не прожил в браке и двух лет: молодая жена сбежала от Шмидта с каким-то карточным шулером. Об этой поре из жизни Федора Лукича немного рассказывала Милодоре прислуга...
Старик был ворчлив и вечно всем недоволен; он брюзжал за столом, он брюзжал в гостях и в театре, он брюзжал на улице, в экипаже; он брюзжал даже в постели... В старые времена все было лучше: дисциплина была, ответственность, патриотизм, честь... А эти демократические заигрывания, что затеял государь Александр с первых лет своего царствования... из-под ног выбивают почву. Зыбко все становится, зыбко... И впереди – темно, темно...
Как знать: не была ли эта темнота всего лишь личной перспективой преклонных лет Шмидта?..
Старик, когда-то в меру бережливый, с течением лет становился подлинным воплощением жадности. Для него была поистине тяжким бременем манера, вошедшая с некоторых пор в высшем свете в моду,– оставлять блюдо недоеденным, сколь бы ты ни был голоден. Хоть гостей не приглашай, ей-Богу!... Старый Шмидт изнывал, мучился почти физической болью, когда видел на тарелках гостей (которых, однако, вынужден был иногда собирать у себя для молодой жены; не хотел выглядеть в глазах света хуже других) остатки пищи. И на своей тарелке – тоже... Как правило, оставшись один, не обязанный сам-на-сам придерживаться последнего модного этикета, старый Шмидт позволял себе вольность, делал отдушину – с наслаждением, с самозабвением, едва не закатывая глаза от удовольствия, он вылизывал свою тарелку до блеска (хорошо еще, что только свою!).
Многие люди к старости становятся жадными (иногда – до неприличия): все менее склонными что-то выбрасывать, все более склонными подобрать что-нибудь на мусорке, даже если живут в достатке. Пожалуй, это не стоит называть собственно жадностью; скорее это – болезнь возраста. И юноша, сегодня потешающийся над старцем, роющимся в мусоре, вполне вероятно, в свое время кончит тем же.
Доходило до абсурдов. Мужа Милодоры долго, например, волновал вопрос: то, что он после обеда выковырял из зубов, следует выплюнуть или съесть? Наряду с важнейшими вопросами градостроения его волновал и этот вопрос. Таков человек!... Старый Шмидт предпочитал съедать (остряки называют это драконьей болезнью)... Старый супруг не раз задавал сей вопрос Милодоре и пускался в пространные рассуждения на эту тему, с наслаждением орудуя зубочисткой и умильно закатывая к потолку глаза. Свои наставления обычно заканчивал чем-то вроде: «И вообще: облизать тарелку после себя – ни с чем не сравнимое удовольствие»... Милодора не могла это слушать спокойно и едва удерживалась от нервной гримаски и от бегства из столовой. Лакеи, прислуживающие за столом, сочувствовали своей молодой госпоже.
... Книг он почти не читал, хотя любил окружить себя ими и принять в библиотеке значительное выражение лица. Чаще старик Шмидт дремал в библиотеке, нежели читал что-то. Когда просыпался, сразу делал лицо усталое, хотя усталым и не был; он, верно, подметил однажды и до конца своих дней считал, что усталое лицо – один из признаков умудренного опытом человека, утомившегося за жизнь напряженной деятельностью ума. Но при отсутствии оного признак сей был не что иное, как маска. Милодора, несмотря на свой юный возраст, быстро с маской супруга разобралась и не обманывалась более, наблюдая над какой-нибудь очередной глупостью умное выражение лица... Откуда ум, ежели им не одарила природа, откуда у человека жизненный опыт, ежели человек этот всю жизнь прожил при наследстве и просидел, ничего не решая, на дорогом стуле, – только прослеживал с томящимся видом поры года в окно?..