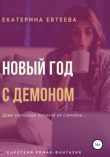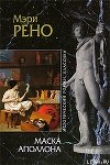Текст книги "Петербуржский ковчег"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Глава 32
Сердобольный солдат приносил ей кипяток, и Милодора пила, обжигаясь, и кашель, душивший ее, на некоторое время отступал. Должно быть, в болезни ее наступил кризис. Милодора знала откуда-то, что кризис всегда наступает ночью. Была ночь... Всюду была темнота. Милодора видела только свои руки, помятую кружку и руки солдата – большие, с желтыми мозолями и крепкими узловатыми пальцами... Но в какой-то момент Милодора заметила, что руки солдата изменились – они как бы постарели и усохли, побледнела кожа, проступили голубые жилы. Ошибки быть не могло: руки, в очередной раз подавшие ей кружку, – были руки немолодого человека (конечно, не такие, какие были у покойного супруга ее Федора Лукича Шмидта – дрожащие, пожелтевшие, с темно-коричневыми пигментными пятнами, – но и не двадцатилетнего солдата)... Сделав глоток, Милодора подняла глаза:
– Кто вы? – она не могла разглядеть этого человека. – Как вы здесь оказались?
Светлое пятно лица проступило из темноты. В первую секунду Милодоре все же почудилось, что это явился из небытия старый Шмидт, что он выбрался-таки из темного дальнего угла и теперь начнет ее мучить – мучить своими извращенными фантазиями.
– Разве вы не узнаете меня, Милодора Николаевна? – здесь, в этих стенах никто еще не говорил с Милодорой таким добрым теплым голосом.
Все плыло у нее перед глазами.
– Я вас знаю?
– Это пот, что катится солба, – сказал добрый голос. – Он застилает вам глаза...
– Пот? Да, наверное... Это плохо.
– Напротив! Это хорошо, что появился пот. Это может означать, что наступил перелом в болезни... Смею надеяться – в лучшую сторону...
– Ваш голос мне знаком, – Милодора закрыла глаза, которые все равно ничего не видели. – Вы, наверное, пришли ко мне во сне?
Человек осторожно промокнул ей глаза платочком.
– Боже, до чего нужно довести человека, чтобы он меня принимал за сон.
– Это вы, доктор Федотов? – улыбаясь, спросила Милодора и открыла глаза.
– Я. Я, голубушка... Но только никакой я не сон, – Федотов и сам готов был прослезиться. – Теперь вы видите меня, надеюсь. И подадите какой-нибудь знак – убедите в ясности вашего разума. Вы пришли в себя совершенно?.. Вы только что бредили...
Милодора крепко взяла его за руку, будто страшилась, что он вдруг исчезнет – так же внезапно для нее, как и появился.
– Да, я вижу, что вы не сон... И сознание мое ясно... Но коли вы не сон, то ответьте: правда ли, что произошло это несчастье?
– Что за несчастье?
– Непоправимое... ужасное несчастье...
– Какое, голубушка? Самое большое несчастье – что вы еще здесь, в этой проклятой норе.
– А то несчастье... – сбилась на шепот Милодора, – что Палон Данилыч... умер...
– Кто вам такое сказал!... – переменился в липе Василий Иванович.
– Карнизов сказал... Доктор Федотов покачал головой:
– Видать, Карнизов не относится к числу ваших друзей. Впрочем, никто и не думает иначе.
Милодора теперь смотрела на него, как на ангела, спустившегося с небес.
– Значит, Аполлон жив? Жив?.. Ну что же вы молчите, доктор!...
– Жив он, да... Но мне кажется, вы еще в бреду...
– Господи! Я всегда чувствовала это. Я не верила... – Милодора порывалась встать.
Федотов удерживал ее:
– Жив Аполлон Данилыч... А вы лежите, голубушка. Вам надобно, милая, лежать... Вы слышите!... Господин Романов переживает только очень. Тщится вам помочь, места себе не находит...
– Милый... Милый Аполлон... И вы милый, Василий Иванович, – шептала Милодора. – Значит, не обманул солдат, – она была как в бреду, лицо блестело от пота; она пришла в явное возбуждение, узнав, что Аполлон жив. – Как же так! Да есть ли хоть что-то святое для этого человека? Лгать так!... О, как я его ненавижу!... Жив Аполлон... люблю!
– Голубушка, вам нельзя так волноваться, – пытался успокоить доктор Федотов. – Вы сейчас в очень опасном периоде. Вам нужны покой и лечение...
– Да, да... Но вы поймите мою радость, – соглашалась Милодора. – Ведь мне-то сказали... Ведь во мне умерло все... Разве так можно!
– Вот теперь и успокойтесь. А я буду ходатайствовать, чтобы забрать вас отсюда.
– Заберите, заберите... – пришла в еще большее волнение Милодора. – Я не могу тут... Зябко и все время ночь, ночь... И приходит... страшно.
– Кто приходит? Успокойтесь, милая...
– Фронтон приходит. Он будто кается. Я не пойму... И старый мой супруг...
– Да ведь он-то как раз умер давно. И не может к вам приходить... Ох, Господи! Да вы, и правда, еще не в себе. Это вы в болезни. Это представляется вам.
– Нет, нет. Все видно и слышно так ясно...
– Я заберу вас к себе – в Обуховскую больницу, – Федотов платочком вытирал Милодоре горячее лицо. – Но вы должны мне помочь... Успокойтесь, соберитесь с силами и скажите сейчас: вы готовы помочь?..
Доктор Федотов вошел в номер к Карнизову. Была глубокая ночь. Горели в серебряных подсвечниках свечи. Поручик сидел за столом и писал.
Увидев вошедшего Федотова, Карнизов отложил перо.
– Надеюсь, не понадобится забирать ее к вам?.. У нее ведь обычная простуда, как я понимаю.
Доктор Федотов сел перед ним на стул. Лицо доктора было сумрачно.
– Она весьма плоха, поручик...– Что значит – весьма? Она же не при смерти...
– У нее лихорадка. Ее мучит кашель, болезненный в груди... Все говорит за то, что у Милодоры Шмидт развилось сильнейшее воспаление.
– И...
– Если ничего не предпринять, то к утру разовьется отек легких, что вызовет постепенно нарастающую обтурацию, как следствие – асфиксию и...
– Говорите яснее, – занервничал поручик.
– Она вряд ли доживет до следующего вечера.
– Значит, вы хотите ее забрать... Василий Иванович развел руками:
– Я бы мог еще что-то сделать на месте пару дней назад. Но сейчас недуг слишком укоренился. И чтоб подвигнуть его в обратную сторону, нужно немало потрудиться многим людям... Впрочем я не могу поручиться за то, что наши последующие усилия приведут к успеху. Время потеряно, знаете ли...
Карнизов откинулся на спинке стула и некоторое время размышлял.
Доктор Федотов вздохнул:
– Думайте быстрее, поручик. Дорога каждая минута... Ваша... подопечная... сгорает... Я полагаю, не в интересах дознания, чтобы она сгорела здесь. И не в моих, поскольку мне сложнее будет переломить болезнь.
Карнизов вскочил со стула. Карнизов не хотел выпускать из своих рук Милодору Шмидт, и в то же время отлично знал, что, сгори она здесь, начальство его за это не похвалит. Он нервничал и едва мог сдерживать себя, чтобы не сорваться на крик:
– А в полной ли вы уверенности, что дело обстоит именно так? У меня есть сомнения... Не оказывает ли на вас слишком большое влияние личная приязнь?
Федотов кивнул на стол:
– Я изложу свое мнение на бумаге – как и полагается.
– Пишите!... – поручик подвинул ему лист бумаги и чернильницу с пером.
Доктор молча с угрюмым лицом написал несколько строк и размашисто расписался.
Когда с формальностями было закончено, Карнизов сказал:
– Кроме сопровождения, я пошлю с вами еще одного солдата. Он будет стоять на часах возле больничных покоев...
– Охранять?
– Я не хочу рисковать... Милодора Шмидт представляет слишком большую опасность... И в случае побега я слагаю с себя всякую ответственность...
– О каком побеге можно говорить, если она не сделает самостоятельно и пяти шагов?
– У нее могут быть соумышленники, которые...
– Конечно, конечно, голубчик!... Я не подумал... О чем речь!... – сказал, промакивая у себя на лбу пот, доктор. Карнизов вскочил со стула, будто ужаленный.
– Я вам не голубчик, сударь!... Я вам – офицер!... Извольте соблюдать... – у него налились кровью глаза, задрожали губы и подбородок; брызгала на стол слюна.
– Конечно, конечно, го... Простите старика!... – доктор попятился из номера; вид разъяренного Карнизова был ему неприятен, как, впрочем, и вид Карнизова не разъяренного...
– И чтобы все было как положено!... – орал поручик вслед доктору. – Чтобы ответственность!...
... Носилок в тюрьме равелина не нашлось.
Доктор Федотов и тот молодой солдат из караульных под руки вывели Милодору во дворик. Там ожидал экипаж, обитый железом. Поручик Карнизов прохаживался рядом, заложив руки за спину. Поручик желал убедиться: действительно ли так уж плоха Милодора. Он устремил на нее пристальный взгляд... Да, она была плоха. Она была в таком состоянии, что даже не заметила Карнизова, мимо которого ее провели.
Милодору посадили в экипаж и укрыли каким-то одеялом.
В это время Карнизов позвал:
– Господин Федотов!... Доктор оглянулся.
Поручик с каменным лицом погрозил ему пальцем:
– Головой отвечаете...
Спустя несколько минут экипаж выехал из ворот крепости. Уже всходило солнце. В лучах его розовели воды Невы, а также редкие облака, как бы подсвеченные снизу, и городские крыши. Воздух был по-осеннему прозрачен и свеж.
– Все позади уже. Позади... – сказал Василий Иванович.
Милодора сидела на жесткой скамье тюремного экипажа, прижавшись к доктору Федотову и положив голову ему на плечо. Кашель отступил пока... а может, кризис действительно прошел...
Карета ужасно громыхала железом на булыжной мостовой. Но сквозь этот грохот Милодора слышала слова, сказанные доктором:
– Вы знаете, голубушка, кто нам поможет более всего?..
– Аполлон?
– Нет... Вы, быть может, удивитесь, но поможет нам Миша Холстицкий...
Солдат, обняв ружье, дремал на скамейке напротив...
Уже под вечер следующего дня солдат вернулся в крепость с донесением от лекаря Федотова. В донесении было сказано, что, несмотря на все предпринятые усилия его, Федотова, лично как пользующего врача (применялись весьма энергически антифлогоз – против воспаления, и лактукарий – против кашля, а также другие весьма действенные средства, о коих будет доложено отдельно) и ученого совета, переломить кризис в течении болезни Милодоры Шмидт не удалось, и оная Милодора Шмидт рано утром такого-то числа скончалась в семнадцатом покое Обуховской больницы... Смерть Милодоры Шмидт могут свидетельствовать доктор Федотов, фельдшер Яков Зейбельман, сиделка Антонида Телегина и солдат крепости Андрей Стеклов...
Солдат Андрейша Стеклов положил пакет с донесением на стол перед поручиком.
Карнизов исподлобья взглянул на солдата:
– Умерла?
– Умерла-с... господин поручик...
– Иди пока, – ледяным голосом сказал Карнизов.
Когда солдат вышел, поручик разорвал пакет (хотя всегда вскрывал пакеты аккуратно – срезал ножницами край) и прочитал донесение.
– Вывернулась-таки!... – он нервно скомкал бумагу и бросил под стол. – Вывернулась...
Но уже через минуту поднял донесение, расправил его на колене и положил под стопку других бумаг. Потом достал чистый лист и изложил на нем по пунктам указания Федотову: умершую в больнице Милодору Шмидт вынести из покоя завтра после осмотра чиновным лицом; вынести только после вечерней зари, дабы не было слишком многих свидетелей, и о личности умершей не распространяться; тело поместить в особый покой (а если такового не имеется – будет занят, – в мертвецкую); пригласить священника для отпевания по православному обряду; свезти умершую на кладбище, что на Васильевском острове, погрести скромно; все расходы на похороны принять за счет крепости...
Разумеется, тем чиновным лицом был сам поручик Карнизов...
На следующий день примерно в час по полудни поручик приехал в Обуховскую больницу.
Встречавший его на крыльце фельдшер проводил в «особый покой». Комната на втором этаже больницы, окнами на север, была затемнена. В углу под образами курилась кадильница. Кроме кадильницы и иконы Иверской Божьей Матери, в комнате были только три предмета: стул, невысокий стол и гроб на столе. Гроб был очень красивый и дорогой – не иначе из ливанского кедра (того самого знаменитого кедра, из которого некогда египтяне строили свои корабли, из которого они делали саркофаги), лакированный, с резными краями и четырьмя бронзовыми ручками по краям.
Вслед за Карнизовым в комнату вошел доктор Федотов, которому сообщили о появлении офицера из крепости; от доктора пахло камфарой.
Поручик кивнул ему и сел на стул:
– Почему такой дорогой гроб? Я же велел скромнее... Если каждому умершему арестанту крепость будет покупать такой гроб...
– Это подарок...
– Подарок? – неприятно удивился Карнизов. – Чей?
– Граф Н. вернулся в Питер... И, узнав о кончине госпожи Шмидт, сделал ей последний подарок.
Карнизов изменился в лице, но ничего не сказал; сделал легкое движение пальцем, указывающее открыть фоб.
Фельдшер и солдат тут же сняли красивую резную крышку...
Видно, художник потрудился над лицом умершей: глаза ее не выглядели такими запавшими, какими были в последние дни; на щеки и несколько заострившиеся скулы были слегка наложены румяна, также были подведены губы. Блестел мертвенно-желтоватый лоб – будто вылепленный из воска, – в прядях волос, выбивающихся из-под какого-то чепца, виднелись седые волосы...
Карнизов не замечал прежде у Милодоры седых волос.
Противоречивые чувства овладели поручиком. С одной стороны, все клокотало в нем: из-за смерти Милодоры он не смог довести до конца важное дело – дело, на котором намеревался построить всю свою дальнейшую карьеру (не так-то часто появляется возможность вывести на чистую воду такого влиятельного масона, как граф Н., и упускать такую возможность – более чем обидно); когда еще попадутся ему в руки враги отечества, тайные заговорщики – да чтоб еще знатные и потому заметные, вокруг которых можно было бы раздуть шумное дело!... С другой стороны, Карнизов не мог не скорбеть по Милодоре: в последние дни его все более и более влекло к ней, и он ничего не мог с этим поделать. Карнизов знал точно: ни к одной женщине его прежде так не влекло. Он, бывало, не находил себе места ни в городе, ни в крепости, ибо знал, что место это только одно – подле Милодоры... Карнизов боялся признаться себе, что любит Милодору – любит безумно... любит этот предмет так, что обладания им ему мало, ему нужна полная власть над этим предметом, чтобы насытить, удовлетворить свою любовь... а полная власть – это не что иное, как разрушение; разрушить обожаемый предмет – вот высшее проявление любви, вот верх земного блаженства!... И Карнизов разрушил бы Милодору в свое время – вот эту шею, вот эту грудь, вот это лицо – совершенное лицо любимой... Он сжимал бы эту шею пальцами – до хрипа в трахее, до лиловых синяков на мраморно-белой коже; он раздирал бы эту грудь ногтями – стараясь доискаться под нею тонких изящных ребер; он раздавил бы это лицо коленом – и слушал бы хруст косточек, как величайшую музыку в свете...
О, как он любил Милодору!...
Но Смерть опередила его, Смерть разрушила Милодору еще до того, как он к своей любимой, к своей жертве прикоснулся... Он так и не овладел ею... Карнизов положил руку Милодоре на лоб. Лоб ее был холоден... Рука Карнизова дрожала. Доктор Федотов подошел к нему сзади, склонился над ним и сказал тихо:
– Господин поручик! Что вы!...
– А? – взгляд у Карнизова был полубезумный.
– Не тревожьте усопшую, – доктор указал глазами на руку поручика. – Тлен уже коснулся бедняжки – осень ныне теплая... Мы не помещали тело в ледник...
Карнизов убрал руку. Спрятал глаза.
– Вы, кажется, сказали, что граф Н. вернулся?.. Он разве ездил куда-то?
– Не могу знать, – развел руками Федотов. – Так сказали лакеи, когда привезли... последний подарок.
– Лакеи? При чем здесь лакеи? – поручик пребывал сейчас в таком состоянии, что смысл слов доходил до него медленнее, чем обычно.
– Лакеи всегда знают больше, нежели им положено знать, – пояснил Федотов.
Карнизов кивнул; в глазах его, только что как будто погасших, опять загорелся холодный огонек, – должно быть, такой огонек загорается в глазах хорошего охотничьего пса при виде добычи.
– Лакеи, говорите? А ведь и действительно... Оставив фельдшеру какую-то мелочь «на свечи», поручик Карнизов покинул покой.
Глава 33
Едва со двора Обуховской больницы укатила железная карета, у ворот остановился обычный городской экипаж с открытым верхом.
Это живописец Холстицкий привез для прощания с Милодорой Аполлона.
Господь распорядился разумно, не дав встретиться Аполлону с Карнизовым у гроба усопшей. Аполлон, подавленный горем, мало владел собой; а поскольку причину своей беды видел конкретно в поручике, то вполне мог попытаться выместить на поручике все, что наболело на душе, – и выместил бы, и ударом кулака на этот раз не обошлось бы. Холстицкий приостановился на крыльце.
– Вы уверены, Палон Данилыч, что, действительно, в силах...
– В силах...
–...перенести это?
– Да... Где она? Умоляю...
– Ну-с, тогда идемте... К величайшему прискорбию, я не могу как-то утешить вас...
... Аполлон стоял над фобом, не веря своим глазам, не веря в то, что происходит, не веря в то, что Милодоры больше нет... Милодоры нет больше – три эти коротких слова не умещались у него в сознании, смысл их ускользал...
Было мертвое лицо Милодоры – бесконечно любимое Аполлоном лицо; крыло ангела Смерти коснулось этого лица – оно стало как восковое; каждую черточку этого родного лица Аполлон (о, Господи, это было совсем недавно и невероятно давно) познал губами. Вот эти глаза, этот лоб, уста, полные жизни и ответного чувства, нежные, трепетные, тянущиеся к его устам, он покрывал поцелуями... Теперь тень Смерти залегла у глаз, мертвенной желтизной покрылся лоб, губы чернели на бледном лице. Трудно было узнать в этой Милодоре ту – с полотна, прекрасную охотницу Диану. Как быстро тлен коснулся ее совершенного лица!... Как быстро подернулось это ясное чело восковым блеском – признаком смерти!... Совсем недавно Аполлон уже видел такой восковой блеск: когда хоронил брата. Этим характерным восковым блеском Смерть делает схожими между собой даже самые разные лица. Смерть... Смерть...
Аполлон насилу сдерживал рыдания, рвущиеся из груди.
Смерть... Смысл этого страшного слова как бы прорвался через пелену затмения, окутавшего, будто траурный саван, сознание Аполлона; смысл этого слова во всей его безысходности проник в Аполлоново сердце и сжал его невыносимой болью.
Аполлон поник головой; слезы текли по щекам его.
– Боже, почему все так?.. Я не понимаю...
Ему не хотелось жить – так велико было его горе.
Смерть как будто провела через эту комнату невидимую черту: все то хорошее и плохое, что могло быть в жизни Аполлона, осталось перед этой чертой; а за чертой ничего не было; только непроглядная тьма, от которой мрачно и пусто было на сердце и холодно – на душе... Эти мрак и пустота отразились в глазах у Аполлона и не укрылись от присутствующих.
Федотов и Холстицкий переглянулись. Василий Иванович легонько приобнял Аполлона за плечи:
– Ах, сударь, я знаю, как вам трудно сейчас. Но госпоже Милодоре уже ничем не поможешь... Подумайте о себе... Нет смысла так убиваться!... Надо жить...
– Зачем? – не пряча слез (что, бесспорно, является признаком силы), поднял глаза Аполлон.
– Подумайте, как отнеслась бы к вашему вопросу сама госпожа Милодора, – нашелся Федотов. – Она любила вас искренне и сильно. Она желала вам многих-многих лет... и счастья.
– Откуда вам знать? – покачал головой Аполлон. – Она ведь умерла, не оставив мне ни того, ни другого.
– Она на моих руках умирала... Она бредила... о вас... И последние слова ее были о вас... Вы должны найти в себе силы и пережить эту беду. Вы должны жить и за себя, и за госпожу Милодору. Ваша жизнь теперь – память о ней, о Милодоре. Разве это не очевидно?... Аполлон молчал, не зная, что ответить. Было пусто на душе, было тяжко на сердце...
Он поднял глаза на Федотова и только сейчас приметил, как тот постарел: видно, тоже переживал очень, видно, и для него Милодора была дорогой человек...
Федотов взял Аполлона за руку и покрепче сжал ее.
– Время пройдет и вам станет легче. Устиша, которая тоже была здесь, всхлипывая, зажигала свечи. Священник что-то читал вполголоса и второпях над телом усопшей.
Потом какие-то люди вежливо, но настойчиво, оттеснили Аполлона в сторону и закрыли крышку гроба.
– Вам не надо бы ехать на погребение, – посоветовал Аполлону Миша Холстицкий.
– Как это?
– Вы едва держитесь на ногах... Я отвезу вас домой. Хотите?
Аполлон не понимал, о чем речь, – почему это ему не надо ехать? Федотов сказал:
– Умерших из крепости хоронят без церемоний... Зачем вам быть там? Только новые страдания...
Но как мог Аполлон не быть там!...
На кладбище приехали глубокой ночью.
Накрапывал мелкий нудный дождь. Какие-то незнакомые люди сняли с больничного катафалка гроб и, освещая себе путь фонарями, прошли к отрытой уже могиле. Устиши и Холстицкого на кладбище не было. Федотов, которому, как видно, было не впервой хоронить умерших узников крепости, делал на ходу некие распоряжения.
Священник наскоро прочитал молитву, из которой Аполлон слышал только отдельные слова: «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней... Вечная память...»; под тихий шелест дождя о листву фоб опустили в могилу. Глухо застучали о крышку влажные комья земли – сноровисто работали землекопы с равнодушными лицами. Крестился Федотов; священник, спрятав молитвенник в вырез ризы, зябко ежился под дождем.
Аполлон воспринимал происходящее как кошмарный сон. Милодора, возлюбленная его Милодора была теперь там – под землей, сырой и холодной. Мертвая под мертвой землей...
Утирая капли дождя с лица, Аполлон шел прочь – куда-то в темноту.
Тускло светили у него за спиной фонари, выхватывая из ненастной тьмы покосившиеся унылые кресты и старые замшелые памятники.
Где-то далеко стукнул один раз колокол...
Поручик Карнизов сидел у себя в номере втором и в состоянии полного недоумения взирал набумагу с высочайшим соизволением о помиловании Милодоры Шмидт...
Сей рескрипт с личной печатью государя поручик обнаружил у себя на столе рано утром. Недоумение у поручика вызывал не сам рескрипт и не вопрос, что с ним теперь делать, а вызывала недоумение быстрота, с какой бумага появилась в тюрьме Алексеевского равелина, – ведь поручику, как никому другому, было хорошо известно, сколь длинен путь всяких прошений через чиновные кабинеты; так же хорошо было ему известно, как часто прошения попадают под сукно, ежели не подкреплены соответствующей мздой; и даже если есть мзда, дело не избегает волокиты, ибо в каждом высоком кабинете (пока еще дойдет до государя) есть свой высокий стол и есть свое сукно, требующее его позолотить (да не оскудеет рука дающего!); а кабинетов много – все выше и выше, а аппетиты от сей высоты только разгораются – всякий чин требует к себе уважения (уважение же к чиновнику ни в одной уважающей себя канцелярии не выражается в почтительных словах и земных поклонах); а ежели вовсе без мзды, без уважения, то с равным успехом можно выбросить свое прошение в черное болото...
Появление рескрипта было удивительно, поскольку Милодора Шмидт пробыла в тюрьме равелина недолго – чуть более месяца. Вероятнее всего, вступился за Милодору некто состоятельный и с возможностями. Да кто же еще, если не граф?.. Он и провел бумагу через все кабинеты и добился рассмотрения ее государем...
Разумеется, поручику Карнизову ничего не было известно о стоянии Аполлона на площади перед дворцом; ничего не известно ему было (как, впрочем, и самому Аполлону), что высшие придворные чины обратили-таки внимание на молодого человека, дерзнувшего таким необычным способом добиться высочайшей аудиенции, а значит, могли обратить внимание и на его просьбу; бумаги же, к которым проявлен интерес сверху, в кабинетах обычно не задерживаются...
Как бы то ни было, сейчас, после смерти Милодоры Шмидт, бумага, подписанная самим государем, не имела никакого значения (появись она на столе в номере втором неделей раньше, вот уж поручик поскрипел бы зубами!), а посему Карнизов, перечитав ее пару раз и отметив красивый писарский почерк, сунул бумагу... себе под сукно. Дело о Милодоре Шмидт можно было считать закрытым.
Упрямо хмыкнув, Карнизов достал из стола другую папку – с подробными признаниями фон Остероде.
Поручик переворачивал листок за листком, пробегал написанное глазами и помечал галочками на полях места, касаемые персоны графа Н.
За этой работой и застал его солдат, вошедший в номер после короткого стука:
– К вам курьер от... Солдат не досказал, потому что курьер, не дожидаясь разрешения, стремительно вошел к Карнизову.
–... от военного губернатора, – и, обернувшись к солдату, бросил уверенно: – Ты свободен, любезный...
Солдат вышел.
Поручик встал со стула, но из-за стола не выходил, всем своим видом выражая почтение: еще с памятного восемьсот двенадцатого года равелин был поставлен под непосредственное подчинение военному губернатору, и курьер от оного был для Карнизова лицом значительным, – пожалуй, на уровне самого смотрителя равелина.
Курьер был молодой человек с острыми и цепкими, холодными мышиными глазами, с узким бледным лицом, тонкими губами, поджарый, с движениями резкими, выдающими самоуверенность, присущую, по мнению Карнизова, типу нервическому. Карнизов сразу определил, что в многотрудные времена (какие в России с победой над Бонапартом не кончились, а скорее только начались, ибо русская армия принесла из Европы на хвосте немало «блох», именуемых свободомыслием, свободолюбием, правдоискательством, демократией и прочая, и прочая) такой нервически уверенный молодой человек далеко пойдет – едва научится ловить рыбку в мутной воде, – пойдет еще дальше его самого, поручика Карнизова, если учитывать близость сего молодого человека к сильным мира сего, чего поручику Карнизову всегда до обидного недоставало.
– Чем могу?.. – Карнизов замер в угодливой позе, глаза его смотрели искательно; впрочем – всего мгновение, через которое поручик опустил глаза долу".
Курьер сел напротив, на тот самый стул, на который обыкновенно садились арестанты, и сделал жест рукой, позволяющий поручику тоже сесть.
Карнизов послушно последовал примеру гостя. Карнизов уж будто и не был хозяином здесь, в этом помещении. Прикажи сейчас курьер, и Карнизов уступит ему собственный стул, а сам сядет на стул арестантский...
Молодой человек так и впился в Карнизова мышиными глазками.
– Не буду водить вас за нос, милейший... Военный губернатор понятия не имеет, что я здесь... Это для дураков, к каковым я отношу вашего часового, но вас отнести никак не могу...
Брови Карнизова взметнулись вверх, краска негодования бросилась в лицо, губы сжались, по краям рта обозначились уверенные складки; поручик выпрямился на стуле.
– Как это понимать?
– Я по поручению графа... – надменно улыбнулся молодой человек. – Не будем называть имен; вы знаете – какого...
Карнизов сделал убедительно хмурое лицо, закрыл папку на столе и спрятал ее в стол.– Допустим...
Молодой человек внимательно следил за Карнизовым глазами.
– Это не те ли бумаги вы прячете?
– Какие бумаги?
– Касательно Милодоры Шмидт...
– Не те... – наглость гостя настолько ошеломила поручика, что тот, пребывая еще в некоторой растерянности, не сразу нашелся, как дать «курьеру» отпор.
– А где те?
Карнизов зло улыбнулся; он тоже был хищник.
– Вы так легкомысленно рискуете головой, дражайший... Стоит мне кликнуть часового...
– Я так не думаю. А вот вы рискуете основательно. За вас не дам и ломаного гроша, если вы заупрямитесь и не пойдете нам навстречу.
– Навстречу в чем?
– Вы должны уничтожить все бумаги, заведенные на Милодору Шмидт. Прямо сейчас – при мне. Кроме того, ее имя, как и имя графа, не должно упоминаться ни в одном документе, исходящем из-под вашего пера в дальнейшем...
– Вот как!... – Карнизов улыбнулся.
Он не решил еще, каким образом поступит: посмеется ли в глаза этому наглецу и отпустит на все четыре стороны или выбросит его в коридор и сдаст под стражу, а потом доложит о подробностях военному губернатору.
– Мне думается, вы не понимаете, что происходит, – оценил улыбку поручика курьер. – Я говорю сейчас скорее в ваших интересах, чем в интересах названных людей: ибо, если вы теперь не уничтожите бумаги, могут уничтожить – раздавить – вас...
– И кто же?
– На вас смотрят сейчас весьма влиятельные люди, и от того, как вы себя поведете, напрямую зависит, как поведут себя они...
– Не сомневаюсь, – улыбочка стала язвительной.
Молодой человек продолжал:
– Военный губернатор, которому вы непосредственно подчиняетесь, – это только один из рычагов, на которые они надавят... Люди, коих я имею в виду, практически всесильны... За ними – полсвета... Министры, короли иностранных держав, цвет российского дворянства...
Улыбочка медленно сползла с лица Карнизова.
– У вас болезненная фантазия.
– Вовсе нет. Я хочу просто напомнить вам о возможностях братства.
– Вы блефуете, как карточный игрок...
– Ничуть.
– Если те люди всесильны, зачем же вы здесь? Молодой человек кивнул, как бы отметив этим разумность вопроса.
– Не в их интересах и тем более не в ваших – лишний шум вокруг этого дела. Вам же известно, что чем мудрее человек, тем более он предпочитает оставаться в тени.
– Похоже, вы меня уговариваете? – иронически поджал губы поручик. – Не кажется ли вам, что... слишком много слов?
Брови молодого человека сошлись на переносице:
– Мне понимать это как отказ?
– Ничем не могу помочь, – Карнизов развел руками.
– Что ж!... – курьер поднялся со стула. – Вы сами выбрали свою судьбу, свою карьеру... А точнее – отсутствие оной...
И молодой человек направился к двери.
– Погодите, – голос поручика стал мягче. Карнизова, кажется, зацепили слова о карьере...
Курьер обернулся.
Неуверенность была в лице Карнизова.
– Вы слишком спешите, решая столь важные дела. Между тем они требуют неторопливости, – поручик с трудом подыскивал слова. – Я сделаю... то, что вы... просите... Но мне хотелось бы получить письменный приказ... Делопроизводство, знаете... Бумаги подшиваются... А устное распоряжение – как ветерок с реки: вот он был, а вот его уж нету...
Молодой человек опять кивнул.
– Письменный приказ о разжаловании поручика Карнизова в солдаты может быть подготовлен в течение нескольких часов... – это был довольно бойкий молодой человек.
– Опять слова, – в лице поручика проявилась бледность; оно и понятно: кому понравится перспектива быть разжалованным и нести изнурительную караульную службу на куртинах и бастионах...
– Что ж из того! Из слов составляются важные документы. Кому это знать, как не вам!... – курьер все еще оставался возле двери. – Вот мы сейчас попусту тратим время, а где-то там, в городе, в блестящих апартаментах графа, опытный крючкотвор, – смею заметить, много опытнее вас, милейший, – стоя за конторкой, подгоняет одно к другому очень точные слова... Возможно, пишет он о том, что вы, поручик, тоже проживали в доме Ми-лодоры Шмидт и состояли членом тайного общества... А также пишет о том, что, когда запахло жареным, вы решили всех утопить, пока не утонули сами. И надо сказать: кое в чем преуспели... Вы утопили образцового офицера Остеродс – добропорядочного сына отечества, насколько я знаю по отзывам, и тот может Бога благодарить, если отделается Кавказом; а с госпожой Шмидт, вдовой уважаемого заслуженного человека, вообще переусердствовали...