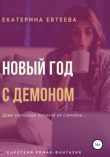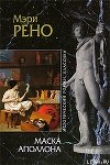Текст книги "Петербуржский ковчег"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Не подобрать слов, способных в полной мере отразить радость Захара при виде спасенной дочери, ведь он не чаял вообще увидеть ее среди живых. Слезы текли по щекам Захара, и он бесконечно укорял и бранил себя, что запер в этот злосчастный день дверь своего жилища; не стесняясь этих слез, Захар благодарил «молодого барина» за его благородный поступок, и, если бы не явная вероятность опрокинуть лодку, Захар бросился бы Аполлону в ноги и целовал бы их – и то, наверное, не излил бы всей благодарности.
За этим бурным проявлением чувств все трое не могли слышать, что некий человек призывает их на помощь. Кабы они обернулись, то увидели бы поручика Карнизова, стоящего по пояс в воде в дверях дома и машущего рукой...
Поручик, отчаявшись докричаться, вернулся в переднюю и ударил в колокол – корабельная рында оказалась сейчас весьма кстати, как, пожалуй, никогда прежде. Тягучий и продолжительный звон колокола понесся над водой... Аполлон, Захар и Настя оглянулись.
Захар, увидев Карнизова, в растерянности потер небритый подбородок:
– Вот, дьявол!... А он что тут делает?..
Никто ему не ответил.
А поручик еще раз – громче и требовательнее – ударил в колокол. Видя, что Захар повернул лодку к нему, Карнизов сделал вперед несколько шагов. Он теперь стоял по грудь в воде и поднимал над собой парусиновый мешок, заполненный чем-то до половины, и клетку с мокрым нахохлившимся Карлушей. Карнизов ждал; он был бледен и вымучивал из себя некое подобие улыбки.
Уже через минуту поручик сидел в лодке – Аполлон и Настя перешли на нос лодки, уступив Карнизову корму. Как бы плохо ни относились к поручику Аполлон и Захар с Настей, оставить его без помощи и тем самым взять грех на душу они немогли. Карнизов не сказал им ни слова, только кивнул в знак благодарности и сразу принялся снимать сапоги, чтобы вылить из них воду.
Тут Аполлон и припомнил, что среди прислуги немало говорилось в свое время о сапогах Карнизова, кои тот берег и любил, кои чистил по пять раз на дню и коих якобы никогда не снимал, а когда все же снял однажды, полагая, что остался один в комнате, то подглядел кто-то, что скрывались у поручика под сапогами ноги козла с отвратительными полуприкрытыми длинной шерстью копытами... И вот представился случай Аполлону самому убедиться: правду ли сказывали или возводили на поручика напраслину.
Впрочем не только Аполлон с интересом смотрел, как разувается поручик, – Захар косился, побелел, словно полотно...
Карнизов же снял сапоги, сбросил на дно лодки мокрые портянки, и Аполлон с Захаром увидели, что у поручика самые обыкновенные ноги – в меру волосатые, в меру кривоватые (явно не благородная кровь!), с желтыми неровно остриженными ногтями.
Захар вздохнул с облегчением и взялся за весла. Когда поручик доставал из мешка сухие портянки, Аполлон заметил в мешке несколько толстых пачек ассигнаций крупного достоинства. Карнизов, оглянувшись на Аполлона, быстро прикрыл деньги какой-то тряпицей и завязал горловину мешка бечевой.
Распорядился:
– Давай-ка, Захар, налегай на весла...
И тут Карлуша, все это время нахохленно, но смирно, сидевший в клетке, пришел в движение. Он стал переминаться с лапки на лапку и, будто заводной, крутить в разные стороны головой; потом внимание его чем-то привлек Аполлон; Карлуша, склонив голову набок, презрительно и даже как бы надменно уставился на Аполлона, смотрел так с минуту, затем встрепенулся, отряхнулся, хлопнул крыльями и хрипло угрожающе прокричал:
– Кх-кх-кар-кар-р!... Гортанно, раскатисто, жутко...
И как будто только этого недоброго крика, словно какого-то сигнала, недоставало всем силам зла, сосредоточившимся где-нибудь поблизости: последняя опора – скорее всего одна из важных несущих стен – в доме Милодоры Шмидт не выдержала разрушительного действия воды, и дом начал оседать – с оглушительным грохотом, с тучами пыли, поднимающимися над развалинами...
Сначала обрушился высокий купол зала, потом вдруг фасад, как стенка карточного домика, отделился от всего здания и повалился вперед, на улицу, затопленную водой... Образовавшейся волной едва не перевернуло лодку.
Все комнаты дома – с меблировкой, с драпировкой и обоями, со всякой утварью – стали видны снаружи. Трескались стены, проваливались полы, толстые балки переламывались, словноспички, ветер гулял по открывшимся комнатам и коридорам, со звоном сыпались из окон осколки стекла...
Все, кто сидел в лодке, будто завороженные, наблюдали за этим крушением. Был страх, но к страху примешивалось еще что-то, похожее на восторг, на чувство преклонения перед мощью разрушительных сил, – слишком уж внушительным было зрелище. Вероятно, с таким же (но значительно превосходящим по силе) смешанным чувством взирали жители древних Помпеев на извержение Везувия. Увы, разрушение впечатляет человеческую натуру много сильнее, чем созидание; смерть страшит более, чем радует рождение...
Аполлон смотрел, как рушится дом, в коем он жил, в коем на краткий миг обрел счастье, в коем много работал, отмеченный вдохновением, в коем лелеял прекрасные мечты... И вот это все уходило, будто рок подводил черту под этапом жизни Аполлона – да и не одного его. Что было прежде, уже не вернешь, как не войдешь в одну реку дважды; что будет после, тебе знать не дано, и не подскажет ни одна сомнамбула, даже за самые большие деньги... Там, среди этого хаоса, среди камня и кирпича, пришедших в движение и, подобно мельничным жерновам, перетирающим все и вся, гибнет твой ученый труд, предмет, к коему ты приложил столько сил, с коим связывал столько чаяний, философский камень, который, кажется, держал уже в руках, выскользнул... гибнут твои любимые книги, кои просвещали и вдохновляли, кои грели душу. Аполлон на секунду прикрыл глаза... Но с этим домом гибнет и дурное; не случайно ведь дом начал рушиться с купольного зала – как с средоточия зла. Хорошее гибнет вместе с дурным, что здесь накопилось. Но по большому счету дом гибнет в своем худшем выражении. Хорошее – это необходимая жертва, хоть и слишком дорогая...
Аполлон открыл глаза и посмотрел вдаль улицы, залитой сейчас водой. Дома стояли плотно, один к одному... И Аполлон был сейчас уверен, что на месте разрушенного в скором времени поднимется новый дом – еще более красивый и совершенный, и в нем не окажется места дурному, только прекрасное, доброе и гармоничное будет процветать в нем. Под ангельским крылом красавицы-хозяйки здесь поселятся науки и искусства, живые ремесла – ковчежцы высокого мастерства, – здесь поселятся неспешная мудрость, порядочность, красота, душевная простота, милосердие, любовь... Дом поднимется, он не может погибнуть до конца, ибо это именно о нем сказано в Святом Евангелие, что был основан он на камне... Дом, что рухнул сейчас, потому что не мог не рухнуть, возродится, как птица Феникс возрождается из пепла, и будет стоять пятьсот лет, как живет пятьсот лет прекрасная червонно-золотая легендарная птица. А что станет с Домом после, то... Впрочем... будет день – будет и пища... Человеку не дано знать, что будет даже завтра; куда уж ему заглядывать на половину тысячелетия вперед!...
Глава 39
Только в третьем часу по полудни уровень воды остановился, и наводнение стало медленно терять силу. Переменился ветер, который до сих пор гнал из залива свирепые разрушительные массы вод. Но за эти пять-шесть часов разгула стихии в городе случилось немало бед. Аполлон это увидел уже на следующий день, когда появилась возможность пройти по улицам – унылым, мокрым, заваленным грудами мусора и пахнущих рыбой водорослей.
Многие дома не выдержали испытания; развалины можно было встретить тут и там. Так же встречались повсюду поваленные и вырванные с корнями деревья; изломанные стволы деревьев представлялись взору в самых неожиданных местах: посреди площади, или у парапета набережной, или торчащими из окон первого этажа здания... Кое-где попадались Аполлону на пути неубранные трупы лошадей – высились над мостовой крутые с проступающими ребрами бока. Жалкое зрелище представляли собой перевернутые изуродованные повозки извозчиков и некогда нарядные золоченые либо лакированные господские экипажи... Ту барку, что вчера встряла в тесном проулке, сегодня разгрузили и распиливали на части, поскольку не было никакой возможности вытащить ее целиком...
По вновь наведенному плашкоутному мосту Аполлон перебрался наконец на Адмиралтейскую сторону, на коей тоже всюду были видны следы вчерашнего наводнения. Мостовые, покрытые илом, были скользкие; блестели многочисленные лужи, бежали ручьи; кучи мусора высились под домами. Напротив Летнего сада два тяжелых плашкоута крепко сидели на гранитном парапете. Первые этажи дворцов зияли, как пустыми глазницами, окнами без стекол... Стекольщики, штукатуры, каменщики, плотники и прочий мастеровой люд уже «латали дыры и бреши»; отовсюду слышались перестук молотков и визг пил...
... Еще до полудня Аполлон вошел в двери Обуховской больницы.
Доктора Федотова пришлось подождать, потому что тот был очень занят в это время больными...
Кстати будет сказать, что жертв во время наводнения было множество. В одну только Обуховку обратились за помощью сотни людей – весьма потерпевших от переохлаждения, получивших раны и ушибы, вывихи. С переломами помещали в палаты, а как в последних не хватало места, то и в коридоры, где уж и пользовали пострадавших. Краем уха Аполлон слышал, что покойницкие в больницах полны, однако со всего города продолжали свозить трупы утопших, и конца сему печальному счету как будто не предвиделось...
Больница была заполнена что называется битком.
Для работающих в ней докторов, для отдыха их отводилась лишь маленькая каморка с крохотным окошком, насквозь пропахшая камфарой, йодистой настойкой и винным спиртом; каморка эта, как видно (точнее – как слышно), использовалась прежде для хранения названных лекарств.
В каморке этой Аполлон и ждал Федотова около часу – сюда привела его молодая монашенка, которая в числе прочих своих сестер ухаживала за пострадавшими; эта же монашенка обещала разыскать и позвать доктора.
Стоны и крики раненых слышались из-за двери; кого-то куда-то перевозили на тележках; где-то поблизости звякали о лотки металлические инструменты...
Ожидая, Аполлон думал о том, что вот сейчас уже получит ответы на многие свои вопросы; без ответов он попросту отсюда не уйдет. Он даже разволновался от этих мыслей... Желая чем-то отвлечься, дабы унять волнение, выглянул в окошко.
К крыльцу больницы одна за другой подъезжали подводы и большие фуры с ранеными. Люди с носилками сновали туда-сюда. Какой-то человек, весь в черном, распоряжался: кого куда нести; ему приходилось кричать, чтобы голос его не потерялся во всеобщем шуме. Тех, кто умер по дороге, клали в сторонке рядком. Многие тела были окровавлены... Суетились родственники доставленных пострадавших и скорее мешали, чем помогали, голосила какая-то женщина...
Все это производило очень тяжелое впечатление.
... Наконец доктор пришел. На парусиновом фартуке, что был на нем, и на очках Аполлон заметил мелкие засохшие капельки крови. Вид у доктора был усталый; и не приходилось сомневаться, что Федотов провел бессонную ночь, – вряд ли вообще кто-то из врачей в Петербурге имел возможность спать этой ночью.
Увидев Аполлона, Федотов несколько смутился. И Аполлон понял – почему. Доктору, не привыкшему в жизни лгать, приходилось в отношении Аполлона прибегать к этому недостойному средству – по причинам, о которых Аполлон уже догадывался. Доктор Федотов был хранителем чужой тайны, и от сохранения этой тайны зависели жизнь одних людей и благополучие других.
Аполлон сообщил Федотову, что дома, в котором они до вчерашнего дня жили, более не существует, как не существует и всего того, что этот дом наполняло, – все разрушено, смято, раздавлено или унесено водой... Василий Иванович весьма посожалел о тех своих трудах, кои положил на создание анатомического атласа, – ведь атлас, о котором он мечтал много лет, был почти уже готов. Но, к удивлению Аполлона, сожаления доктора Федотова по поводу затраченного понапрасну труда не были столь сильны, как этого можно было ожидать. Объяснение сего обстоятельства открылось в словах доктора о том, что все атласы на свете не стоят жизни одного безвременно ушедшего из жизни человека... А сколько людей погибло за вчерашний день! Вот трагедия! Вот скорбь!...
Покончив с этим разговором, Аполлон задал Федотову вопрос напрямую: действительно ли жива Милодора и где сейчас находится?..
На что Федотов, пряча глаза, развел руками:
– Я не могу сказать больше, чем вы знаете, – и это была чистая правда.
– Бога ради, Василий Иванович, скажите... откройтесь...
Однако доктор молчал.
Аполлон порывисто поднялся и прошелся по комнате.
– Только что вы так хорошо говорили о жизни человека – человека вообще, – коей следует дорожить, как величайшей ценностью. И сейчас речь идет о жизни – о моей жизни. Кому, как не вам, еще знать, сколь необходима мне правда о спасении Милодоры?..
Вопросом этим Аполлон поставил Федотова в затруднительное положение; тот никак не хотел сказать ничего определенного, и юлить, выкручиваться, уклоняться не умел, да, пожалуй, и не хотел; потому молчал, и молчание его затягивалось.
Тогда Аполлон рассказал, что присутствовал при эксгумации, и поведал, каким недоумением и затем – радостью его закончился этот, как надо было ожидать, очень тягостный акт.
– Там соломенная кукла, Василий Иванович!... И вы это с самого начала знали. Более того: это была ваша выдумка... Все это время вы обманывали меня.
Тут Федотов и заговорил:
– Вы должны простить меня, старика, молодой человек. Да и Мишу Холстицкого... что не посвятили вас...
– Во что же? Во что не посвятили? – не в силах был сдерживаться Аполлон.
– Поверьте, сердце кровью обливалось смотреть на ваше горе, на метания ваши... Но таково было строжайшее веление графа. Мне бы и сейчас говорить не следовало, но раз уж вам так много известно, коли известно вам главное...
Аполлон в волнении схватил его за руку:
– Помилуйте! Какое может быть строжайшее веление, если я был на грани безумия от горя, если я был в болезни и, теряя память, не всегда пони-мал, где даже нахожусь, и где есть страшный сон, и где есть еще более страшная явь!...
– Вот, вот!... – кивнул Федотов. – Вам не приходило в голову, что граф более прозорлив, чем вы, и знает вас более вас самих?
– Но не обо мне же речь.
– Напротив. О вас...
– Тогда объясните. Я не понимаю.
– Извольте... Мне по долгу службы приходится каждодневно сталкиваться со многими человеческими типами да к тому же в разных – и в самых тяжелых – обстоятельствах. Смерть, знаете, болезни... и все, что с этим сопряжено... – Федотов снял очки и принялся тщательно протирать их платочком; засохшие капельки крови он соскабливал со стекол ногтем. – И натура человеческая для меня, старого лекаря, не сокрыта за семью печатями, как, быть может, сокрыта для любого смертного. Посему могу сказать с полным знанием предмета, что вы, любезный друг мой Палон Данилыч, человек весьма нервического склада... так сказать, импульсивный... Вы – талантливый, спору нет. Однако талант и другие лучшие качества таких людей, как вы, и зиждятся на этой самой нервичности. Вы очень впечатлительная и чересчур открытая натура – позвольте уж так выразиться... Имею в виду: можно ли быть открытым чересчур?.. Ваши настроения, ваши тончайшие веяния души – вот они! все на лице... И графу, должно быть, неплохо были известны особенности вашей лирической натуры. Он имел возможность где-то вас наблюдать; делал выводы, помечал себе на манжетах – в трудный момент знание пригодилось... И я не могу ему возразить: высоких свойств поэт, человек горячего трепетного сердца не может быть дипломатом, не может быть военачальником, не может быть царедворцем, как, впрочем, и не сможет быть карточным шулером; лицо, так ясно отражающее душу, всегда с головой выдаст его... Полагаю, что только поэтому граф не удостоил вас честью быть хранителем тайны Милодоры. Он имел основания думать, что вы способны выдать ее своим поведением, каким-нибудь поступком, могущим показаться публике неестественным... А публика, знаете, не вся поголовно настроена с сочувствием.
– А вы! – укорил Аполлон. – Как же вы, называясь другом, могли молчать?
Федотов мягко устало улыбнулся:
– Вот видите: опять в вас заговорило сердце. Хотя разум ваш – я уверен – совершенно согласен с тем, о чем я говорил только что, – удовлетворившись молчанием Аполлона, Федотов продолжил: – Но я подозреваю, дорогой мой друг, – он сделал нажим на последнее слово, – что у графа были еще основания держать вас в неведении по отношению к сути происходящего. Не исключаю, что он хотел проверить вас – насколько сильны ваши чувства к Милодоре. Ни для кого не секрет, граф неравнодушен к ней. Он ее как бы опекает... и одновременно мучится ревностью... – доктор вздохнул и, надев очки, с искренним сочувствием посмотрел Аполлону в глаза. – Как бы там ни было, уважаемый Палон Данилыч, извините нас с Мишей. Поверьте: нам все это время тоже было нелегко.
– Так что же Милодора?.. – с несколько сумрачным видом напомнил Аполлон.
– Милодора жива и пребывает в полном здравии. Но, кроме этого, мне ничего не известно. На все остальные вопросы, которые вы зададите, сможет ответить только сам граф. И, я думаю, ответит, если вы посетите его...
Спустя часа полтора Аполлон уже сидел в роскошной гостиной в доме у графа.
Сам граф, как Аполлону заметил секретарь, в данное время занимался в кабинете письмами – по давно заведенному порядку. Далее секретарь не преминул сообщить, что порядок этот не нарушается ни для кого, разве что однажды было сделано исключение, когда господин Аракчеев явился по срочному делу в не назначенный час. Переписке же граф придавал большое значение, ибо по поручению правительства вел кое-какие дипломатические дела; посему маловероятно, уведомил секретарь – молодой человек с серыми быстрыми проницательными глазами, – что его сиятельство покинет кабинет или примет кого бы то ни было в течение ближайшего получаса.
Объяснив все это, секретарь завел разговор о вчерашнем наводнении – одном из самых сильных за всю историю города – перечислил разрушения, сведения по которым уже были известны графу, рассказал пару эпизодов, свидетелем которым был, но, видя, что Аполлон не поддерживает разговор, замолчал.
Уютно тикали старые английские часы, с улицы время от времени доносился шум проезжающих экипажей. Секретарь графа, присев за столиком у окна, перебирал с задумчивым видом какие-то бумаги, что-то дописывал; еле слышно шелестели страницы.
Дабы гость мог нескучно скоротать время, секретарь предложил Аполлону чаю. Аполлон выразил согласие, и молодой человек удалился сделать распоряжение.
Оставшись в гостиной один, Аполлон прошелся от стены до стены, стараясь унять волнение, какое охватило его, едва он вошел в этот дом; Аполлона все не оставляла мысль, что Милодора, любимая его Милодора, свет очей... находится сейчас где-то здесь же, под одной с ним крышей, и, быть может, уже знает, ей доложили, что Аполлон пришел... Но волнение, наоборот, еще более усилилось. Аполлон пробовал занять свое внимание чем-нибудь, заставлял себя разглядывать портреты, что были развешаны на стенах, приковывал свой взор к книгам в шкафах – настоящим фолиантам в сафьяне с золотым тиснением (в другое время он бы от этих шкафов не отходил), – однако ничего не мог с собой поделать; его все смущала полубезумная мысль, что вот-вот откроются двери и в гостиную войдет Милодора...
О, желанный миг!...
Как Милодора выглядит сейчас? Сильно ли изменилась?.. Как она вообще относится к нему – любит ли?..
Двери вдруг, и правда, отворились, и вошла с подносом хорошенькая служанка. На подносе были чай и вазочка с печеньем и миндальным орехом. Глаза Аполлона, которые секунду назад вспыхнули, теперь опять погасли. Он обдумывал новое ощущение: будто все, кого он встретил в этом доме, его хорошо знали, хотя он был здесь впервые: швейцар в дверях изменился в лице при его появлении, седовласый мажордом, с которым Аполлон столкнулся на лестнице, был чрезвычайно любезен, однако не мог скрыть удивления в глазах, у секретаря глаза были тревожные, будто он знал цель посещения Аполлона, а служанка вот... смущена...
Секретарь больше не являлся, предоставив посетителя самому себе, и Аполлон взялся за чашку. Однако ему не пришлось томиться здесь означенные полчаса. Он едва отхлебнул чаю, как ощутил неким шестым чувством, что в комнате уже не один. Аполлон поставил чашку на столик и в волнении оглянулся...
Граф... старый граф неслышными шагами входил в гостиную из-за портьеры, за которой, судя по всему, скрывалась дверца в кабинет.
Аполлон поднялся поприветствовать графа, но тот жестом велел ему сидеть. Любезностей хозяин дома не расточал; пожалуй, наоборот, он был достаточно холоден в обращении, чтобы это было замечено Аполлоном.
Сам граф не садился: возможно, демонстрируя этим, что прием гостя продолжительным не будет. Заложив руки за спину, граф остановился у камина. Молчание графа было весьма значительным – таким, что человек пылкого воображения, вроде Аполлона, мог надумать в своих фантазиях что угодно, даже самое худшее.
И Аполлон не скрывал все возрастающей тревоги.
Бросив на Аполлона несколько быстрых изучающих взглядов, граф сказал:
– Я знал, молодой человек, что вы придете однажды...
– Где Милодора, скажите? – едва вымолвил Аполлон. – Не посвящайте меня в подробности. Их я знаю достаточно. Скажите только, где Милодора?..– Успокойтесь, с госпожой Шмидт не случилось большей беды, чем случилось, – голос графа был глухим и бесцветным. – Она жива и здорова и даже, насколько я ее знаю, полна новых замыслов... она видит свое будущее на поприще литературы... Впрочем, я думаю, она сама вам все скажет...
– Она здесь?.. – в волнении прошептал Аполлон.
Граф улыбнулся только краешками губ:
– Вот для вас письмо от нее, – в руках графа чудесным образом оказался серый незапечатанный конверт.
Аполлон порывисто вскочил со стула, но вовремя справился с волнением. Он подошел к старому графу и, как величайшую драгоценность, взял у него из рук письмо Милодоры.
Граф продолжал:
– Когда вы прочитаете письмо, обдумайте все в спокойном состоянии духа. Бойтесь делать скоропалительные выводы – это мой вам совет. Никогда не спешите относить кого бы то ни было к своим недругам или друзьям. Всегда помните о том, что на поведение, на поступки наши оказывают большее влияние обстоятельства, нежели добрые свойства нашей натуры. Вспомните себя, не удивляйтесь мне...
– Я не увижу ее сегодня?
– Нет, сударь... – граф вздохнул. – Увы, я не могу вам уделить больше ни минуты. Меня ждут неотложные государственные дела. Порядок – есть порядок, не обессудьте... Но мы встретимся с вами еще как-нибудь; настанут лучшие времена... – уже уходя за портьеру, он добавил: – Если у вас возникнут вопросы, – на каминной полке колокольчик... Мой секретарь будет к вашим услугам...
С этими словами граф исчез.
Аполлон дрожащими руками достал из конверта сложенный вчетверо листок и, забыв обо всем, жадными глазами припал к написанному... Судорожно вздохнул, удерживая готовые хлынуть слезы. «Господи! Да славится имя твое в веках!...» Строчки прыгали перед глазами... Это был почерк Милодоры...
У Аполлона закружилась голова: ведь он держал сейчас тот листок, к которому прикасалась нежная рука Милодоры, счастливому взору его предстали строки, выведенные этой рукой и продиктованные не иначе ее сердцем...
Подавив волнение, Аполлон принялся читать...
«Господи! Да славится имя твое в веках!...
Тот кошмар закончился, и у меня появилась возможность, мне позволили... написать Вам... Ах, как я понимаю, в каком Вы состоянии все это время были, ведь Вы, мой сердечный друг, похоронили меня!... Когда мне рассказывали очевидцы о проявлениях Вашего горя, я, поверьте, страдала не менее Вас, но ничего не могла поделать, не имела права подать Вам какой-нибудь знак – сохранение полной тайны было непреложным условием моего спасения. Слишком многим рисковали люди, которые... Впрочем не о всем я могу писать и в письме, какое передаст вам граф; жизнь полна неожиданностей, и кто знает, в чьи руки написанное мною может попасть...
Зато я могу написать о другом...
Я люблю Вас, мой милый, мой хороший, мой добросердечный, мой прекраснодушный Аполлон. Я только о Вас и думаю, родной мой... Вы грезились мне там... И образ Ваш поддерживал меня во всех испытаниях... Вы грезитесь мне и теперь. Вы будто стоите со мной рядом, и пламя свечи, которое сейчас трепещет, – трепещет от вашего дыхания. А у меня замирает сердце... Я многие годы жизни без раздумья отдала бы сейчас, чтобы только оказаться с вами рядом и остальные годы провести вместе, ни на минуту не разлучаясь...
О Господи! Неужели такое возможно? Неужели существуют на свете счастливые возлюбленные, которые могут всю жизнь не разлучаться, которым на пути ни один недоброжелатель не готовит тернии?..
Милый друг мой! Когда Вы получите это письмо, я, возможно, буду уже очень далеко. У меня нет достаточно времени даже для того, чтобы написать письмо поподробней. Вот-вот войдет в комнату человек из прислуги и доложит, что экипаж готов. А предстоит мне дальняя дорога... Но знайте, что сердце мое с Вами рядом; знайте также, что живу я только ожиданием нашей встречи, которая, смею надеяться (и денно, и нощно молю о том Всевышнего), не за горами.
Я еще Вас не знала, но уже знала, что я – Ваша.
Вечно Ваша Милодора...»
Утерев слезы, которые все же сбежали по щекам, Аполлон спрятал письмо в конверт и позвонил в колокольчик.
Секретарь графа не замедлил явиться. Цепкие глаза этого вышколенного молодого человека сразу остановились на конверте в руках Аполлона.
– Их сиятельство, – Аполлон кивнул на портьеру, – позволили мне в случае, если возникнут вопросы...
– Мне известно, – кивнул секретарь. – Спрашивайте... Их сиятельство и сам бы ответил, но в силу занятости...
– Где сейчас госпожа Шмидт? Лицо секретаря было бесстрастным.
– На борту какого судна – не скажу... Но она на пути в Англию.
– Вот как!... – это известие опечалило Аполлона; он не ожидал, что Милодора так (!) далеко; минуту назад он полагал, что не завтра, так послезавтра увидит ее.– Господин граф отправил ее с важной миссией.
– С миссией? Но, может, она слаба... после всего...
– Ничуть. Госпожа Шмидт уже оправилась после всех нелегких испытаний, какие выпали на ее долю. И даже закалилась. Смею вас заверить, она чувствует себя хорошо.
– А миссия не трудна ли? Секретарь чуть приметно улыбнулся:
– Госпожа Шмидт красива, обаятельна, умна... Согласитесь: грех не использовать такую женщину на дипломатическом поприще... Заодно она доставит несколько писем, которые нельзя доверять в чужие руки.
– Где именно искать ее в Англии, я могу узнать? – волнение опять охватило Аполлона: а вдруг ему этого не скажут!...
Но секретарь, видно, имел распоряжение и на сей счет.
– Сегодня я этого не знаю. Однако если вы оставите свой адрес, то я разыщу вас и сообщу дополнительно... Их сиятельство велел передать, что посодействует вам при выезде, если вы решитесь...
– Разумеется. Это уже решено: я еду...
Аполлон шел по городу, на улицах которого еще всюду оставались следы наводнения. Унылая картина разрушений то и дело открывалась его взору, но, несмотря на это, на сердце у Аполлона было хорошо – успокоилось сердце. И теперь, быть может, впервые за много дней Аполлон почувствовал голод. Весьма кстати поэтому пришлась булочная некоего Колоскова... Когда Аполлон вошел в булочную, в ней не было никого из покупателей. Аккуратненькая хозяйка в накрахмаленном ослепительной белизны переднике с приветливой улыбкой вышла из-за прилавка встретить посетителя. Сам хозяин сидел в углу за столиком и поучал мальчишку какому-то ремеслу.
Аполлон сел за другой столик и, пока хозяйка выставляла ему пироги и наливала чаю, прислушался к речам хозяина. Удивительно, но тот наставлял мальчишку не ремеслу хлебопека...
Хозяин рассказывал, как делаются скрипки. Одну из скрипок своего изготовления он держал в руках.
– Делаем инструмент из хорошо просохшего дерева...
–...просохшего дерева... – будто эхо повторял мальчишка.
– Лучше всего подходит клен...
–...клен... – вторил детский голосок.
– Впрочем итальянцы делают и из груши...
–... груши...
– А вот дека, смотри... Ее лучше делать из ели...
–...ели...
Аполлон заинтересовался, спросил:
– А где взять хорошую сухую древесину? В лесу ель срубить – сушить долго. Хозяин булочной посмотрел на него приветливо:
– Зачем в лесу? – и он показал через окно на улицу. – Вон старый дом разбирают. Древесина в нем просохшая... отменная древесина...
Аполлон взглянул за окно. На улице напротив действительно разбирали старый дом, часть которого не устояла перед наводнением. Бородатые мужики в картузах складывали бревна в сторонке.
Хозяин булочной продолжал:
– Представляете, сколько скрипок можно сделать из одного старого дома! И сколько нежных песен можно на этих скрипках сыграть!... А между тем дом этот пойдет, скорее всего, на дрова.
– Вы же хлебопек, – выразил удивление Аполлон. – У вас вкусный хлеб. Зачем вам делать скрипки?
– Пекарня и булочная у меня для нужд, – с нескрываемой гордостью ответил хозяин лавки и потрепал сына по голове, – для копейки, для рубля. А скрипка – для высокого, для души... Разве не каждый у нас живет так?..