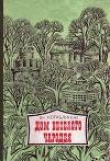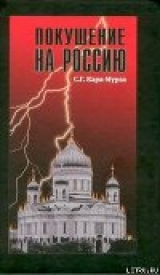
Текст книги "Покушение на Россию"
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Церковь и мировой жандарм
В начале апреля с.г. я по просьбе Московской Патриархии участвовал в семинаре Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) на тему «Этика гуманитарной интервенции». Я сопровождал о. Всеволода Чаплина из Патриархии. Он взял на себя выступления по богословской теме, а я – по культуре и политике. Этот семинар дал много пищи для размышлений. Хотел я сразу написать о нем для «Русского дома», но решил, что лучше пусть уляжется. Сейчас из ВСЦ прислали материалы, и я вижу все яснее. В те три дня дебатов такое было напряжение, что и вспомнить ход разговора было трудно, все нюансы как будто стерлись из памяти, остались лишь самые сильные, потрясавшие меня вещи. Сегодня могу изложить спокойно.
В чем суть? Все мы видим, что после уничтожения СССР мир быстро меняется. Запад лихорадочно строит «новый мировой порядок». Суть его в том, чтобы разрушить те принципы мироустройства и международных отношений, которые возникли после Второй мировой войны и гарантировались равновесием сил между двумя системами. Основой права, на котором стоял мир, был принцип суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Атака на этот принцип сейчас идет по многим направлениям, но самый радикальный шаг состоит в провозглашении права на «гуманитарную интервенцию», то есть права на военную интервенцию в страны, где нарушаются некоторые якобы высшие гуманистические принципы («права человека»).
Международное право предусматривало возможность использования силы против страны-агрессора или для восстановления мира, но при жестком условии – только по решению Совета Безопасности ООН. А оно должно приниматься всеми его постоянными членами, каждый из них имеет право вето. Поэтому посылка войск по решению ООН была крайней мерой и применялась только в очевидных случаях. В «однополярном» мире, который спешит устроить Запад, роль судьи, жандарма и даже палача возлагается на США.
Уже когда Горбачев сдавал СССР, США начали запускать пробные шары. Так в 1989 г. они совершили военное нападение на Панаму, в ходе которого погибло 7 тыс. мирных жителей. Предлог был нелепым – они хотели арестовать президента Панамы по подозрению в том, что он торгует наркотиками. Потом были еще пробы («война в Заливе»), но главным испытанием была агрессия против Югославии, на которую ООН не дала согласия. Теперь это демонстративное пренебрежение правом хотят закрепить в новых нормах, а значит, надо подготовить мировое общественное мнение. А для этого важно получить одобрение Церкви. Отсюда и инициатива ВСЦ, в который входит и Русская Православная Церковь. На семинар созвали 26 деятелей церкви всех континентов и нескольких ученых, а также видных лиц из ООН и гуманитарных организаций.
Я, беседуя со священниками из ряда стран, спрашивал, в чем они видят смысл этой акции. Все они отвечали одинаково: правящие круги Запада нуждаются в том, чтобы церкви одобрили право на «гуманитарную интервенцию», а духовенство объяснило это пастве. Для этого ВСЦ должен выработать и принять большой документ, целую доктрину, из которого должны исходить священники в своих проповедях. На семинаре главные церкви, входящие в ВСЦ (то есть протестантские и Православная), изложат свои точки зрения и попытаются найти компромисс. Так оно и было.
Понятно, что позиция о. Чаплина, который исходил из догматов Православия, и моя, вытекающая из принципов нашей культуры и современных научных представлений, полностью совпали. На мой взгляд, о. Чаплин блестяще обосновал неприемлемость интервенций с точки зрения Православия. Я его пересказывать не буду, да и не сумею. Я лучше расскажу о тех идеях, которые высказывали протестанты, и о том типе мышления, который они обнаружили. Мы плохо это представляем, а ведь они – влиятельная часть западного общества.
Многое меня в них поразило, и впечатления возникли сложные. Пропасть между моими и их представлениями о человеке и обществе оказалась гораздо глубже, чем я предполагал из чтения литературы. Когда я говорил вещи, которые мне казались абсолютно очевидными, так что мы в России никогда их в слух и не высказываем, они глядели на меня с изумлением и напряженно старались понять. Похоже, они просто не верили своим ушам. Напротив, когда я слушал многие их рассуждения, мне они поначалу казались уловками хитрых политиканов – не могут же люди так думать!
Первое, что поражало, это полная безрелигиозность рассуждений их священников и богословов. Видно было, что они привыкли свободно отделять вопросы религии от всех других проблем бытия и от политики. У нас, в атеистическом СССР, любой спор по крупному вопросу, даже на кухне, включал в себя, более или менее явно, критерии совести, за которыми стояло Евангелие. Неважно, осознавали мы это или нет, но Божье слово витало над нами, и спор сводился к тому, чтобы правильно его понять. Здесь же передо мной сидели деятели церкви, но говорили они, как инженеры. Исходили из набора сугубо рациональных, лишенных святости понятий, и составляли из них теоремы. И я, человек из науки, вынужден был им доказывать, что из этих теорем они незаконно исключили ту или иную иррациональную компоненту, которая связана с проблемой святости, и потому теоремы сформулированы неверно. Причем неверно в принципе, независимо от последующих ошибок или нарушений.
Они, например, во всей доктрине «гуманитарной интервенции» исходили из того, что жизнь индивидуума якобы есть высшая, абсолютная ценность. О. Чаплин на пленарных заседаниях раза три или четыре объяснял, что вся эта доктрина ложна с точки зрения христианства – важнее спасение души, чем земной жизни. Я привлекал земной опыт: человек возник из животного мира, когда в нем зародилась нравственность, совесть, способность жертвовать своей жизнью ради чего-то более ценного (спасения близких, своей Родины, своих идей и т.д.).
Второе, что меня поразило, это глубоко укорененный евроцентризм, уверенность в том, что Запад есть единственная цивилизация, а все остальные культуры – это недоразвитый Запад. Когда у нас такие вещи говорили Гайдар или Немцов, это не удивляло, потому что было просто политическим жульничеством. Но тут я видел людей совершенно искренних. Это удивительно, потому что и на самом Западе в научных кругах признано, что евроцентризм – чисто идеологический взгляд на мир, он основан на ряде мифов, не имеющих под собой реального основания.
Из этой идеологии вытекали важные выводы, по которым у нас и был тяжелый спор. Так, я сказал, что из доктрины «гуманитарной интервенциии» прямо следует, что речь всегда будет идти об интервенции Запада в незападные культуры. Удивились, обсудили – и согласились. Раз так, говорю, вы всегда будете вторгаться с оружием в руках в сложные этнические системы, которых давно не знаете и не понимаете. Разрушения, которые вы там произведете, будут намного страшнее, чем во времена колониальных захватов, ибо тогда еще было свежо знание о многообразии культур, накопленное Возрождением. А мне отвечают: «Этносов не существует. Этнические проблемы – плод идеологии». Каково услышать такую вещь! Ведь из нее исходит мировой жандарм – дебил с мускулами горилы.
Другая сторона той же слепоты – тезис о том, что «гуманитарная интервенция» будет опираться на местное гражданское общество, в том числе на церковь. Я говорю, что во всех зонах, куда будут совершаться эти интервенции, гражданского общества не существует, там традиционное общество с присущими ему системами права и морали. Сказать, что церковь – часть гражданского общества, есть нелепость, церковь всегда есть часть (наследие) традиционного общества. Гражданское общество составлено из рациональных индивидов на базе их интересов, а церковь построена на общине (религиозной), связанной не интересом, а верой, надеждой и любовью. Крутили эту тему и так, и эдак, и согласились записать: «опирается на местное гражданское общество и церковь». Ввести понятие традиционного общества не смогли – ибо за ним следует и этнос, и право местной культуры на свою этику и свое понимание прав человека. Тогда вся доктрина «гуманитарной интервенции» сразу рушится.
Снова отмечу, что отрицание того факта, что большинство человечества живет в традиционных обществах и люди в них соединены в этносы и народы, противоречит и науке, и очевидности. Если такой евроцентризм распространен в среде протестантского духовенства, то это очень тревожный факт. И нам нельзя уходить от диалога. С нами они беседуют, у нас общая христианская основа культуры, а с мусульманами и буддистами они, наверное, совсем не могут найти общего языка.
А теперь отмечу другую сторону, тоже для нас необычную. Эти богословы и священники заслуживают, на мой взгляд, глубокого уважения тем, что внимательно и честно выслушивают доводы оппонента. Они стараются его понять, а не победить в споре. Работа у нас шла в трех группах. Я говорил по всем пунктам нашей части доктрины, хотя и предупредил, что я с ней не согласен в принципе и в целом. По всем пунктам у нас были расхождения уже в исходных понятиях. Однако мне дали не просто высказаться, но и развить длинные, шаг за шагом, умозаключения. Для русских это все мысли простые и даже примитивные, общеизвестные. Но там их принимали как нечто из ряда вон оригинальное. При этом терпеливо слушали и усиленно размышляли. И когда не могли опровергнуть логическую цепочку – принимали мой вывод, хотя бы он полностью шел в разрез с доктриной. Иными словами, это были, что называется, интеллектуально честные люди, преодолевающие свой догматизм. Признаюсь, я впервые сталкиваюсь с таким явлением вне научных лабораторий высокого класса.
Вот пара примеров. Имея в виду интервенцию в Югославии, я сказал: «Если цель гуманитарной интервенции только спасение людей и мира, запишите в документе, что операции с воздуха недопустимы, что спасители должны двигаться по земле и подставлять себя под пули – жертвовать собой на виду у местного населения». Мне ответили, что для американцев это неприемлемо. Это – говорю, дело американцев, а церковь должна же признать, что спасителем может быть лишь тот, кто сам идет на крест ради спасаемых. К моему удивлению, этот пункт приняли (хотя начальство потом смягчило и в конце концов, наверное, выбросит).
Дальше говорю, что после местных конфликтов (например, этнических) стороны находят путь к миру и жизнь налаживается. Но если одна сторона просит США бомбить другую, а потом происходит и интервенция, конфликт становится необратимым и восстановление совместного хозяйства почти невозможным. Запишите в документе, что если Запад совершает интервенцию для защиты малого народа, то он должен после интервенции гарантировать длительную экономическую помощь этому народу, равную его потерям от разрыва хозяйственных связей. В пределе эта помощь должна быть вечной, и размеры ее должны быть оговорены до интервенции. Долго это обсуждали, и надо же, записали. И таких оговорок удалось вставить много. Тогда, говорю, давайте запишем, что если эти условия в ходе интервенции не выполняются, Церковь обязана гласно и определенно осудить эту интервенцию как негуманитарную и потребовать ее прекращения. И тут после дебатов согласились и записали. Вот это я уважаю.
А в заключительном слове на пленарном заседании о. Чаплин снова заявил о категорическом несогласии с доктриной в целом, и я тоже. Но уже пришлось заострить, и я сказал, что, принимая этот документ, собрание авторитетом Церкви толкает мир к гораздо большим страданиям и крови, чем при нынешней, пусть и несовершенной, системе. И еще сказал, что впервые в жизни я осознал на этом семинаре, какое счастье, что Россия имеет ядерное оружие.
Это произвело гнетущее впечатление, но, по-моему, заставило призадуматься. После заседания группки пасторов разбрелись по саду и сидели, потягивая виски из своих плоских бутылок. Краем уха я слышал, как они переговаривались: «Как странно русские мыслят. И такие воинствующие». Но таким тоном это говорили, что видно – не получат от них США одобрения на свои планы «гуманитарных интервенций».
Октябрь 2000 г.
От культуры любви – к культуре страха?
Недавно мы близко столкнулись с терроризмом, и средний человек испытал страх. Страх – одно из главных средств манипуляции сознанием. Есть даже такая формула: «общество, подверженное влиянию неадекватного страха, утрачивает общий разум». Поскольку страх во многом определяет поведение человека, он – инструмент управления. Потрясенный страхом человек легко поддается внушению и подчиняется власти.
Терроризм – продукт Запада, который ввел как норму жизни «войну всех против всех». Впервые во время Французской революции террор (что значит «ужас») стал официально утвержденным методом господства и породил своего близнеца – терроризм. В дальнейшем государственный и революционный терроризм слились.
Терроризм – средство психологического воздействия. Его главный объект – не те, кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель – не убийство, а устрашение живых. Жертвы – инструмент, убийство – метод. Этим терроризм отличается от диверсий, цель которых – разрушить объект (мост, электростанцию) или ликвидировать противника.
Есть страх истинный, отвечающий на реальную опасность. Он сигнализирует о ней и позволяет выбрать ответ (бегство, защита, нападение и т.д.). Но есть страх иллюзорный, неадекватный, при нем человек или впадает в апатию, или совершает действия, вредные и даже губительные для него самого. Цель террористов – создание именно такого страха. Это маниакальный страх, когда величина опасности, могущество «врага» многократно преувеличивается. За рулем на дорогах России ежегодно гибнет порядка 1 человека на тысячу. От терактов в прошлом году погибло порядка 1 на миллион. Но мы ведь не боимся ездить на машине. Отсюда общий вывод: не поддаваться иррациональному страху и внимательно смотреть, кто и как использует теракт в своей политике. Поведение политиков в такой момент очень много говорит об их скрытых целях.
Для манипуляции интерес представляет именно иллюзорный страх и способы его создания. Все доктрины манипуляции сознанием разрабатывались в западной культуре. Сейчас они прилагаются к России, и нам надо вспомнить историю незнакомого нам страха западного человека. Современный Запад возник, идя от волны к волне массового страха, который охватывал одновременно миллионы людей. Подобные явления не отмечены в культуре Православия (например, в русских летописях).
Первым приступом массового страха на Западе было ожидание антихриста и Страшного суда на исходе первого тысячелетия. Впечатляет рассказ летописи о том, как папа Сильвестр и император Отгон III встретили новый 1000-й год в соборе Рима в ожидании конца света. В полночь конец света не наступил, и ужас сменился ликованием. Но волна страха вновь захлестнула Европу – все решали, что кара Господня состоится в 1033 г., через тысячу лет после распятия Христа.
Религиозный ужас был настолько сильным и разрушительным, что богословы западной Церкви после долгих дискуссий выработали ослабляющее страх представление о «третьем загробном мире» – чистилище. Его существование было официально утверждено в 1254 г. Православной церкви не было необходимости принимать это нововведение – у русских такого страха не было.
Другим средством ослабить страх было введение количественной меры греха и искупления как баланса между проступками и числом оплаченных месс и величиной пожертвований монастырям (уже затем был создан прейскурант индульгенций). На этом пути, однако, католическая церковь заронила семя рационализма и Реформации.
Передышка была недолгой, и в XIV веке Европу охватила новая волна страха из-за эпидемии чумы, от которой полностью вымирали целые провинции. В связи с чумой выявилась особенность коллективного страха: со временем он не забывался, а чудовищно преображался. В XV веке «западный страх» достигает своего апогея. В искусстве центральное место занимают смерть и дьявол. Их образы становятся особым продуктом ума и чувства, продуктом культуры. В язык входят связанные со смертью слова, для которых даже нет аналогов в русском языке.
Таково, например, появившееся в 1376 г. слово «macabre». Оно вошло во все европейские языки, и в словарях переводится на русский язык как погребальный, мрачный, жуткий и т.п. Но смысл этого слова гораздо значительнее. В искусстве Запада создано бесчисленное множество картин и гравюр под названием «La danse macabre». У нас это переведено как «Пляска смерти», но «пляшет» не Смерть и не мертвец, а «мертвое Я» – неразрывно связанный с живым человеком его мертвый двойник. Пляска смерти стала разыгрываться актерами. В историю вошло описание представления Пляски смерти в 1449 г. во дворце герцога Бургундского.
Печатный станок сделал гравюру доступной буквально всем жителям Европы, и изображение Пляски смерти пришло практически в каждый дом. Граверы же делали и копии картин знаменитых художников. Более всего копий делалось с картин И.Босха. Они – гениальное выражение страха перед смертью и адскими муками.
Ничего подобного на Руси не было, несмотря на войны и бедствия. Смерть и спасение души занимали большое место в мыслях православного человека, но философия смерти была окрашена любовью к земле, оставляемым близким и к тем, кто ушел раньше. У нас нет ни одной пословицы, отражающей страх «западного» типа. Само событие встречи со Смертью представлено пословицами как дело продуманное и не внушающее ужаса. В смерти человек не только не одинок, он особенно чувствует поддержку братства: «Люди мрут, нам дорогу трут. Передний заднему – мост на погост». Даже в прощанье видна теплота: «Помрешь, так прощай белый свет – и наша деревня!». В европейском восприятии смерти в позднее Средневековье совершенно отсутствуют лирические и теплые нотки – лишь чистый ужас.
На этом фоне и произошла Реформация. В ее истории есть особая тема: «страх Лютера» (говорят, что страх – основополагающее условие возникновения индивидуума и обретения им свободы). Лютер был выразителем массовых страхов своего времени. У него страх перед дьяволом доходил до шокового состояния, порождал видения и вел к прозрениям. Лютер «узаконил» страх, назвал его не только оправданным, но и необходимым. Человек, душу которого не терзает страх – добыча дьявола.
Лютер сделал страх «индивидуальным» – через отход от идеи религиозного братства и коллективного спасения души. Отныне каждый должен был сам, индивидуально иметь дело с Богом, причем не столько со Спасителем, сколько с грозным Богом-отцом. Отказ от коллективного спасения увеличил страх и массовое озлобление, которое надолго погрузило Запад в хаос. «Страх Лютера» породил такую охоту на ведьм, с которой ни в какое сравнение не идут преследования Инквизиции. Потом «западный» страх менялся, но так же шел волнами: страх перед кредитором, своим темным подсознанием, русскими большевиками, экологической катастрофой, ядерной угрозой, террористами и т. д.
Сегодня мы обязаны изучать такие вещи, как это ни трудно нам, вскормленным светлым Православием, Пушкиным и русскими сказками. Ведь открыто объявлена сверхзадача перестройки и реформы – сделать нас хотя бы второсортными протестантами, «вернуться в Запад». Надо же нам знать, какими нас хотели бы видеть новые вожди.
Когда мы окидываем мысленным взглядом нашу историю, сравнивая с историей становления человека Запада, сразу бросается в глаза эта разница: никогда русскому человеку не вводился в сознание вирус мистического страха. Этого не делало Православие, этого не делали народные сказки про Бабу Ягу. Наши грехи поддавались искуплению через покаяние, и даже разбойник Кудеяр мог надеяться на спасение души. Страхов не нагнетало ни царское, ни советское правительство.
Против страха вечных мук выступили русские философы начала XX века. В.В.Розанов говорил о всепрощении на небесах рода людского. Близок к нему был Н.А.Бердяев, высказавший мысль, что ад придуман «утонченными садистами». Н.Ф.Федоров считал нелепостью, что «одни (грешники) осуждаются на вечные муки, а другие (праведники) – на вечное созерцание этих мук». Он ставил даже вопрос о принципиальной возможности через соборность избежать Страшного суда.
Н.А.Бердяев писал об этой мысли: «Апокалиптические пророчества условны, а не фатальны, и человечество, вступив на путь христианского «общего дела», может избежать разрушения мира, Страшного суда и вечного осуждения. Н. Федоров проникнут пафосом всеобщего спасения и в этом стоит много выше мстительных христиан, видящих в этой мстительности свою ортодоксальность». Конечно, с богословской точки зрения эти философы были на грани ереси, но они выражали тип нашей культуры.
Можно принять как общий вывод: в России не играл существенной роли страх как важная сторона самой жизни. Православие и выросшая на его почве культура делали акцент на любви. И это уже само по себе не оставляло места для страха перед бытием: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (Первое послание Иоанна, 4, 18). Жестокие правители, от Ивана Грозного до Сталина, внушали русским людям страх не иллюзорный, а вполне разумный, реалистичный.
Но внедрение страха в нашу жизнь стало важной частью перестройки и реформы. Для этого были использованы все возможные темы: репрессий, голода, дефицита, катастроф, преступности, СПИДа и тд. При этом образы страха накачивались в сознание всей силой «независимого» телевидения. Нам непрерывно показывали ужасные сцены разгрома Бендер, а потом бомбардировок Грозного, избиения демонстраций и, наконец, расстрела Верховного Совета РСФСР, заснятого как спектакль заранее установленными камерами.
И вот, теперь взрывы жилых домов. В области духа, как и в хозяйстве, нам пытаются внедрить вирус западного мироощущения. От нас всех зависит, заразимся ли мы этим вирусом и перейдем к жизни в страхе – или не дадим иллюзорному страху овладеть нашим сердцем и умом и станем бороться за достойную жизнь с ясным умом.
Октябрь 1999 г.