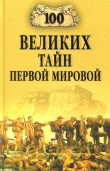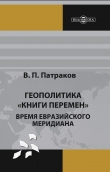Текст книги "Статьи"
Автор книги: Сергей Переслегин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 48 страниц)
Эта зависимость, практически лишающая руководство пространства маневра, как на международной арене, так и внутри страны, является основным (структурообразующим) фактором, форматирующим «проблемное поле» республики.
Не являясь полноценным государством, не имея своего внешнеполитического проекта (если не воспринимать, как проект антирусскую риторику), Украина оказывается объектом влияния внешних сил, носящих центробежный характер.
Так, Западная Украина (прежде всего, Галиция) находится в сфере влияния Польши. В ряде сценариев Польша присоединяет Галицию если не «де юре», то «де факто». Восточная Украина – Харьковский район, Донбасс – тяготеют к России.
Наибольшие сложности для Украины создает Крым. Права Киева на эту территорию сомнительны, ее международный юридический статус неясен. Исторически на Крым претендует Россия, фактически полуостров все более подвергается воздействию исламистских структур. Крым совершенно не нужен Польше, но может весьма заинтересовать Турцию. Наконец, в Крыму весьма влиятельны преступные группировки.
Следует заметить, что на полуострове наблюдается нехватка пресной воды, причем доставка ее сопряжена с трудностями, обусловленными низкой транспортной связью Крыма с материком. В целом, полуостров не дает Украине ничего, кроме проблем, но отказаться от него республика не может «по религиозным соображениям».
Три разнонаправленных «вектора влияния» разрывают украинскую территорию и кладут предел существованию единого государства. Согласно «транспортной теореме» область теряет связь с метрополией, как только темпы развития области начинают превышать темпы роста связности между областью и метрополией. Для Крыма, Галиции и Харьковской области это условие заведомо выполняется; тем самым, мы предсказываем распад Украины за время порядка поколения, то есть, за 20-25 лет[4].
Геокультурные и геополитические проблемы республики настолько серьезны, что на их фоне теряются трудности, переживаемые украинской экономикой. К этим трудностям относятся, прежде всего:
перманентная зависимость от России по энергоносителям;
нехватка энергетических мощностей;
малая емкость внутреннего рынка;
перегруженность бюджета социальными обязательствами;
слабая конкурентоспособность промышленности.
Практически, при стратегическом планировании за Украину не на что опереться: республика имеет огромное количество нескомпенсированных слабостей, но у нее нет своих сильных (хотя бы, на общем фоне) сторон. Единственным внешнеполитическим козырем Украины было наличие ядерного оружия, что формально причисляло страну к великим державам. Это оружие, однако, было ликвидировано в ответ на «одобрение» со стороны США и не чрезмерную экономическую помощь, давно и бездарно истраченную.
Заметим здесь, что, вопреки мнению большинства обывателей по обе стороны российско-украинской границы, Украина не имеет такого «аварийного ресурса», как реинтеграция с Россией: российская экономика не настолько сильна, чтобы взваливать на себя дополнительный груз.
При «естественном» развитии событий можно предложить три основных сценария развития событий.
В наиболее вероятной версии республика Украина последовательно теряет свои окраинные территории, начиная с Крыма. На первой стадии речь будет идти об «особом правовом статусе» области и обеспечении прав проживающих там национальных меньшинств. Далее область обретет определенную экономическую самостоятельность от центра, что приведет к изменению картины товарных и денежных потоков в масштабах республики. Несколько упрощая, можно сказать, что вместо одной «конвективной финансовой ячейки» с фокусом в Киеве возникнет несколько таких ячеек, причем часть из них будет иметь зарубежные точки аккреции. По завершении этого процесса Украина лишится реального суверенитета над АРК. Произойдет ли отделение также и в формальном политическом пространстве – этот вопрос будет зависеть от текущей международной конъюнктуры. Скорее всего, произойдет.
Надо заметить, что эта версия является еще относительно благоприятной.
В следующем сценарии «первую скрипку» играет перегруженность украинского бюджета социальными обязательствами. Из-за резкого увеличения цен на энергоносители и отказа России поставлять их по льготным ценам страна оказывается перед необходимостью дефолта. Надо сказать, что в связи с откровенно популистской политикой руководства Киев не сможет подготовить это мероприятие должным образом. В результате события будут развиваться не по российскому, а по аргентинскому образцу. Экономическая катастрофа в сочетании с политической нестабильностью приведет к взрывному «социальному разогреву» и неизбежному отпадению окраинных регионов. При особо неблагоприятном стечении обстоятельств этот сценарий заканчивается «ползучей» гражданской войной и полным разрушением страны.
Третий сценарий исходит из значительного ужесточения международных отношений в Европе вследствие сокращения американского присутствия, глобального экономического спада и активизации «векового конфликта» Север – Юг. В этой версии очень интенсивны «человеческие течения», и в гибели Украины важную роль играют миграционные процессы.
Республика оказывается под тройным давлением. Прежде всего, речь идет о непосредственном проникновении на ее территорию пассионарных исламистских элементов – скорее всего, через крымский плацдарм и район Донбасса. Далее, Западная Европа, сама подвергающаяся сильному демографическому воздействию («кадровый пылесос» со стороны США, легальная и нелегальная иммиграция), передаст это давление Украине. Наконец, Украина находится в мощном силовом поле со стороны России, которое в этой версии дополнительно возрастет.
Источники давления будут в этой модели рассматривать Украину как дешевый источник неоприходованных ресурсов, прежде всего, человеческих. Утилизация этих ресурсов может проводиться экономико-дипломатическими методами – при слабой Украине, либо силовыми методами, если к власти в республике законным путем или через механизм переворота придет сильный лидер правой ориентации. В любом случае страна станет «местностью-перекрестком» в терминологии Сунь-Цзы, иными словами – полем столкновения сил.
Поскольку любая задача стратегии принципиально разрешима, Украина может избежать этих сценариев, сделав несколько трудно вычисляемых (и еще более трудно осуществимых) политических ходов.
Прежде всего, руководство республики должно понять, что в сегодняшнем мире есть только одна страна, заинтересованная в существовании Украины. Речь, разумеется, идет о России. Все три сценария, приведенные выше крайне неблагоприятны для Киева, но и Москву они тоже никак не устраивают, поскольку подразумевают создание перманентного очага нестабильности вблизи русских границ. Кроме того, в ряде вариантов России придется оказывать срочную помощь если не самой Украине, то ее русскоязычному населению, а в наиболее неблагоприятном случае – «брать на баланс» все то, что останется от страны.
Тем самым, вырисовывается возможности взаимопонимания между «великими славянскими державами». Здесь необходимо учесть, что для России предпочтительнее сильная независимая Украина, даже если она будет проявлять враждебность[5], нежели союзное, но умирающее государство.
Вторым благоприятным для Украины обстоятельством является глобализация, иначе говоря, переход от «политики стран» к «политике регионов». Республика, по всей видимости, не сможет выжить, как страна. Но она способна существовать, как структурообразующий центр восточноевропейского региона.
Сразу же скажем, что Украина не сможет присоединиться к исламскому глобальному проекту в связи со структурой ее экономики, а к проекту Китая вследствие крайне низкой транспортной связности с Поднебесной. В проект Единой Европы Украину, как и Россию, никто не приглашает. И не пригласит.
Тем самым, украинская стратегия может строиться или на создании собственного глобального проекта, для которого не видно никаких предпосылок, либо – на подключении к той программе развития, которая сейчас создается в России. И если Россия считает возможным взять на себя функции «цивилизации-переводчика», связывающей в когнитивное единство все три мировые цивилизации, то Украина может занять в этом проекте значимую нишу «культуры-переводчика», использующей в качестве источника развития противоречие между западным и восточным христианством.
В рамках этой модели целью украинской внешней политики должно стать создание сильного восточноевропейского регионального блока, ядро которого образуют Польша и Украина. Тем самым, Киев должен резко сменить авторитеты, отказавшись как от ориентации на США, так и от «оглядки» на Россию. Заметим здесь, что, несмотря на тяготение Польши к НАТО, Украине следует оставаться нейтральной: ее ценность, как элемента регионального строительства, заключается именно в ее нейтральности.
Украина остается «местностью-перекрестком», меняется лишь ее состояние: из объекта международной политики она превращается в субъекта, пусть слабейшего и зависимого, но субъекта региональной политики.
Одной из необходимых в этой связи мер является изменение образовательных программ. Понятно, что выбросить из школьного курса украинский язык невозможно, но необходимо трезво смотреть на вещи: в эпоху регионализации этот язык жителям страны не понадобится. Зато им (во всяком случае, элитам) будет необходимо знать польский и русский.
Далее, школьную программу следует насытить социокультурными материалами. Речь идет, прежде всего, об обязательном знакомстве с догматами католицизма и православия, о понимании соотношения этих великих культур.
Дальнейшая политика должна быть направлена на расширение регионального блока и углубление связей внутри него. Естественными союзниками польско-украинского проекта являются Словакия, Румыния, Венгрия. Возникающая структура будет обладать сильным интегрирующим воздействием и может привлечь к себе некоторые осколки Югославской Федерации.
Комплементарные цели России и Украины будут достигнуты, если восточноевропейское региональное объединение достигнет связности ЕС (кстати, довольно низкой) и станет некой альтернативой Евросоюза. Со своей стороны Россия должна будет завершить к этому моменту свой региональный проект – Южный коридор[6], реализация которого, разумеется, тоже столкнется со значительными трудностями.
По ходу политической «игры» Украине придется пожертвовать Крымом, связность которого с восточноевропейским блоком еще меньше, нежели с самой Украиной, и переориентировать свое законодательство (в областях авторского права, прав человека и корпоративных прав) на создающийся сейчас «русский формат». Кроме того, придется, хотя и в скрытой форме, проводить непопулярную политику снижения социальных расходов. Проще всего использовать для этих целей инфляцию, которая все равно будет.
Украине следует в демонстративной форме отказаться от участия в Киотском протоколе, возобновить работу Чернобыльской АЭС в полном объеме и, в идеале, начать строительство еще одной-двух крупных атомных электростанций.
Предложенная стратегия подразумевает автократическую (бонапартистскую, абсолютистскую – нужное подчеркнуть) внутреннюю политику. Иначе говоря, центральная власть должна поддерживать равновесие между правыми и левыми, между националистами и интеграционистами, между православными и католиками, причем достигается это равновесие не столько компромиссами, сколько силовым давлением на противоборствующие стороны. Такая политика потребует создания принципиальной новой техники взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти.
Жесткость внутренней политики должна сочетаться с максимальным либерализмом: свобода совести, свобода языка, свобода печати и т.п. вплоть до свободы легких наркотиков. И, само собой разумеется (это не шутка!), Черноморск должен получить статус «вольного города».
Понятно, что описать такую стратегию гораздо проще, нежели провести ее в жизнь – особенно, имея «под рукой» столь странный конструкт, как украинское государство. Но каждой стране играть приходится только теми картами, которые ей сдали.
[1] Речь идет о выборах народных депутатов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 31 марта 2002 года.
[2] Так называемый «украинский язык» – искусственный конструкт, созданный из элементов старославяской речи и местных «днепровских» диалектов. Его инсталляция, как литературного языка относится к первой четверти XIX столетия, но лишь к концу этого века он приобрел некую распространенность.
[3] В городе Трускавце, Западная (!) Украина, 75% общедоступных еженедельников и 66% ежедневных газет выходят на русском языке. Украинскоязычные издания дотируются.
[4] Считая с момента формального создания независимого украинского государства в 2001 г.
[5] Россия сможет тонко регулировать степень этой враждебности ценами и квотами на энергоносители.
[6] Речь идет о региональном объединении стран, пронизанных единой транспортной артерией «Север – Юг»: России, Ирана и Индии. Для России крайне желательно участие в этом союзе также и Пакистана. Последнего добиться очень трудно, но возможно.
Руслан Исмаилов, Сергей Переслегин
Версия для печати
Этика войны и непрямые действия
В рамках европейской парадигмы мир будет лучше довоенного, только если он обеспечивает более оптимальные условия для развития при сохранении традиционных европейских ценностей: свободы и познания – уже поэтому обе мировые войны были проиграны всеми участвовавшими сторонами
I
Исследуя этическую сторону вооруженного конфликта, мы сталкиваемся с терминологической проблемой, когда для интуитивно ясных понятий нет общепринятых четких определений. В ситуации, логически очевидной, подобный недостаток не есть существенное ограничение, так как необходимое определение всегда можно дать. Однако, ситуации, возникающие при изучении моральных, то есть связанных с взаимоотношениями между людьми вопросов, логически очевидными быть не могут: необходимость в физическом насилии сталкивается с наличием ограничителей, образующих социопсихологическую структуру общества.
Таким образом, желательность четких "логических определений" вытекает из нелогичности предмета обсуждения. И, значит, прежде всего необходимо определить предмет обсуждения – войну.
Сразу отметим, что подобное определение не должно содержать исключений, ибо исключения не подтверждают правила, а опровергают его. Следовательно, определение должно содержать только всеобъемлющие понятия, связанные со словом "война". К числу последних относятся: "конфликт", то есть система противоречий между сторонами, рассматриваемая в динамике, то есть – в процессе разрешения их тем или иным способом, "противник", рассматриваемый как одна из антагонистических сторон в конфликте, а также "уничтожение", как форма воздействия одной стороны на другую. Хотелось бы определить войну как такой конфликт, в котором основным способом решения является уничтожение противника. Тем не менее, даже подобное определение порочно, ибо оно не описывает, к примеру, большинство войн средневековья, в которых применение военной силы и "уничтожение" силы противника не являлось самоцелью, а лишь одним из способов политической игры. Кроме того, так называемая холодная война также не попадет под такое определение, в силу того, что "уничтожение" в этой войне является синонимом использования атомного оружия, следовательно, глобальной атомной войны. С другой стороны, хорошо известно, что в атомной войне не может быть победителей. Итак, "уничтожение" не может считаться основополагающим признаком войны. Однако, война допускает применение подобной формы решения. Таким образом, мы приходим к выводу, что свойством войны будет отмена закона "не убий", для большинства людей являющегося императивом к действию (точнее, к бездействию). Следовательно, мы пришли к следующему определению:
Определение: войной называется такой способ разрешения конфликта, при котором выживание противника не рассматривается в качестве граничного условия.
С позиции такого определения становится очевидно, что уничтожение противника не есть "лучшее из лучших". Даже наоборот – "наилучшее сохранить армию противника". В идеальной войне, построенной исключительно на непрямых действиях, вообще может не быть ни одного столкновения.
Последнее положение далеко неочевидно. В каждой новой войне мы можем наблюдать очередную попытку решить исход войны применением самого прямого из действий – физического уничтожения противника. Примеров обратного, гораздо меньше. Таким образом, данное положение следует доказать.
II
Аксиома Лиддел Гарта: Цель войны – добиться лучшего состояния мира, хотя бы только с вашей точки зрения.
Война, целью которой является что-то другое – априори проиграна. Действительно, если послевоенный мир окажется хуже для участника этой войны, чем был довоенный, то можно утверждать, что этот участник проиграл. Например, страны Антанты, "выигравшие" Первую Мировую войну, не получили из своей победы ничего, кроме ухудшения своего положения. Англия затратила на войну 8 миллиардов фунтов, что в десятки раз больше стоимости всего ее флота. За деньги, потраченные только Англией, Францией и Россией на войну, можно было купить всю германскую армию "на корню", чем избежать мучительной агонии, породившей впоследствии демографические, экономические и морально-этические кризисы ("дьявольские тридцатые"). Победитель во Второй Мировой войны, Советский Союз, оказался в худшем экономическом положении, чем даже расчлененная проигравшая Германия.
В силу того, что война есть конфликтная ситуация, можно с большой долей уверенности утверждать, что целями, не являющимися главными, пренебрегут для достижения основных целей. Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что войны, которые ведутся не в соответствии с аксиомой Лиддел Гарта, приводят к ухудшению состояния государства, к его обнищанию, экономическому, моральному и политическому, и, даже в случае военной победы, такие войны оказываются проигранными.
Отсюда сразу же следует принцип ограниченности войны: глобальная война не может иметь цели и изначально проиграна всеми сторонами.
Попытки выиграть глобальную войну не увенчались успехом – ни первая великая война человечества, незначительным эпизодом которой была воспетая Гомером осада, и которая привела к крушению средиземноморской цивилизации на долгие шесть столетий, ни тридцатилетняя война в 17 веке, ни семилетняя в 18, ни Наполеоновские войны в 19, ни обе мировых войны – не принесли никому из их участников ничего, кроме несчастий. Формальные победители и побежденные после таких войн оказывались вынуждены помогать друг другу (если только вообще оставались какие-то ресурсы, которые можно было обратить на помощь – себе ли, противнику ли), так как разрушения, вызванные войной, приводили к уничтожению не только государства-противника, но, в первую очередь, системы межгосударственных связей и, значит, в сущности и собственного государства (победителя), как субъекта такой системы. В любом случае, выгоднее иметь с бывшим противником хорошие отношения, не отягощенные ненавистью за прошедшую войну.
Итак, можно считать доказанными следующий тезис:
Следствие (Лиддел-Гарт): сегодняшний противник завтра станет вашим покупателем, а послезавтра – союзником.
Внимательное изучение коалиционных войн 16-19 веков поражает разнообразием комбинаций союзов. То Англия с Францией борется против Голландии в Голландской войне 1672-79, а всего через 22 года, в 1701-14 начинается война за Испанское наследство, в которой Англия выступает вместе с Голландией против Франции. В Семилетней войне 1756-63 Австрия сражается вместе с Францией, через тридцать лет во время Наполеоновских войн Франция сражается против Австрии, а еще через десять лет они опять в союзе.
Возникает вопрос – а сколь часто бывшие враги становятся союзниками? Практически всегда. Успешная война должна иметь экономические результаты, а это означает, что бывший противник становится экономическим партнером. Очень показателен пример Германии после Первой Мировой войны. Когда "выигравшая" сторона была вынуждена помогать Германии восстановить экономику хотя бы ради того, чтобы получить с нее репарации и возможность торговать. А от экономического союза до политического один шаг. Отсюда видно, что уничтожение экономики противника приводит к необходимости потом ее восстанавливать.
Следствие: всякое использование средств массового поражения (от опустошения полей и вырезания крестьян до стратегических бомбардировок и ядерного оружия) удаляет обе стороны от цели войны.
Итак, нам осталось только сделать вывод. Если мы ведем войну с целью обеспечить себе лучший мир, чем довоенный, то должны признать, что верно следующее:
Вывод (Сунь-Цзы): "сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь".
Нужно отметить, что в рамках европейской парадигмы мир будет лучше довоенного, только если он обеспечивает более оптимальные условия для развития при сохранении традиционных европейских ценностей: свободы и познания. Уже поэтому обе мировые войны были проиграны всеми участвовавшими сторонами.