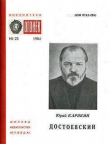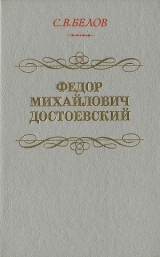
Текст книги "Федор Михайлович Достоевский"
Автор книги: Сергей Белов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
В повести, написанной в тюрьме, мы находим то, что почти отсутствует в других произведениях Достоевского: небо, солнце, свет. «Маленький герой» – последнее докаторжное художественное слово писателя, прощание его со своей романтической молодостью.
Поразительная творческая самоотдача Достоевского в каменном мешке Петропавловской крепости (он признавался, что «выдумал» там «три повести и два романа»), его неуемная жажда чтения (когда разрешили получать книги, брат присылает ему Шекспира, Библию, сочинения святого Димитрия Ростовского, «Сказания русского народа» Сахарова, – знаменателен интерес Достоевского к религиозной литературе после атеизма Белинского: через тридцать лет на стиле жития Зосимы в «Братьях Карамазовых» отразится чтение в Алексеевской равелине сочинений святого Димитрия Ростовского), его работоспособность, – все это держалось на несокрушимой жизненной силе Достоевского (он писал из крепости: «жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь…»), на такой гигантской «жажде жизни», которая и помогла ему выдержать страшную сцену смертной казни, когда жить ему оставалось не больше минуты…
Следствие по делу петрашевцев закончилось. (Достоевский с честью выдержал все поединки с членом следственной комиссии, генерал-адъютантом Я. И. Ростовцевым, который охарактеризовал писателя: «Умный, независимый, хитрый, упрямый»; а дочь писателя, Любовь Федоровна Достоевская считала, что ее отец вспомнил о своем следователе, создавая образ следователя Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании».)
17 декабря 1849 года генерал-аудиториат – высший военный суд – приговорил к расстрелу 21 петрашевца, в том числе и Достоевского. Правда, генерал-аудитор ходатайствовал о смягчении наказания, и Николай I решил помиловать всех петрашевцев. Окончательный приговор генерал-аудитора по делу писателя гласил: «Отставного поручика Достоевского за… участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на восемь лет». Николай I наложил резолюцию: «На четыре года, а потом рядовым». Но, помиловав приговоренных к смерти петрашевцев, царь, однако, выразил пожелание, чтобы до самой последней минуты заговорщики были уверены, что их расстреляют, и только после совершения обряда смертной казни следовало объявить о помиловании. В секретных документах предусматривались все подробности церемонии, причем Николай I лично интересовался всеми ее деталями: размером эшафота, эскортом карет, мундиром казнимых и т. д. Несколько раз менялась инструкция, пока, наконец, 22 декабря 1849 года не состоялась эта жуткая инсценировка смертной казни.
Не все петрашевцы выдержали этот страшный обряд смертной казни (Григорьев сошел с ума). С петрашевцев сняли белые балахоны и капюшоны. На эшафот поднялись двое палачей. Они поставили на колени осужденных и у каждого над головой сломали шпагу. Затем каждый из осужденных получил арестантскую шапку, овчинный тулуп и сапоги, а на середину эшафота бросили груду кандалов. Двое кузнецов надевали на ноги осужденным тяжелые железные кольца и заклепывали их.
В тот же день, буквально через несколько часов после эшафота, Достоевский, только что видевший перед собой смерть, писал из Петропавловской крепости Михаилу:
«…Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это… Да, правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!..
Знай, что я не уныл; помни, что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой, – это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!..
Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое. Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья… Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое».
Достоевский начинает уже ощущать высшую ценность жизни, о которой так много будут потом говорить герои его послекаторжных произведений. Эшафот явился решающим событием в духовной биографии писателя. После обряда смертной казни жизнь Достоевского «переломилась», с прошлым было покончено, началось «перерождение в новую форму».
Через двадцать лет писатель сумел переплавить свои впечатления от смертной казни 22 декабря 1849 года в художественное творчество. В романе «Идиот» князь Мышкин рассказывает о последних минутах приговоренного к смертной казни: «…Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать; ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот, как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты уже будет «нечто», кто-то или что-то, так кто же? Где же? Все это он думал в те две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними…»
Петрашевец Ф. Львов вспоминает, что Достоевский сказал перед казнью Спешневу: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем с Христом»), а Спешнее ответил с усмешкой: «Un peu poussiere» («Горстью праха»).
От Спешнева другого ответа никто и не ожидал, но каким же образом атеист Достоевский, страстно принявший, по его же признанию, все учение Белинского, перед самой смертью вдруг вспомнил Христа и заговорил о бессмертии души человеческой, воскресении? Может быть, действительно, несмотря на все принятие атеизма, «сияющая личность самого Христа» в Достоевском оставалась неприкосновенной, или под влиянием чтения в крепости Библии и творений святого Дмитрия Ростовского в нем в ожидании смерти началось, говоря его же словами, «перерождение в новую форму», то есть перерождение убеждений?
И то и другое. Но это было лишь начало, первые ростки, первые робкие, пока еще бессознательные шаги в перерождении убеждений Достоевского, так как в «Дневнике писателя» за 1873 год он сам отмечал: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния». Настоящее перерождение убеждений писателя, поворотный пункт в его духовной биографии произошел на каторге.
Глава пятая
Каторга и ссылка
24 декабря 1849 года, за несколько часов до отправки на каторгу, в комендантском доме Петропавловской крепости петрашевцы Достоевский и Дуров получили разрешение встретиться с Михаилом Достоевским и А. П. Милюковым. Через тридцать два года Милюков вспоминал об этом свидании:
«…Дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки… Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье – в полушубках и валенках… Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. На вопросы о том, каково было содержание в крепости, Достоевский и Дуров с особенной теплотою отозвались о коменданте, который постоянно заботился о них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила их, и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье…
Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.
– Перестань же, брат, – говорил он, – ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, – и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня… Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, – я даже не сомневаюсь, что увидимся… А вы пишите, да, когда обживусь – книг присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет… А выйду из каторги – писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, – будет о чем писать…
Печально перезванивали колокольчики на крепостных часах, когда вошел плац-майор и сказал, что нам время расстаться. В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки… потом вышли и остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные… Выехали двое ямских саней, и на каждых сидел арестант с жандармом. «Прощайте!»– крикнули мы. «До свидания! до свидания!» – отвечали нам».
Через пять лет после этого прощального свидания с братом Михаилом Достоевский в письме к нему из Омска от 22 февраля 1854 года описал свой путь на каторгу: «Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня, нас повели троих, Дурова, Ястржембского и меня заковывать… Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдфебель впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце, и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживил меня, и так, как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности…Нас везли пустырем по Петербургской, Новгородской, Ярославской и т. д. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но, чудно: дорога поправила меня совершенно… Грустна была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошедшее – грустно было, и меня прошибли слезы… 11 января мы приехали в Тобольск… Ссыльные старого времени (то есть не они, а жены их) заботились об нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением!»
Спустя двадцать пять лет после декабристов на каторгу везли петрашевцев. В Тобольске Дуров, Ястржембский и Достоевский пробыли около недели в январе 1850 года в общей тюрьме, на пересыльном дворе, вместе с уголовниками (их отделяла лишь тонкая перегородка). Когда они оказались в холодной, темной и грязной камере, то Ястржембский пришел в такое отчаяние, что решил покончить с собой. Его спас Достоевский. «Совершенно нечаянно и нежданно мы получили сальную свечу, – вспоминает Ястржембский, – спички, и горячий чай, который нам показался вкуснее нектара… У Достоевского оказались превосходные сигары… В дружеской беседе мы провели большую часть ночи. Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения. Мы расстались с Достоевским и Дуровым в тобольском остроге, поплакали, обнялись и больше уже не видались…».
В Тобольске произошло незабываемое событие, сыгравшее, после эшафота, важнейшую роль в духовной биографии Достоевского. Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились («умолили», по словам Достоевского) тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге».
Рассказывая в «Дневнике писателя», как он принял атеистическое учение Белинского и «может… мог бы… во дни… юности» «сделаться» «нечаевцем», Достоевский задавался вопросом, как это могло произойти: «Я происходил из семейства русского и благочестивого… Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства… Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было чем-то торжественным».
Однако детская вера была хрупкой, и молодой Достоевский оказался бессилен перед атеистическим учением Белинского, и оно «захватило его сердце». Новая встреча с Христом произошла на каторге, когда Достоевский читал одну книгу – Евангелие. Непосредственное же приобщение к страданиям русского народа на каторге ускорило процесс перерождения убеждений Достоевского.
Когда Достоевского и Дурова после шести дней пребывания в Тобольской тюрьме повезли под стражей в середине января 1850 года в Омский каторжный острог, две женщины поджидали экипажи на омской дороге: жена декабриста Наталья Дмитриевна Фонвизина и близкий друг ее семьи Мария Дмитриевна Францева. Позднее М. Д. Францева вспоминала: «Узнав о дне их отправления, мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтобы не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания; тем более, что я должна была еще тайно дать жандарму письмо для передачи в Омске хорошему своему знакомому, подполковнику Ждан-Пушкину, в котором просила его принять участие в Достоевском и Дурове. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Я отдала приготовленное письмо к Пушкину жандарму, которое он аккуратно и доставил ему в Омске. Они снова уселись в свои кошевья, ямщик ударил по лошадям, и тройки помчали их в непроглядную даль их горькой участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не окоченевшие от холода домой».
23 января 1850 года Достоевский был доставлен на каторгу в Омскую крепость и зачислен в арестантскую роту № 55 «чернорабочим», как было определено в «Статейном списке» крепости.
Попытка в 1852 году «благородных людей», как называл их в письмах сам Достоевский, официально-административным путем хоть сколько-нибудь смягчить участь «чернорабочего»-колодника, «повергаемо было на высочайшее государя императора воззрение, но монаршего соизволения на сие представление не последовало».
Тогда-то и проявилось то чувство человеческой солидарности, то чувство сострадания к чужой беде, к чужому горю, тот неписаный закон братской помощи униженным и оскорбленным, которые хоть в чем-то облегчили участь Достоевского-каторжника. «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь, – писал Достоевский 18 октября 1855 года жене декабриста Полине Егоровне Анненковой, – Вы и все превосходное семейство Ваше брали и во мне и в товарищах моих по несчастию полное и искреннее участие», а знакомство с ее дочерью Ольгой Ивановной Ивановой «будет всегда одним из лучших воспоминаний моей жизни… Ольга Ивановна протянула мне руку, как родная сестра, и впечатление этой прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется светлым и ясным на всю мою жизнь… Я с благоговением вспоминаю о Вас и всех Ваших».
С огромным риском медики Омского военного госпиталя корпусный штаб-доктор И. И. Троицкий и старший фельдшер А. И. Иванов пытались помочь арестанту Достоевскому, нередко госпитализируя его как больного, остро нуждающегося в медицинской помощи. Именно в госпитале Достоевский хотя бы ненадолго приходил в себя после тяжелой каторжной жизни.
Дочь писателя, Любовь Достоевская, в немецком издании своей книги об отце подтверждает разбросанные в его письмах намеки, что комендант Омской крепости генерал-майор А. Ф. де Граве знал о заботе И. И. Троицкого и А. И. Иванова, так как сам благоволил к Достоевскому и тоже старался облегчить ему жизнь на каторге.
И все же никакая человеческая солидарность, ни закон братской помощи, ни поддержка благородных людей не могли спасти Достоевского от ужасов каторги, от «страдания невыразимого, бесконечного», причем наиболее тягостным испытанием была не непосильная работа, не чудовищные условия жизни, а жестокое и безжалостное унижение человека, попрание его достоинства и чести, надругательство над его личностью.
Ведь кроме коменданта де Граве был еще плац-майор Кривцов, о котором Достоевский писал брату в первом письме после выхода из Омского острога: «Каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного». Писатель П. К. Мартьянов приводит записанный им в свое время по свежим следам рассказ о том, как ослабевшего от болезни Достоевского, которого плац-майор Кривцов застал лежащим на нарах, этот самодур приказал отвести в кордегардию и наказать розгами, – только вмешательство коменданта крепости спасло от этого садистского истязания.
13 февраля 1882 года в тифлисской газете «Кавказ» некто Алексей Южный (возможно, под этим псевдонимом скрывался историк и педагог Алексей Александрович Андриевский) опубликовал воспоминания бывшего каторжанина поляка А. К. Рожновского о пребывании Достоевского в Омском остроге. Автор публикации утверждает, что познакомился со стариком Рожновским летом 1880 года в Старой Руссе и тот незадолго до смерти рассказал ему о совместной каторжной жизни с Достоевским. Это страшные воспоминания. Рожновский поведал о том, что Достоевского пороли в остроге розгами за то, что он пытался вступиться за арестантов. Именно после этих истязаний на каторге, по утверждению Рожновского, у Достоевского и начались припадки эпилепсии.
В письме к младшему брату писателя Андрею Михайловичу от 16 февраля 1881 года друг молодости писателя врач А. Е. Ризенкампф также утверждает, что плац-майор Кривцов «подверг его телесному наказанию», и тоже связывает с этим случаем первый припадок эпилепсии у Достоевского.
Однако анализ других, совершенно разнотипных свидетельств позволяет со всей определенностью утверждать, что Достоевский на каторге все же не подвергался телесному наказанию. (Если же говорить о сроках начала заболевания эпилепсией, то точно нельзя сказать, когда она началась, да и сам Достоевский на этот счет высказывался по-разному; несомненно только одно – каторга не могла не способствовать развитию этого заболевания.)
Но сам по себе тот факт, что Достоевский мог подвергнуться телесному наказанию, лучше всего говорит о той страшной обстановке, которая послужила материалом для романа «Записки из Мертвого дома» и для эпилога к роману «Преступление и наказание». Достоевский сам подтвердил поразительную правдивость соответствия своей биографии этим произведениям в письме к брату Михаилу от 22 февраля 1854 года: «Жили мы в куче, все вместе в одной казарме… Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать… Затопят шестью поленами печку, тепла нет, а угар нестерпимый, и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водой… Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются, и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая… Блох, вшей и тараканов четвериками… В пост капуста с водой и больше ничего. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен… и если бы не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы… Прибавь ко всем этим неприятностям почти невозможность иметь книгу… вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крики, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемен, – право, можно простить, если скажешь, что было худо…»
Но четыре года «страдания невыразимого, бесконечного» явились поворотным пунктом в духовной биографии Достоевского. В страшный миг эшафота, когда жить ему остается не больше минуты, в нем начинает умирать «старый человек». Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».
Однако не тяжелый каторжный быт, не ужасы каторги больше всего потрясли Достоевского. Больше всего поразил писателя тот факт, что острожники с ненавистью встретили их – дворян – за их атеизм, за их безверие, за бунт, за стремление свергнуть царя. Наоборот, они верят в бога, любят царя и всякий бунт осуждают как барскую затею.
Такой вывод писателя не всегда совпадал с реальной «идеологией» и «практикой» острожников, но он искренно, полностью и до конца поверил в это совпадение, и наряду с чтением Евангелия это имело решающее влияние на перерождение убеждений Достоевского. И он был, пожалуй, единственным среди всех петрашевцев, кто «в каторге между разбойниками, в четыре года, отличил, наконец, людей», как признавался Достоевский в том же письме к брату от 22 февраля 1854 года, а затем продолжал: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны… Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно… Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».
Постепенно расшатывалась старая «вера», незаметно вырастало новое мировоззрение. В «Дневнике писателя» Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений… История перерождения убеждений, – разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полная захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, – ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души».
Перерождение убеждений началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. «Помню, что все это время, – писал впоследствии Достоевский о своей каторге, – несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решал, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде… Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе… Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута!»
В первом же послекаторжном письме к Н. Д. Фонвизиной Достоевский рассказывает ей, в каком направлении шло перерождение его убеждений: «…Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».
Отныне и навсегда «сияющая личность» Христа заняла главное место в новом миросозерцании Достоевского. В 1874 году он говорил своему молодому другу Всеволоду Соловьеву о значении каторги для его духовного развития: «…Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга… совсем новым человеком сделался… Я там себя понял, голубчик… Христа понял… русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно».
Из революционера, атеиста рождается верующий человек. Но нравственно-религиозная организация общества связывается у бывшего пропагандиста утопического социализма с мечтой о «золотом веке», о земном рае, о братстве всех людей. Показывая широкую и исторически правдивую картину общественной жизни России своего времени, писатель всегда оставался «реалистом в высшем смысле». До конца своих дней Достоевский сохранил верность гуманистическим идеалам братства народов и социальной гармонии, основанной на совершенстве и счастье каждого отдельного человека. Но христианская вера была им всесторонне выстрадана.
После каторги и ссылки религиозная тема становится центральной темой творчества Достоевского. В 1870 году он писал своему другу, поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос…, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование божие».
Эпилог «Преступления и наказания» имеет автобиографическую ценность. Эволюция Раскольникова от «безбожника» (однажды каторжники «все разом напали на него с остервенением: «Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника») к вере – это эволюция и самого Достоевского на каторге…
15 февраля 1854 года писатель навсегда покинул Омский острог. Срок каторги истек, дальше полагалась служба рядовым в ссылке. В ожидании определения места службы Достоевский прожил почти месяц в доме зятя декабриста Анненкова К. И. Иванова, старшего адъютанта Отдельного Сибирского корпуса. Здесь, в Омске, в 1854 году Достоевский познакомился, а впоследствии и подружился с офицером-казахом Чоканом Валихановым – первым ученым своего народа, этнографом, фольклористом, историком. Достоевский сумел предсказать его блестящую будущность и замечательную известность. В марте 1854 года, после зачисления рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, стоявший в Семипалатинске, Достоевский был по этапу доставлен в Семипалатинск.
Через неделю после выхода из каторги Достоевский писал брату Михаилу: «На душе моей ясно. Вся будущность моя и все, что я сделаю, у меня как перед глазами. Я доволен своей жизнью». И все же, хотя Достоевский ясно и представлял себе солдатчину (брату он писал перед отправкой в Семипалатинск: «Попадешь к начальнику, который не взлюбит, придется и погубит или загубит службой»), он в действительности еще не знал ее.
Служба в сибирских войсках была тяжелая. Целый день солдаты проводили на площади: ученье, смотры, парады, а ночью непременно куда-нибудь в караул. Поступив в батальон, писатель должен был повторить, точнее, даже заново пройти строевую службу. В маленьком городке, где была каменная церковь, несколько мечетей и казарма, а немногочисленное население состояло из чиновников, офицеров, солдат и купцов-татар, Достоевский сначала общался в основном только с солдатами в казарме. Его седьмой батальон пополнялся рекрутами из крепостных, полуграмотными горожанами, которые не могли по бедности откупиться, и наемными – часто явно преступным элементом, мало чем отличавшимся от каторжников.
Но это был уже другой Достоевский, совсем не тот, который четыре года назад попал в Омский каторжный острог. Он писал брату из Семипалатинска: «Как ни чуждо все это тебе, но я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь, со всеми обязанностями, не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой, или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием, в подобных занятиях. Чтобы приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил» (курсив наш. – С. Б.).
Эти слова характеризуют новое мировоззрение Достоевского, который теперь уже начал считать революционный период своей жизни отречением от Христа и грехом против русского народа. Когда однажды ему сказали: «Какое, однако, несправедливое дело ваша ссылка!», писатель сразу же возразил: «Нет, справедливое: нас бы осудил народ».
Теперь становится понятным, почему Достоевский довольно легко ужился с темной казарменной массой и спокойно переносил грубые солдатские выходки и даже оскорбления. Благодаря его уступчивости и терпимости не было ни одного недоразумения.
Первое время Достоевский мало выходил в город. Соседом его по нарам оказался молодой солдат, крещеный еврей Н. Ф. Кац. У Каца был самовар, он угощал чаем своего молчаливого, хмурого товарища и удивлялся спокойствию, с которым тот переносил грубость и невзгоды солдатской жизни. А Достоевский, когда мог, оказывал услуги юноше и помогал ему.
Позднее Достоевскому было разрешено поселиться на частной квартире, и он снял комнату в кривой бревенчатой хате, стоявшей на пустыре на краю города. Он платил пять рублей в месяц за «пансион»: щи, каша, черный хлеб В низкой полутемной комнате, где вся мебель состояла из кровати, стула и стола, было множество блох и тараканов. Хозяйка, солдатская вдова, и ее две дочери, двадцатилетняя и шестнадцатилетняя, пользовались дурной репутацией, но младшая была очень хороша собой, и Достоевский подружился с ней. После четырех лет каторги каждая новая встреча с женщиной производила на него неизгладимое впечатление.