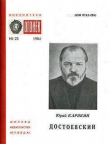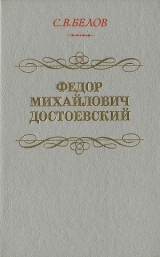
Текст книги "Федор Михайлович Достоевский"
Автор книги: Сергей Белов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Глава четвертая
Среди петрашевцев
Ранним утром 22 декабря 1849 года к обер-комендантскому дому Петропавловской крепости в Петербурге подъехало множество карет и стянулись отряды конной жандармерии. На крепостной двор выводили узников и поодиночке рассаживали в кареты, причем рядом с каждым заключенным садился солдат. Кареты выехали из крепости, пересекли Неву и направились к Семеновскому плацу.
На казнь везли государственных преступников, участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Их арест весной 1849 года произвел настоящий фурор в столичном обществе. Правда, слухи были самые различные и самые фантастические. Одни, например, передавали, что тайная полиция открыла заговор против самодержавия, другие говорили, что в кружке проповедовали социализм, политические свободы и освобождение крестьян.
На Семеновском плацу узников вывели из карет и здесь, перед эшафотом, Достоевский впервые увидел после долгих месяцев одиночного заключения в Петропавловской крепости своих товарищей по кружку М. В. Буташевича-Петрашевского…
Но как Достоевский-мечтатель оказался среди петрашевцев? Участие Достоевского в революционных кружках было абсолютно закономерным, и тот Достоевский, каким он был в конце 40-х годов, непременно должен был рано или поздно оказаться среди петрашевцев.
В 1873 году в «Дневнике писателя» Достоевский дал точное определение своей романтической юности: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райски-нравствен-ном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей».
Романтическое «мечтательство», шиллеровский идеализм, французский утопический социализм, Жорж Санд и Бальзак и раннее пробуждение под их влиянием общественных интересов, протест против социальной несправедливости в ранних произведениях – в «Бедных людях», «Двойнике», «Слабом сердце», «Господине Прохарчине», «Хозяйке», знакомство через Белинского с новейшими социалистическими и коммунистическими теориями и, наконец, попытка вместе с братьями Бекетовыми сделать опыт общественной равноправной «ассоциации», – вот важнейшие штрихи духовной биографии молодого Достоевского, подготовившие его к участию в кружке петрашевцев.
Но и сравнение Достоевским в «Дневнике писателя» зародившегося социализма с христианством не было случайным. Наоборот, социальный утопизм, системы Сен-Симона, Фурье, Прудона молодому поколению 40-х годов, беспокойному и ищущему, казались осуществлением на земле христианских заветов, евангельской правды, а у самого Достоевского вера в наступление золотого века, мечта о всемирном братстве, когда все будут «как братья с братьями», говоря словами Настеньки в «Белых ночах», во многом зиждились также на именах Виктора Гюго, Жорж Санд, Бальзака. Он считал их произведения новым христианским искусством, призванным обновить мир и осчастливить человечество, и это новое искусство соединялось в сознании молодого писателя с утопическим социализмом.
Идея всемирного братства людей, золотого века, всеобщего счастья – самая дорогая мечта писателя с юношеских лет и до конца его дней…
7 апреля 1849 года петрашевцы в Петербурге торжественным обедом в складчину отмечали день рождения французского философа-утописта Шарля Фурье (1772–1837). Служащий департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821–1866) собрал группу интеллигентов, мечтающих об общественных преобразованиях в России. Молодой чиновник Дмитрий Ахшарумов, глядя на большой портрет Фурье, специально выписанный из Парижа для этого дня, произнес застольную речь.
«Мы… празднуем грядущее искупление всего человечества – сегодня, именно сегодня – в день рождения Фурье, – восторженно говорил он, – празднуем день его рожденья, чтим его память; его, потому что он указал нам путь, по которому идти… Всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, в жизнь веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах – вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий…»
Ни Ахшарумов, ни выступившие также с застольными речами М. В. Буташевич-Петрашевский, А. В. Ханыков, И. М. Дебу не подозревали даже, что приставленный к петрашевцам полицейский агент донесет об их очередной встрече, а сам торжественный обед и речи в честь французского мыслителя будут скоро поставлены им в вину как одно из преступлений, караемых смертной казнью.
Познакомившись с М. В. Буташевичем-Петрашевским весной 1846 года, Достоевский сначала берет в его библиотеке книги социалистов-утопистов, а потом становится частым посетителем «пятниц» в его деревянном двухэтажном доме по Садовой улице в районе старой Коломны. Вначале на собраниях бывало около двадцати человек, а перед арестом кружка – до пятидесяти. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, причем вход на «пятницы» был свободный. «Ко мне всякий мой знакомый водил кого хотел», – признавался Буташевич-Петрашевский следственной комиссии. Это в конечном счете и сгубило петрашевцев, так как на – Собрания к ним свободно ходил агент полиции.
И все же посетители «пятниц» в основной своей массе не были случайными людьми. Буташевич-Петрашевский приглашал к себе, как потом запишет следственная комиссия, «преимущественно из воспитателей, молодых литераторов и студентов… чтобы потрясать умы социальными книгами, разговорами и речами», причем цель, поставленная Буташевичем-Петрашевским, состояла в том, чтобы «мало-помалу нанести удар правительству и настоящему порядку вещей».
Если вначале «пятницы» были заполнены главным образом литературными спорами или простым знакомством с западноевропейскими общественно-экономическими теориями социалистов-утопистов или отвлеченными дискуссиями о социалистических учениях, то вскоре в квартире Буташевича-Петрашевского стали обсуждаться самые насущные и актуальные общественно-политические проблемы, все чаще и чаще стали высказываться мечты о справедливом общественном строе, освобождении человеческой личности от деспотизма и произвола.
Д. Ахшарумов в своих мемуарах «Записки петрашевца» (М.; Л., 1930) рассказывает, что «пятницы» представляли собой интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, петербургских новостях, – в общем, говорилось обо всем, причем громко и без всякого стеснения. Вот так и получилось, что о собраниях петрашевцев по пятницам практически знал весь Петербург.
Однако петрашевцы не были единодушны в своих политических взглядах. Среди них были и сторонники революционного пути решения вопросов общественного развития России путем организации тайного общества, создания тайной типографии, ведения революционной пропаганды среди солдат, подготовки крестьянских восстаний, и сторонники либерально-демократических реформ. Но те и другие полностью сходились в необходимости немедленного уничтожения крепостного права, проведения реформ, которые дали бы свободу слова, печати, гласный суд и т. д. «Мы осудили на смерь настоящий быт общественный, – говорил Буташевич-Петрашевский, – надо же приговор наш исполнить».
Многих петрашевцев, и прежде всего и главным образом Достоевского, интересует также христианско-социалистический характер утопии Фурье, и нравственный подход к общественным, социалистическим вопросам остался у писателя на всю жизнь. И когда в его последнем романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов рассуждает, о чем же могут говорить «русские мальчики», когда они «поймали минутку»: «О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время», – то Достоевский вспомнил здесь разговоры о боге и социализме, которые вели «русские мальчики» 40-х годов – петрашевцы.
Так, например, петрашевец К. И. Тимковский «взялся в одну из… пятниц… доказать путем чисто научным божественность Иисуса Христа, необходимость пришествия Его в мир на дело спасения», петрашевец А. И. Европеус заявил на следствии, что «характер теории Фурье есть религиозный», петрашевец К. М. Дебу показал, что «теория Фурье… поддерживает религиозные чувства». У поэта-петрашевца А. Н. Плещеева были такие стихотворные строчки: «И предстает вдали, как призрак, предо мною распятый на кресте Великий Назорей». Наконец, в той же речи на обеде в честь Фурье 7 апреля 1849 года Д. Ахшарумов сказал очень близкие Достоевскому слова: «Мы… должны… рестаурировать образ божий человека во всем его величии и красоте».
Но Достоевский не остановился на христианском социализме. В «Дневнике писателя» в 1873 году он рассказывает о том, как Белинский «бросился обращать его в свою веру»: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма… Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и без всякой рефлексии: тут был один лишь восторг. Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить эту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества…»
На смену утопическому социализму, понимаемому многими петрашевцами, в том числе и Достоевским, как христианский социализм, шел атеистический материализм. В середине 40-х годов Белинский, под влиянием Фейербаха, отрекается от Гегеля, самозабвенно увлекается естествознанием и точными науками и становится атеистом. В 1845 году он пишет А. И. Герцену: «В словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Белинский восстает на бога из любви к человечеству и отказывается верить в создателя, творца этого несовершенного мира. Через тридцать лет в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы» Иван Карамазов повторит эти аргументы Белинского против бога.
Влияние Белинского было настолько велико, критик имел такой непререкаемый авторитет среди российской молодежи, каждое его слово воспринималось с таким откровением и имело такой колоссальный общественный резонанс, что его собственный переход к атеистическому материализму предопределил и эволюцию русского социализма в этом же направлении.
Правда, как вспоминает Достоевский об этих важнейших годах в его духовной биографии, «тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христа он [Белинский], как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. В беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием…»
Однажды, как пишет дальше Достоевский, Белинский сказал ему: «Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел».
И, обращаясь ко второму гостю и указывая на Достоевского, Белинский продолжал: «Мне даже умилительно смотреть на него: каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». (Не вспомнил ли Достоевский эти слова Белинского, когда через двадцать лет стал создавать роман «Идиот», герой которого, князь Мышкин, – «князь Христос», как писатель называет его в черновиках, – появился в Петербурге в «наше время».)
Эти удивительные по своей исповедальной искренности воспоминания Достоевский заканчивает поразительным признанием: «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда все его учение».
Значит, Достоевский сам признается, что «страстно принял» атеистическое учение Белинского, хотя, очевидно, где-то в глубине души «сияющая личность самого Христа» с ним всегда оставалась. В том же «Дневнике писателя» за 1873 год писатель полнее раскрывает смысл атеистического учения критика и еще раз подтверждает влияние этого учения: «Все эти убеждения о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству и пр., и пр. – все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия».
Признавшись в том, что Белинский обратил его в свою атеистическую веру, писатель делает из этого обращения страшный и на первый взгляд довольно загадочный вывод: «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности».
Сергея Геннадьевича Нечаева, который хотел вместе со своими последователями-нечаевцами опутать всю Россию сетью тайных ячеек, возмутить массы, поднять кровавый бунт и все до основания разрушить, Достоевский заклеймил в 1872 году в романе «Бесы» в образе Петра Верховенского. Но тогда что же означает это страшное и загадочное признание автора «сделаться… нечаевцем» в «дни… юности» «в случае, если бы так обернулось дело».
Смысл этого признания связан с деятельностью Достоевского в кружке петрашевцев и открылся только после смерти писателя…
Многие из узников так изменились за время заключения в Петропавловской крепости, что с трудом узнавали друг друга, встретившись на эшафоте на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года. На середине площади, перед земляным валом, был сооружен деревянный помост квадратной формы, обнесенный по карнизу невысоким забором. Это был эшафот. Перед ним, выстроившись в каре, стояли войска, а на некотором расстоянии торчали вкопанные в землю три деревянных столба. На валу, несмотря на ранний час, собралась довольно большая толпа.
Подошел чиновник, и началась проверка. Он по списку называл фамилии, и по этим вызовам первым в ряду был поставлен Буташевич-Петрашевский, за ним – Спешнее, потом Момбелли. Достоевский стоял во второй тройке.
Когда проверка кончилась, появился священник с крестом и Евангелием в руках и повел преступников перед войсками. Шагая по рыхлому снегу и переговариваясь: «Для чего столбы у эшафота?» – «Привязывать будут, военный суд – казнь расстрелянием», – петрашевцы взошли по узенькой лестнице на эшафот, и их расставили по краям: по одну сторону 10 человек, по другую – 11. Позади каждого стоял жандарм.
На середину эшафота вышел чиновник в мундире и быстро начал объявлять приговор. Становясь напротив того петрашевца, чью фамилию он называл, чиновник излагал вину каждого в отдельности и заканчивал приговор неизменно словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни – расстрелянием».
На осужденных надели предсмертное одеяние – белые капюшоны и балахоны. Петрашевец Д. Ахшарумов оставил подробное описание этой жуткой сцены:
«Взошел на эшафот священник – тот же самый, который нас вел, – с Евангелием и крестом… Он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться… Кающемуся Спаситель прощает грехи… Я призываю вас к исповеди…»
Никто из нас не отозвался на призыв священника – мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призвал к исповеди. Тогда один из нас – Тимковский – подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещеванием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнее. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту…
Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками… Потом отдано было приказание «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац» [ «На прицел»] – и вслед за тем группа солдат – их было человек шестнадцать, – стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петра-шевского, Спешнева и Момбелли…».
Достоевский был во второй тройке, и жить ему оставалось не более минуты. Он вспомнил в эту последнюю минуту своей жизни брата Михаила и только сейчас, на эшафоте, в ожидании смертной казни, понял, как он его любит, успел обнять и проститься с Плещеевым и Дуровым, которые были рядом. Но чувствовал ли тогда Достоевский свою вину? Ведь это же с именем Дурова была связана «тайная» деятельность Достоевского среди петрашевцев, о чем следственная комиссия почти и не подозревала…
«Я поддерживал знакомство с ним [Петрашевским],– писал арестованный Достоевский в «объяснении» следственной комиссии, – ровно настолько, насколько того требовала учтивость, то есть посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже… В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более восьми раз… Впрочем, я всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного»
Достоевский пытается доказать, что ничего преступного в его поведении не было: «В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил вольнодумно и что, наконец, прочел вслух литературную статью: «Переписку Белинского с Гоголем».
«Вольнодумство», по Достоевскому, сводилось к желанию добра своему отечеству, и здесь он как будто оправдался, а вот чтение знаменитого письма Белинского к Гоголю, где критик называл русский народ «глубоко атеистическим народом» и говорил, что России нужны «не проповеди», «не молитвы», а «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства», – было уже весьма серьезным обвинением против Достоевского и грозило ему смертной казнью
Шпион П. Д. Антонелли доносил: «В собрании 15 апреля [1849] Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским, и в особенности письмо Белинского к Гоголю… Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласогло и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах».
Достоевский пытается запутать следствие, держится мужественно, а главное, за все время следствия он не выдал никого из своих товарищей.
Ни одним словом Достоевский не упомянул о существовании среди петрашевцев более узкого, но и гораздо более радикального кружка Сергея Федоровича Дурова (1816–1869). Но неожиданно следственная комиссия сама узнала о существовании кружка Дурова. И Достоевский виртуозно пытается притупить бдительность следственной комиссии, так как ему инкриминировалось и участие в революционной ячейке, и стремление иметь свою литографию (типография ему не ставилась в вину): «На вечерах у Дурова я бывал. Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым знакомством и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще… Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась и музыка». А когда однажды Филиппов предложил литографировать сочинения кружка, минуя цензуру, то это вызвало гнев и возмущение всех членов кружка, и Достоевский убедил всех отказаться от плана Филиппова, а «после того собрались всего только один раз», так как «по болезни Пальма вечера совсем прекратились».
Только после смерти писателя выяснилось, что кружок Дурова был далеко не таким безобидным и уж во всяком случае не «чисто артистическим и литературным», каким пытался представить его следственной комиссии Достоевский. Кружок Дурова был образован наиболее радикальными посетителями пятниц Петрашевского, недовольными умеренностью большинства петрашевцев, стоявшими не за медленную пропаганду, а за революционную тактику и освобождение крестьян «хотя бы путем восстания».
Для того чтобы подготовить народ к восстанию, дуровцы – Спешнее, Филиппов, Мордвинов, Милютин, Момбел-ли, Григорьев, Достоевский – решили завести тайную типографию и выбрать комитет для непосредственного руководства из пяти членов, причем для соблюдения тайны «должно включить в одном из параграфов приема угрозу наказания смертью за измену; угроза будет еще более скреплять тайну, обеспечивая ее».
Знакомые строки, весьма напоминающие дисциплину и в пятерке Петра Верховенского в романе «Бесы», и в пятерке его прототипа Нечаева. Но весь смысл поразительных по откровенности слов Достоевского из «Дневника писателя» за 1873 год о том, что он мог бы сделаться нечаевцем во дни своей юности, стал полностью понятен только после смерти писателя, когда поэт А. Н. Майков решился рассказать об этом поэту А. А. Голенищеву-Кутузову и историку литературы П. А. Висковатову. Оказывается, в январе 1849 года Достоевский пришел к А. Н. Майкову и сказал, что ему поручено сделать Майкову следующее предложение: «Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун, у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, П. Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе и Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я доказывал легкомыслие, беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель… И помню я – Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягая все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество и пр… «Итак – нет?» – заключил он. – «Нет, нет и нет». Утром, после чая, уходя: «Не нужно говорить об этом – ни слова». – «Само собой». Впоследствии я узнал, что типо-графический ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М-ва (Мордвинова. – С. Б.), которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе комиссии и по уводе домашние его сумели, не повредив печатей, снять дверь с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена. Об всем этом деле комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех, избегших ареста, только я один и знал».
Однако центральной фигурой дуровского кружка был не Достоевский, а Николай Александрович Спешнее (1821–1882), сыгравший большую роль в творческой жизни писателя, да и лично имевший на него какое-то таинственное влияние. Вообще Спешнее для всех петрашевцев оставался загадкой. Еще до петрашевцев, за границей, он думал о создании тайного общества (в бумагах Спешнева, захваченных при его аресте, сохранился составленный им черновой проект обязательной подписки для вступления в «Русское тайное общество»).
По показаниям Момбелли, «Спешнее объявлял себя коммунистом, но вообще мнений своих не любил высказывать, держа себя как-то таинственно, что в особенности не нравилось Петрашевскому. Тот часто жаловался на скрытность его и говорил, что он всегда хочет казаться не тем, что есть».
Разные слухи ходили о его личной жизни: говорили, что он увез за границу чужую жену, которая покинула двух детей, а за границей отравилась от ревности, а Спешнее, действительно, пользовался большим успехом у женщин.
Петрашевцы оставались в совершенном недоумении относительно его манеры держать себя. Немногословный, он всегда держался особняком, и если предпринимались попытки втянуть его в разговор, то он как бы снисходил до него. Петрашевцы невольно ощущали некую дистанцию, которую Спешнев не старался разрушать.
Таким он и остался в памяти современников: холодным, неприступным, загадочным, даже несколько таинственным. (Правда, эта таинственность несколько померкла на следствии по делу петрашевцев, где он вел себя не лучшим образом.) К этому лично у Достоевского присоединяется ощущение огромной подчиняющей силы его. Не без внутреннего сопротивления Достоевский все больше и больше поддается его влиянию, в какой-то момент, по свидетельству С. Яновского, даже вообразив Спешнева «своим Мефистофелем».
Общение с таинственным красавцем, жившим долго за границей, с загадочным романтическим прошлым, вдохновителем тайного революционного общества, проповедником атеизма, с холодным и скрытным человеком, наружность которого «никогда не изменяет выражения», вдохновило Достоевского через двадцать три года на создание в романе «Бесы» «главного беса» – Николая Ставрогина (и имя у них одинаковое)…
21 апреля 1849 года шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил царю подробную записку о деле петрашевцев и получил письменную резолюцию Николая I: «Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь… С богом! Да будет воля его!»
В альбоме дочери своего старого знакомого А. П. Милюкова Достоевский, вернувшись через десять лет после каторги и ссылки, записал рассказ о своем аресте:
«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий и симпатический голос: «Вставайте!» Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами. «Что случилось?» – спросил я, привстав с кровати. «По повелению…» Смотрю: действительно, «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля… «Эга, да это вот что!» – подумал я. «Позвольте ж мне…» – начал было я. «Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с», – прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.
Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было… Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту, у Летнего сада Там было много ходьбы и народа. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал… Беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля был действительно Юрьев день. Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем г[осподина] Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу». «Так это Антонелли!»
Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать…».
Отсюда петрашевцев направили в Петропавловскую крепость, Достоевского – в темный, глухой, каменный мешок страшного Алексеевского равелина крепости. Полная изоляция от мира, даже передача книг вначале не была разрешена. Многие из петрашевцев не выдержали (например, сошел с ума В. П. Катенев), а Достоевский через двадцать пять лет рассказывал своему молодому другу, критику и историческому романисту Всеволоду Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу и – вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?., я писал «Маленького героя» – прочтите, разве в нем видно озлобление, муки?».
Находясь в заключении в Петропавловской крепости (причем следственная комиссия отнесла писателя к числу «наиболее опасных» преступников), не зная, что его ждет – смерть или каторга, Достоевский создает одно из самых светлых своих произведений – «Маленький герой». Это повесть о нежной и впечатлительной душе подростка, о его полудетской, полувзрослой преданности и любви, о пробуждении сознания у юного существа (Достоевского продолжает волновать тема его предыдущего, неоконченного из-за ареста произведения – романа «Неточна Незванова»). Писатель тонко анализирует чувство первой любви в подростке, его стыдливость и гордость, застенчивость и смелость. Мальчик влюбляется в прекрасную даму и становится ее рыцарем. Как настоящий рыцарь, он верно служит избраннице своего сердца и, чтобы заслужить ее благосклонность, совершает подвиг: скачет на необъезженной лошади. И больше того, он подлинно «рыцарским жестом» спасает свою даму от позора и гибели: возвращает ей в букете цветов найденное им письмо. Как и мечтатель «Белых ночей», одиннадцатилетний рыцарь бескорыстен в любви и стремится устроить чужое счастье.