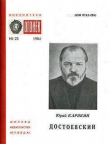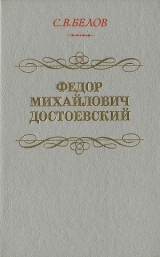
Текст книги "Федор Михайлович Достоевский"
Автор книги: Сергей Белов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Через сорок лет Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» о своей первой поездке в Петербург: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем „прекрасном и высоком”,– тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться на бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».
В этой поездке в Петербург мечтатель и романтик, каким был тогда Достоевский, на станции в Тверской губернии впервые столкнулся со страшной русской действительностью. «Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, – вспоминает Достоевский в том же «Дневнике писателя», – как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и, наконец, нахлестал их до того, что они неслись как угорелые… Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря, и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять уже, конечно, слишком односторонне…»
Кляча, умирающая под ударами Миколки в сне Раскольникова в романе «Преступление и наказание», весь этот образ жестокости и мучительства – воспоминания о фельдъегере 1837 года.
16 января 1838 года Федор Достоевский был зачислен в училище и перебрался в Инженерный замок, в котором оно располагалось. Михаилу было отказано в приеме по состоянию здоровья, и он поступил на службу по прошению в С.-Петербургскую инженерную команду, но через три месяца, в апреле, был откомандирован в Ревельскую инженерную команду. Братья расстались.
Инженерное училище в Петербурге, куда поступил Достоевский, помещалось в Михайловском замке – бывшем дворце Павла I, где он был убит. Юный Достоевский вдруг остался совершенно один, без всякой поддержки и опоры в мрачном Михайловском замке. Впервые он оказался лицом к лицу с враждебной ему действительностью. Эта действительность глубоко разочаровала будущего писателя. Достоевский старался уйти в мир Пушкина, Шиллера, Корнеля, но скучал о своем друге – старшем брате Михаиле и беспокоился о своем отце, опускавшемся после смерти жены. «Мне жаль бедного отца, – писал он брату. – Странный характер. Ах, сколько несчастий перенес он. Горько до слез, что нечем его утешить».
В письмах друг к другу братья делятся впечатлениями о прочитанном, своими литературными опытами и планами, философствуют о назначении искусства. Письма Достоевского к брату Михаилу поражают удивительным проникновением в самое сокровенное великих писателей, он – гениальный читатель, он обладает поразительной склонностью к сотворчеству с классиками. «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный богом и к нам посланный), – пишет Достоевский брату, – может быть параллелью только Христу, а не Гете… Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни (совершенно в такой силе, как Христос новому)… Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, – и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. (Только Гомер похож на Гюго.)»
В письмах Достоевского часто говорится о гениях мировой литературы, о каждом из них он может сказать свое слово, но всегда оно будет трепетным преклонением перед художественным творчеством как величайшим чудом. «У Расина нет поэзии? – спрашивает возмущенный Достоевский брата. – У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать? Теперь о Корнеле… Да знаешь ли ты, что он по гигантским характерам, духу романтизма – почти Шекспир… Пади в прах перед Корнелем».
Через сорок лет, в Пушкинской речи, в своем завещании за полгода до смерти, Достоевский, размышляя о всемирной отзывчивости русского человека, говорил: «Мы… дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе…» Истоки этих замечательных слов – в юности Достоевского.
Но среди «гениев чужих наций» у воспитанника Инженерного училища было три верных спутника, любовь к которым он сохранил на всю жизнь: Сервантес, Шиллер и Бальзак. «Рыцарь бедный», герой романа «Идиот» Лев Николаевич Мышкин сопоставим с благородным рыцарем печального образа Дон Кихотом; герой последнего романа Достоевского, «Братья Карамазовы», Дмитрий Карамазов цитирует Шиллера; первая литературная работа двадцатитрехлетнего Достоевского – перевод «Евгении Гранде» Бальзака.
«Бальзак велик, – пишет семнадцатилетний Достоевский брату. – Его характеры – произведения ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека» (курсив мой. – С. Б.). Так постепенно, в восторженной смене литературных впечатлений и в лихорадочном, хаотичном чтении классиков мировой литературы, молодой Достоевский находит сокровенную тему своего будущего творчества: человек, его природа, его назначение, смысл его жизни, его душа. В одном из писем брату есть такие слова: «Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш – чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой изящной духовности вышла сатира… Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»
Федор и Михаил Достоевские страстно мечтают о встрече: даже самые сокровенные письма не могут передать всех порывов души и сердца. В 1843, 1845 и в 1846 годах Достоевский трижды гостит у брата в Ревеле, который стал одним из самых модных курортов России, так как морские купания считались панацеей от всех болезней. Однако ревельское общество, по свидетельству современника, «своим традиционным, кастовым духом, своим… ханжеством…, разжигаемым фанатическими проповедями тогдашнего модного пастора… Гуна, своею нетерпимостью, особенно в отношении военного элемента, произвело на Достоевского весьма тяжелое впечатление. Оно так и не изгладилось в нем во всю жизнь».
Возможно, пастор Август Фердинанд Гун (1807–1871), с его фанатизмом и нетерпимостью, послужил отправной точкой для создания образа Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых».
Поездки в Ревель оставили след и в творческой биографии писателя. В записных тетрадях Достоевского 1868–1869 годов имеются наброски повести о капитане Картузове, действие которой происходит в Ревеле. Правда, замысел повести остался неосуществленным, но капитан Картузов послужил в какой-то мере прообразом капитана Лебядкина в романе «Бесы».
Кроме брата было еще два человека, пламенный культ дружбы с которыми освящал юность Достоевского. В первый приезд в Петербург весной 1837 года он знакомится с чиновником Министерства финансов и поэтом Иваном Николаевичем Шидловским (1816–1872). В первые годы пребывания в Инженерном училище Достоевский находился под сильным влиянием Шидловского, который пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви. Достоевский восторженно рассказывает о Шидловском брату: «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической… Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее… Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни… Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я!»
Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский вскоре уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большое исследование по истории русской церкви. Небезынтересно отметить, что Ордынов – герой ранней повести Достоевского «Хозяйка», возможно, отчасти психологический портрет Шидловского, тоже пишет работу по истории церкви. В 1850-х годах Шидловский поступает послушником в Валуйский монастырь, затем предпринимает паломничество в Киев, снова возвращается домой, в деревню, где и живет до самой кончины.
Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности. Критик Вс. С. Соловьев вспоминает, что когда он попросил Достоевского в 1873 году сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем, писатель ответил: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради бога, голубчик, упомяните – это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало». В сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шидловского, хотя он и не идеализировал излишний отрыв его от действительности: Ордынов в «Хозяйке» начинает линию романтических героев Достоевского, а Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее.
Другой романтический друг молодого Достоевского – старший товарищ по Инженерному училищу Иван Игнатьевич Бережецкий (1820—?). Учитель и наставник училища А. И. Савельев, впоследствии генерал-лейтенант и историк, вспоминает: «И в юности он (Достоевский. – С. Б.) не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренне ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого… Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любивший уединение… Бывало, на дежурстве, мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела», или произведения тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского… Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевных качеств, например, их сострадания к бедным, слабым и беззащитным…».
Брату Достоевский подробно рассказывает о совместном чтении с Бережецким Шиллера: «Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера, – ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон-Карлоса и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья. Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний…»
В романтической дружбе с Шидловским и Бережецким впервые проявилась способность писателя к творческому перевоплощению – один из важнейших признаков настоящего художественного таланта. В письмах к брату Достоевский одинаково легко перевоплощается и в двух своих романтических друзей, и в героев гениев мировой литературы и так же легко перевоплощает и друзей в этих героев.
Но пламенная дружба с Бережецким все же не могла скрасить духовного одиночества Достоевского в Инженерном училище. Из дружной, любящей семьи Федор попал в военное учебное заведение, где, например, новичков, или «рябцов», как их называли, нередко истязали воспитанники старших классов. К тому же сверстники встретили молодого Федора Достоевского насмешками: он был замкнут и робок и не имел ни манер, ни денег, ни знатного имени. Дома, в семье, Федора считали резвым и бойким ребенком и скорее упрекали в живости характера; и мать, и отец сходились в том, что «Федор – это огонь», так как он верховодил во всех играх и проявлял необычайную пылкость нрава и воображения. (Отец неоднократно говорил сыну: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой», то есть отданным в солдаты, разжалованным. Эти слова оказались пророческими.)
Но в чужой среде Достоевский замкнулся. Его товарищ по училищу К. Трутовский, впоследствии известный художник, оставивший, кстати, единственный портрет молодого писателя, рассказывал, что в 1839 году Достоевский был худощав, угловат, платье сидело на нем мешком, и хотя в нем чувствовалась доброта, вид и манеры его были угрюмы и сдержанны. Он был нелюдим, держался особняком, порою бывал смешным и, вероятно, показался неоперившимся птенцом всем этим дворянским сынкам, которые могли говорить о чем угодно, только не о литературе, не о Пушкине и не о Шиллере.
Воспитатель А. И. Савельев описывает Достоевского в 1841 году: «…Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходился с кем-либо из своих товарищей… Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой… спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось… Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло…».
Замкнутости и уединенности Достоевского в Инженерном училище способствовало не только раннее предчувствие им своего писательского предназначения, но и страшное известие, полученное им летом 1839 года: крепостные крестьяне имения в Даровом убили в поле Михаила Андреевича Достоевского. Это известие потрясло юношу. Ведь совсем недавно умерла мать. Он вспомнил, как она любила отца настоящей, горячей и глубокой любовью, вспомнил, как бесконечно любил ее отец, вспомнил свое безмятежное детство, отца, привившего ему любовь к литературе, ко всему высокому и прекрасному. Нет, в насильственную смерть отца он так и не мог поверить до конца своих дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом – жестоким крепостником противоречило тому образу отца – гуманного и просвещенного человека, который Достоевский навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему в его последнем романе «Братья Карамазовы» «лишь драгоценные воспоминания» «из дома родительского» вынес старец Зосима, а Алеша Карамазов также вдохновенно говорит о «прекрасном, святом воспоминании» детства как «самом лучшем воспитании». Вот почему в 1876 году в письме к брату Андрею Достоевский так высоко отозвался о родителях, а мужу сестры Варвары Карепину он писал: «Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших».
Прошло более 130 лет со дня известия о трагической смерти отца писателя. 18 июня 1975 года в «Литературной газете» появилась статья московского исследователя Г. А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных архивных документов, что Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле между Даровым и Черемошней своей смертью от «апоплексического удара». Слухи же о расправе крестьян распространил соседний помещик Хотяинцев, с которым у отца Достоевского была земельная тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые дворы крестьян Хотяинцева помещались в самом Даровом. Он шантажирует бабку писателя (по матери), приезжавшую узнать о причинах случившегося. Андрей Михайлович Достоевский указывает в своих воспоминаниях, что Хотяинцев и его жена «не советовали возбуждать дела». Вероятно, отсюда и пошел слух в семействе Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто.
Таким образом, Достоевский не ошибся в том образе своего отца, который он вынес из детства и юности и сохранил навсегда.
Дочь писателя утверждает, что с Достоевским «при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии». Другие мемуаристы считают, что первый припадок произошел на каторге. Сам писатель не оставил на этот счет точных указаний. Но в данном случае это и не важно. Важно другое. Достоевский был очень мужественным человеком: ведь каждый припадок мог оказаться смертельным.
После смерти отца жизнь Достоевского в училище становится мучительнее с каждым днем. Одинокий и мечтательный, оставшийся в 18 лет сиротой, он жестоко страдает от контраста между счастливым детством и новой казенной и равнодушной обстановкой. То, что его волновало и интересовало, не находило отклика в Инженерном училище. Он мечтал о творчестве, литературе и свободе; военная карьера его совсем не прельщает. Главное – литература и свобода, служение своему художественному дару, который он уже ощущает в себе. Именно этим объясняются странные на первый взгляд слова Достоевского из письма к брату: «У меня есть прожект сделаться сумасшедшим».
Только притворившись безумным, за оградой мнимого безумия можно остаться свободным и независимым, заниматься первыми литературными опытами, читать Шиллера и Пушкина и совсем не думать о своих прямых обязанностях в Инженерном училище. Когда Достоевского отправили ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, то он забыл отрапортовать слова: «к Вашему Императорскому Величеству». Великий князь заметил: «Посылают же таких дураков».
Достоевский имел полное право воскликнуть об учебе в Инженерном училище: «Ах, брат, ежели бы ты только имел понятие о том, как мы живем… Такое зубрение, что боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут, милый мой». Только в первой половине, например, 1841 года Достоевский должен был сдать: 7 января – фортификацию, 8 – историю, 9 – французский язык, 11—аналитику, 13 – геодезию, 14 – закон божий и начертательную геометрию, 15 – физику, 17 – архитектуру, 18 —ситуацию и русскую словесность. В апреле же начинался годичный экзамен, которым заканчивался четырехгодичный курс обучения в кондукторских классах. Снова сдавались: 22 апреля – аналитика, 26 – геодезия, 29 – начертательная геометрия, 3 мая – фортификация, 7 – артиллерия, 10 – физика, 13 – французский, 16 – русский язык, 21—история, 24 – архитектура, 27 – закон божий, 28 – черчение (фортификация), 31 —черчение (архитектура), 2 июня – черчение (начертательная геометрия) и 3 июня – черчение (ситуация).
При такой загруженности Достоевский не только был среди лучших воспитанников училища, но еще и успевал прочесть все те книги, о которых почти в каждом письме сообщал брату, делясь с ним восторгом от соприкосновения с художественным словом («весь Гофман русский и немецкий», «почти весь Бальзак», Гете, Ж. Санд, Гюго, «вызубрил Шиллера», Шатобриан и др.).
Но в письмах к брату не только восторг от прочитанных книг – в них постоянные жалобы на невозможность найти применение собственным творческим силам: «Как грустна бывает жизнь твоя, когда человек, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей… в жизни, достойной пигмея, а не великана, – ребенка, а не человека».
Правда, на прощальном вечере у брата Михаила 16 февраля 1841 года, накануне возвращения в Ревель после сдачи им экзамена на чин прапорщика полевых инженеров, Достоевский читает отрывки из своих драм «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» (они были навеяны чтением Шиллера и Пушкина), но это не в счет – он быстро понял, что драматургия не его призвание (эти первые литературные опыты не сохранились).
И снова жажда творческой свободы: «О, брат! милый брат! скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то… как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».
5 августа 1841 года последовал приказ о производстве Достоевского из кондукторов в нижний офицерский чин – полевые инженеры-прапорщики. Это был какой-то проблеск свободы, так как прапорщики-офицеры могли жить уже не в стенах Инженерного замка, а на частной квартире.
Достоевский поселяется на Караванной улице вместе с младшим братом Андреем – но не надолго: они были совершенно разные люди. Утром Достоевский посещал лекции для офицеров, а вечером Александринский театр, великий актер В. В. Самойлов (через тридцать семь лет Достоевский напишет ему письмо, где расскажет о его игре как об одном из самых ярких впечатлений юности), концерты Ференца Листа и певца Д. Рубини, опера М. Глинки «Руслан и Людмила», прогулки по Петербургу, первые пробы пера, мечты и грезы…
Следуют частые смены квартир, причем почти все они в угловых домах, – привычка, сохранившаяся у Достоевского на всю жизнь. В сентябре 1843 года он поселяется на одной квартире с доктором А. Е. Ризенкампфом, хорошо знавшим его брата в Ревеле. Доктор верно уловил в своих воспоминаниях характер Достоевского: поразительно доверчивый и щедрый, неприспособленный к жизни и добрый; через много лет жена писателя Анна Григорьевна Достоевская засвидетельствует, что таким Достоевский оставался до конца дней.
Но даже проживание на частной квартире не дает полной свободы, возможности заняться только литературным трудом, и в письмах к брату снова вечные жалобы на тяготы службы.
Наконец 19 октября 1844 года подпоручик Федор Достоевский (этот чин он получил в августе 1842 года) выходит в отставку. Как и его великий учитель Бальзак, Достоевский стал профессиональным литератором. «Насчет моей жизни не беспокойся, – пишет он брату. – Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен».
И все же пребывание в Инженерном училище не осталось бесследным в творческой биографии писателя: четкая конструкция его романов, умение в конечном итоге «распутать» самые, казалось бы, невероятные ситуации, восприятие Петербурга как города, в котором «архитектурные линии имеют свою тайну», – все это имеет прямое отношение к его первой профессии инженера.
Конечно, после выхода в отставку денежные дела оставляли желать гораздо лучшего: без жалования стало уже не всегда хватать той доли доходов с его имения в Даровом, которую ему ежемесячно посылал после смерти отца опекун Петр Андреевич Карелии – муж сестры Варвары. Достоевский предлагает за сумму в тысячу рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Однако Карелии не может быстро произвести раздел имения, и между ними завязывается любопытная переписка. Достоевский, уже работая над своим первым произведением «Бедные люди», в письмах к Карепину еще раз показал способности к литературному перевоплощению. Он может свободно перевоплощаться в своего героя, бедного чиновника Макара Девушкина.
В июле 1843 года в Петербург приезжает кумир Достоевского Бальзак. Вдохновленный его приездом, Достоевский переводит его роман «Евгения Гранде».
От социального романа французского писателя, с его состраданием к униженным и оскорбленным, прямая дорога к первому произведению Достоевского «Бедные люди». Приближалась «самая восхитительная минута во всей [его] жизни…».